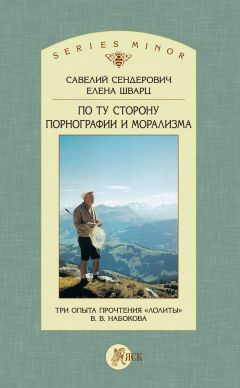
Автор книги: Савелий Сендерович
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
И все же героиня романа Набокова – не бессмертный демон и не Мэнада, как ее видит Гумберт. Она не оргиастична. И она не убивает своего бога, как это делает Мэнада. Пользуясь другим ивановским понятием, она монада – существо волевое, внутренне цельное, поставленное в положение трагической героини жестоким пуппенмейстером, распорядителем балагана жизни. Понятие монады – метонимически отмеченное в романе именем Моны Даль – Иванов заимствует, разумеется, из «Монадологии» Лейбница для того, чтобы охарактеризовать принцип единства, представляемый Аполлоном в противоположность принципу диады, представляемому Дионисом. Многократны у Иванова и высказывания о «самоопределяющейся волевой монаде, утверждающей себя независимой от всего, что не она» (Иванов 1909: 117, 333, 340 и т. д.). Повторим: монада представляет – в противоположность темному дионисийски-демоническому самопротиворечивому началу – начало волевое, ясное, светлое, неразложимо единое и простое, аполлоническое.
В статье о литовском художнике-символисте Чурленисе, посвященной проблеме синтеза искусств, Иванов приводит большую цитату из «Монадологии» Лейбница, которой завершается сборник «Борозды и межи». В этом пассаже Лейбниц демонстрирует понятие монады так: «Всякую часть вещества можно представить себе как сад, полный растений, и как пруд, полный рыб. Но каждая ветвь растения, каждый член животного, каждая капля его соков – опять такой же сад, или такой же пруд» (там же: 351). В путешествии Гумберта с Лолитой, размеченном неподвижными звездами, как у Бедекера и Иванова, упоминаются такие достопримечательности, как «рыборазводная станция в штате Идаго» и «Еллостон Парк и его цветные горячие источники, малютки-гейзеры, булькающие радужные грязи (символы моей страсти)» (195). Если «малютки-гейзеры» с последующим разъяснением – очевидное обыгрывание фамилии Лолиты – Гейз, то и парк и рыборазводная станция – это члены символического ряда, а именно, аллюзия к пассажу из «Монадологии» Лейбница, приведенному в статье Иванова, и она так же относится к Лолите – к ее монадической, или аполлонической, сущности. В сдвоенном жизненно-философском и рефлексивно-метапоэтическом смысле Набоков здесь указал на нечто очень важное для понимания того, что лежит в основе его искусства и мира, – на теоремный характер этой основы – не в математическом смысле этого слова, а в ивановском, в котором теорема, подобно таким понятиям, как мифема, стратегема, фонема, подразумевает концептуальное ядро соответствующего смыслового поля.
Диадический принцип трагедии, по Иванову, действует различным образом в женском и в мужском герое. Агонистический принцип трагедии заключается в том, что мужской герой противостоит противнику, похожему на него, как двойник. Если в женщине-героине происходит внутреннее раздвоение, то с мужским героем происходит внешнее удвоение (Иванов 1916: 250). Таковы Дионис и его антагонист Ликург. Именно таково соотношение между Гумбертом и Куильти – антагонистами и зеркальными подобиями. Убивая своего антагониста ЛИКУрга – КУИЛьти, Гумберт убивает собственное отражение. Здесь находится разгадка и удвоенного имени Гумберт Гумберт – это внешний образ удвоения. Джон Рэй видит в этом псевдониме «маску, сквозь которую как будто горят два гипнотических глаза» (11). «Ведь и по существу исследуемого предмета, – говорит Иванов, – можно предугадать, что раскрытие диады в психологии личности должно выражаться исступлением и что искусство, представляющее это раскрытие в действии, должно быть отображением не состояний спокойного разумного сознания, но состояний выхода из него – душевных аномалий» (Иванов 1916: 244).
Как проявление трагической душевной аномалии и должна быть понята мнимая педофилия Гумберта. Это эстетически усовершенствованная проекция гибельного желания обладать менадой, которая не имеет собственной воли, является своего рода куклой, еще-не-личностью, ребенком. Иванов подчеркивает, что трагическое аномальное сознание бывает внешне отмечено сугубой логичностью. «Soyons logiques, кукарекала и петушилась галльская часть моего рассудка», – хватается за соломинку Гумберт в разгаре своего безумия (293). Отличительно ивановская формула трагедии, её теорема, разыграна у Набокова сполна.
Наконец, трагический хор, из которого на первоначальной стадии становления трагедии выступил, чтобы погибнуть, герой, по Иванову, в процессе развития трагедии становится представителем Аполлона. В конце «Лолиты», Гумберт, после убийства Куильти настигаемый полицией, останавливает автомобиль и вызывает в памяти мираж однажды слышанного светлого хора детских голосов, и его поражает ужасом то, что в этом хоре нет голоса Лолиты (374). Это развязка трагедии. В ее начале есть другой образ хора – список класса Лолиты, который полон особого значения для Гумберта (67-9). Из этого хора выступила трагическая героиня Гейз Долорес – в таком виде ее имя находится в классном списке, и в этой официальной перестановке имени и фамилии Гумберт видит маску, – выступила и погибла.
Заметим теперь, что певец дионисийского безумия Вяч. Иванов нисколько не безумен как в качестве поэта, так и в качестве теоретика – он предельно ясен, уравновешен, аполлоничен, настаивая на дионисическом послушании божественной воле. В этом есть нечто балаганно-комическое, если посмотреть на фигуру Иванова на фоне его теорем.[5]5
«Марионеточного» Иванова и Иванова-шута представлял в своих мемуарах уже А. Белый (Белый: 1990: 344, 346).
[Закрыть] И если вспомнить, что он настойчиво призывал к слиянию искусства и жизни и пророчествовал: «Искусство станет лицедейством жизни» (Иванов 1916: 239), то релевантность обращения к его фигуре окажется несомненной и даже неизбежной для такого заинтересованного и иронического наблюдателя как Набоков.
Если развернутая нами выше сеть идей и образов представляет собой основу, на которой возникла «Лолита», то взгляд, брошенный на фигуру Иванова, предоставляет возможность проследить рождение и судьбу мотива, составляющего сердцевину сюжета «Лолиты».
Кукла Иванов
Когда С.А. Венгеров стал создавать «Историю русской литературы ХХ века» (самому веку еще не минуло двух десятилетий), он обратился к ряду писателей с просьбой прислать ему автобиографический очерк. «Автобиографическое письмо» Вяч. Иванова к Венгерову было написано в Сочи в январе-феврале 1917 г. В нем есть такое признание о решающем событии в его жизни:
Властителем моих дум все полнее и могущественнее становился Ницше. Это ницшеанство помогло мне – жестоко и ответственно, но, по совести, правильно – решить представший мне в 1895 г. выбор между глубокою и нежною привязанностью, в которое обратилось мое влюбленное чувство к жене, и новою, всецело захватившею меня любовью, которой суждено было с тех пор, в течение всей моей жизни, только расти и духовно углубляться, но которая в те первые дни казалась как мне самому, так и той, которую я полюбил, лишь преступною, темною, демоническою страстью. Я прямо сказал о всём жене, и между нами был решен развод. Прежде чем были устранены многие препятствия, стоявшие на пути к нашему браку, я и Л.Д. Зиновьева-Аннибал должны были несколько лет скрывать свою связь и скитаться по Италии, Швейцарии и Франции. Друг через друга нашли мы – каждый себя и более, чем только себя: я бы сказал, мы обрели Бога. Встреча с нею была подобна могучей весенней дионисийской грозе, после которой все во мне обновилось, расцвело и зазеленело. (Венгеров 1917: 93–94)
Здесь замечательно всё – от признания, что он стал ницшеанцем в личной жизни, до дионисийских терминов в описании своего весеннего обновления. Иванов с помощью Ницше находит своего Бога в Дионисе.[6]6
Следуя за Ницше, Иванов в то же время поучал его. Он считал, что Ницше сам не понял, что Дионисом он называет Христа, что, будучи правым в своей философии и психологии, Ницше ошибся в своей исторической концепции: от Диониса до Христа под разными именами проходит единая история религиозных поисков человека. Христианство – единственно возможный последний вывод того устремления, которое началось в дионисийстве (Иванов [1923]: 11).
[Закрыть] Мэнадой, спутницей Диониса, называл в своих стихах Иванов Лидию Зиновьеву-Аннибал. Оргиастический характер дионисийства в этом отношении не исчерпывает смысла ситуации. Еще важнее здесь то, что само по себе «Происхождение трагедии из духа музыки» не дает достаточного основания для понимания поступков Иванова. Если в своих теориях Иванов следовал за «Происхождением трагедии», то в жизни он был очевидным последователем идей, развернутых в книгах «По ту сторону добра и зла» и «Происхождения морали». С помощью Ницше Иванов переступает через традиционную, то есть христианскую мораль.
Поэтическим результатом явилось тематическое раскрепощение. Символисты вернули и легитимизировали эротизм, изгнанный из русской литературы в послепушкинскую пору (можно сказать, викторианскую эпоху). Во главе нового направления стояли Вяч. Иванов и его жена, Лидия Зиновьева-Аннибал. Иванов стал также теоретиком эротизма. В статье «Мысли о символизме» он дал эротическое определение символа и Символизма:
Когда эстетическое переживается эротически, художественное творение становится символическим. Наслаждение красотою, подобно влюбленности в прекрасную плоть, оказывается начальною ступенью эротического восхождения. Неисчерпаемым является смысл художественного творчества, так переживаемого. Символ – творческое начало любви, вожатый Эрос. (Иванов 1916: 149)
Здесь речь идет об определении Художника. Но Вяч. Иванов был не только поэтом и теоретиком эротического. Еще более замечательна его жизненная практика, его личная жизнь, о которой он говорит в цитированном выше письме к Венгерову и которая стала важным фактом литературного быта Серебряного века. Иванов сумел осуществить то соединение поэзии и жизни, о котором он любил говорить теоретически.
Иванов осуществил свою идею и второй раз: через три года после скоропостижной смерти Л. Зиновьевой-Аннибал он вступил в связь с ее дочерью, своей падчерицей, красавицей Верой («Примаверой») Шварсалон. Перед нами прототип «Волшебника» и «Лолиты». Не заметить этого человек Серебряного века не мог. Не удивительно и то, что фигура самого философа и поэта предстала перед Набоковым на фоне ивановского литературного контекста – она отделяется от этого фона и входит на правах действующего лица в набоковский мир.[7]7
Выскажем догадку, что гумбертова первая любовь, рано умершая Аннабелла, помимо очевидной аллюзии к любви Э.А. По, совпадает с контуром тени Зиновьевой-Аннибал. Иванов оправдывал свою женитьбу на падчерице тем, что она напоминает ему умершую жену, Гумберт Гумберт намекал на то, что его тяга к нимфеткам движима неизгладимой памятью о его умершей первой любви.
[Закрыть] Так возникает кукла Иванов, которой поручаются различные роли.
Гумберт Гумберт родился в 1910 г., том самом, в котором Вячеслав Иванов вступил в связь со своей падчерицей, а Блок написал свой «бедекер по Иванову». В послесловии к «Лолите» Набоков указал на то, что замысел «Лолиты» связан с десятью годами ранее написанным рассказом «Волшебник», в котором он впервые разработал тему трагической любви немолодого мужчины к девочке-подростку, чьей близости он добивается путем женитьбы на ее смертельно больной матери, так что дочь вскоре остается на его попечении.
Почему рассказ называется «Волшебник»? Почему и Гумберт Гумберт, поэт a ses heures, называет себя «хитрым кудесником» (65)? Возможно, потому, что по Иванову, поэт-символист должен «цельно воплотить в своей жизни и своем творчестве (непременно и в подвиге жизни, как в подвиге творчества) миросозерцание мистического реализма или – по слову Новалиса – миросозерцание «магического идеализма» (Иванов 1916: 136-7).
Набоков рассказал в Послесловии к американскому изданию «Лолиты» об обстоятельствах, в которых возник замысел рассказа «Волшебник»; рассказал в своей неподражаемой манере, – во-первых, оставил неясным, какова связь между тем, что он рассказал, и замыслом «Волшебника», во-вторых, дал ключ к решению этой загадки, а точнее – тут его и спрятал:
Первая маленькая пульсация «Лолиты» пробежала во мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года, в Париже, на рю Буало, в то время, как меня пригвоздил к постели серьезный приступ межреберной невралгии. Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне в парижском зоопарке, которая, после многих недель улещиванья со стороны какого-то ученого, набросала углем первый рисунок, когда-либо исполненный животным: набросок изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заключен. (377-8)
Это образцовый набоковский ход: как будто нечто раскрывается, но при этом скрыто более, чем раскрыто. Сообщение скорее интригует, чем что-либо разъясняет. Связь толчка с последующим ходом мысли вызывающе мистифицирована. Какова же связь между рисующей решетку обезьяной и замыслом предшественника «Лолиты» – «Волшебника»?[8]8
Что касается рю Буало, то этот реальный парижский адрес Набокова в данном случае напоминает о высшей реальности французского классицизма, истории трагедии и, в конечном счете, теории Иванова.
[Закрыть] Как обычно у Набокова, ключ лежит в интертекстуальном плане – мы можем найти его в статье Вяч. Иванова «Манера, лицо, стиль» (1912). Статья эта продолжает обсуждение проблемы слияния жизни и искусства, ранее поднятой в статье «Заветы символизма» (1910), на которую откликнулся Блок своей статьей проблему «О современном состоянии русского символизма».
С точки зрения реального символиста Иванов пересматривает, античную проблему мимесиса (подражания), традиционно считавшегося основой искусства. Он задается вопросом, как может художник избежать эклектичности, если он занят отображением жизни? Его ответ: «проникнув все наше творчество дыханием души живой». Душа живая обитает в целостной личности, откуда и исходит единство произведения искусства. Однако современный человек потерял веру в «субстанциальное единство», и душа для него – не субстанция, а только способ существования.
Как сделать искусство жизненным, если оно бежит жизни? Если же оно осталось в жизни, то, конечно, неправильно видеть свое назначение в том только, чтобы пассивно отражать жизнь. Тогда начинает в нем преобладать элемент миметический, который, по справедливому мнению Платона, есть лишь первородный грех искусства, его отрицательный полюс. “Художник – не обезьяна”, скажем мы, повторяя слова одного античного поэта Эсхиловой школы, который так обозвал знаменитого актера своего времени, тянувшего трагедию Софокла к психологическому натурализму. Чтобы искусство было жизненно, художник должен жить… (Иванов 1916: 176-7)
Если мимесис как принцип примитивный превращает художника в обезьяну, то, естественно, первый шаг обезьяны к искусству – миметический. Обезьяна, упомянутая Набоковым, воспроизведя происхождение искусства, исполнила роль миметического художника: она создала образ своей собственной клетки. Подлинный художник, по Иванову, воспроизводит не свою клетку, а свое внутреннее я, свою собственную душу. Газетная заметка, которую Набоков, быть может, придумал, – это забавное переложение ивановской теории. В этой связи клетка, которую нарисовала обезьяна, приобретает особенный смысл. Набоков сообщает, что прочел заметку во время приступа межреберной невралгии. Это казалось бы случайное, «реалистическое» обстоятельство, полно смысла. Набоков оставил комментарий о символическом значении этой болезни в стихотворении, написанном тогда, когда работа над «Лолитой» была в начальной стадии:
Neuralgia intercostalis
Нет, то не ребра
– эта боль, этот ад —
это русские струны
в старой лире болят.
(Во время болезни) Март-апрель 1950 г.
(Стихи: 282)
«Меня же только мутит ныне от дребезжания моих ржавых русских струн» – вторит этому стихотворению Набоков в Постскриптуме к русскому изданию «Лолиты» (386), имея в виду то, что он к этому времени ушел из русского языка и русской темы.
Словом, клетка, которая была у Набокова на уме, – не символ внешнего заключения, а собственная грудная клетка, обиталище его живой души. Как обычно, набоковская мысль движется не по пути абстрактных сопоставлений и выводов, то есть не по пути наименьшего сопротивления, а по капризному пути глубинных ассоциаций. Вяч. Иванов не только теоретически опротестовал сходство между художником и обезьяной, но и отверг миметический принцип в жизни – своей собственной неподражательной и сенсационной жизнью. Не в этой ли связи следует читать замечание Набокова о «первой пульсации “Лолиты”»: «Толчок не связан был тематически с последующим ходом мыслей, результатом которого, однако, явился прототип настоящей книги:
рассказ, озаглавленный «Волшебник», в тридцать, что ли, страниц» (378)?
Скрытая связь здесь включает, в терминологии Р.О. Якобсона, не только канал, но и сообщение. Ассоциация ивановской личной истории с его теорией дает неожиданный прибавочный продукт: изображение западни, или клетки, в которую человек посажен или сажает самого себя. Увозя Лолиту из Бердслея, сходя с ума от ревности, Гумберт Гумберт чувствует, что попал в западню. Но за рулем автомобиля, неуклонно его преследующего, он подозревает всего лишь сыщика. Этот мнимый сыщик кажется ему похожим на его собственного дядю Траппа (англ. trap, ловушка). Мало того, мнимый сыщик, Клэр Куильти, похож на него самого, как брат. То, чего не сознает Гумберт, но что знает его подсознание, – это, что он находится в собственной ловушке. Итак, сквозь примитивный миметический образ, созданный обезьяной, в набоковском контексте сквозит другая, реальнейшая реальность – realiora.
В списке достопримечательностей, которые Гумберт и Лолита осматривали в их первом путешествии по Америке, есть «Зоологический парк в Индиане с большой компанией обезьян, обитающей на бетонной реконструкции флагманской каравеллы Христофора Колумба» (195). Американская Индиана – напоминание о том, что чужим именем, Индией, Колумб назвал отрытый им новый мир. Колумб, называющий Индией чаемую и открытую им страну, это образ, с помощь. которого Иванов определяет символистов в статье «Предчувствия и предвестия» (1906): «Символы наши – не имена; они – наше молчание. И даже те из нас, которые произносят имена, похожи на Колумба и его спутников, называвших Индией материк, что вот-вот выплывет из-за дальнего горизонта» (Иванов 1909: 193).
В «Волшебнике» проступают следы его источника. Размышляя о своей одержимости девочками-подростками, герой повествования думает, что это не так уж неестественно, что он мог бы быть отличным отцом одной из них, что вряд ли можно установить границу между отцовским чувством и более страстной его разновидностью, «надо ли все-таки разводить их по разным родам, или то – редкое цветение этого в Иванову ночь моей темной души» (ССРП: 5. 44). В полном отзвуков и теней языке Набокова «Иванова ночь» отсылает к славянскому архаическому ритуалу, приуроченному к кануну дня Иоанна Предтечи, празднуемого 24 июня, но Иванова ночь – это еще и ночь Иванова.[9]9
Ср; аналогичные игры в других текстах Набокова: «знакомый труп», вместо «труп знакомого» («Дар»); «белая статуя поэта», вместо «статуи поэта Белого» («Приглашение на казнь»). См. Сендерович и Шварц 1997а.
[Закрыть]
Одна из ранних версий темы любви отчима к падчерице у Набокова появилась в «Даре». История тайной любви Щеголева, бывшего прокурора и старого пошляка, к падчерице Зине имеет фарсовый характер. Поведан этот безобразный фарс на Агамемнонштрассе, название улицы отсылает к «Орестейе», античному трагическому циклу, в котором немалую роль играет инцест. Эта аллюзия – в соответствии с обычаем набоковской поэтики – в свою очередь влечет другую аллюзию – к главному в Серебряном веке теоретику греческой трагедии, Вяч. Иванову.[10]10
В том же 1910 г; на башне Иванова было поставлено Мейерхольдом «Поклонение кресту» Кальдерона, где происходит (непреднамеренный) инцест брата и сестры. Брата, Эусебио, играла Вера Шварсалон (см. напр. Пяст 1997 [1929]: 119).
[Закрыть] И в самом деле «Дар» полон полемики с Ивановым по поводу Пушкина, которого тот поучал в духе своей теории дионисийского культа как хорового единства, утраченного впоследствии европейской культурой, откуда происходит трагедия лирического поэта (см. Сендерович и Шварц 1999а). Не менее существенно то, что в «Заветах символизма» Иванов осуждает Пушкина за его воззрение «на адекватность слова, на его достаточность для разума, на непосредственную сообщительность „прекрасной ясности“, которая могла быть всегда прозрачной, когда не предпочитала – лукавить!». Пушкинской ясности он предпочитает тютчевскую темноту (Иванов 1916: 126-7). Прокурорская установка в литературной критике претила Набокову, что и нашло отзвук в фигуре прокурора Щеголева.
Набоков высмеял тех, кто называл Аду «сестрой Лолиты». В самом деле, сверхъестественно чувственная Ада – противоположность нормальной девочки Лолиты. Но «Ада» – в своем зеркально перевернутом мире – продолжает линию произведений о нимфетках и роковом характере любви к ним. Поэтому неудивительно, что в «Аде» встречаются уж совсем балаганные рефлексы Вяч. Иванова. Таков написанный пастозным маслом портрет предка Ады, «старого князя Всеслава Земского (1699–1797), друга Линнея и автора «Flora ladorica»: он держит свою едва ли достигшую подросткового возраста невесту и ее русую куклу на своих обтянутых атласом коленях» (Ada: 46). Линней, великий классификатор природы, – отличная компания знаменитому классификатору культуры Иванову; прозрачна рифма Всеслав/Вячеслав.
Еще более выразительная виньетка в той же «Аде» выглядит и вовсе гротескно:
Один американец, некто Иван Иванов из Юконска, охарактеризованный “по обыкновению пьяным работягой” (“удачное определение, – сказала Ада с усмешкой, – настоящего художника”), как-то сумел обрюхатить – во сне, как настаивал и он сам и его большая семья – свою пятилетнюю праправнучку Марью Иванову, а затем пять лет спустя – еще сделал ребенка марьиной дочери Дарье в новом приступе сонливости. Фотография Марьи, десятилетней бабушки, с маленькой Дарьей и грудной Варей, ползающей около нее, обошла все газеты… (Ada: 142)
Конечно же, в «определении настоящего художника» опьянение – карикатура дионисийского опьянения. Сомнабулизм новой поэзии декларировался Вяч. Ивановым неоднократно, в том числе и в «Заветах символизма». А имя Иванов отлично служит маской даже не будучи изменено.[11]11
Сравни: «Нынешний вестник называл себя Джеймс Джонс – формула, настолько лишенная коннотаций, что представляет собой идеальный псевдоним, несмотря на то, что это было его подлинное имя» (Ada: 350).
[Закрыть]
Предшественником Ивана Иванова «Ады» был не кто иной, как Гумберт Гумберт «Лолиты»:
…признаюсь, смотря по состоянию моих гланд и ганглий, я переходил в течение того же дня от одного полюса сумасшествия к другому – от мысли, что около 1950-го года мне придется тем или иным способом отделаться от трудного подростка, чье волшебное нимфетство к тому времени испарится, – к мысли, что при некотором прилежании и везении мне, может быть, удастся в недалеком будущем заставить ее произвести изящнейшую нимфетку с моей кровью в жилах, Лолиту Вторую, которой было бы восемь или девять лет в 1960-ом году, когда я еще был бы dans la force de l’âge. Больше скажу – у подзорной трубы моего ума или безумия хватало силы различить в отдалении лет un vieillard encore vert (или это зелененькое – просто гниль?), странноватого, нежного, слюнявого д-ра Гумберта, упражняющегося на бесконечно прелестной Лолите Третьей в “искусстве быть дедом”, – воспетом Виктором Гюго. (214)
На фоне реконструируемого контекста рефлекс Вяч. Иванова различим и в рассказе «Совершенство» (1932). Герой рассказа носит имя Иванов. Он ничем не напоминает Вяч. И. Иванова, но его влюбленность в старые географические карты принадлежит тому же смысловому полю, что и «Кормчие звезды» и символисты-Колумбы. Эти летучие подобия оживают постольку, поскольку составляют окружение ключевой фигуры сокрытия. За день до смерти Иванов ведет мальчика Давида, порученного его заботам, в лес, потому что лес «[э]то первая родина человека. В один прекрасный день человек вышел из чащи дремучих наитий на светлую поляну разума» (ССРП: 3. 598). Знаменитая фраза Бодлера «L’homme y passe а travers de forêе des symbols» неоднократно интерпретировалась Вяч. Ивановым. Например, в статье «Две стихии в современном символизме» он писал: «В символах, обставших дух, “как лес” (по уподоблению Бодлера) была найдена вселенская правда» (Иванов 1909: 243). И далее: «Всякая вещь есть уже символ, тем более глубокий, чем прямее и ближе причастие этой вещи реальности» (274), читай: абсолютной реальности, или совершенству. В «Спорадах» Иванов признавал, что облачители, они же символисты, «любят в маске символ – тело тайны», при этом они «заводят в темный лес и часто не умеют вывести из него заблудившихся» (345). Набоковский Иванов из рассказа «Совершенство» заблудился сам. В момент смерти с его глаз спадают темные очки и мир обретает собственные краски. Как бы между прочим в «Совершенстве» брошена следующая фраза: «…Иванов подходил к самому приплеску <…> и вдруг отскакивал: волна, разлившись дальше предтечи, облила ему штаны» (ССРП: 3. 597). Незаметное в этом контексте слово предтеча метонимическим рикошетом придает повышенную значимость имени Иванов, напоминая об Иоанне Предтече и, следовательно, об Ивановой ночи. К скромному репетитору, герою набоковского рассказа, в реальном смысле это никакого отношения не имеет, но зато в другом плане – в плане realiora – смысл этого намека формульный. И в самом деле, Вяч. Иванов был Предтечей – Блока, Мессии Символизма, – не в хронологическом смысле, но как создатель идей, подхваченных Блоком и положенных им в основу прозы его очерков и статей, которая владела воображением Набокова. В предисловии к английскому изданию рассказа «Совершенство» Набоков писал: «Хотя я и давал частные уроки в годы моей экспатриации, я отказываюсь от какого-либо иного сходства с Ивановым» (Stories: 652). Сходство тут слишком призрачное, чтобы от него нужно было отрекаться, но у Набокова были серьезные причины отмежеваться от носителя идеального псевдонима.[12]12
И о Гумберте Гумберте, балаганном, карикатурном исполнителе роли мистического анархиста Иванова, Набоков нашел нужным сказать: «…мною изобретенный Гумберт – иностранец и анархист; и я с ним расхожусь во многом – не только в вопросе нимфеток» (383).
[Закрыть]
Обманчивая сирена
В «Постскриптум к русскому изданию» «Лолиты» перешел последний абзац английского «Послесловия». Набоков замечает, что сохранил его в переводе лишь из научной добросовестности. Вот выдержка из этого абзаца, на который Набоков так настойчиво обращает наше внимание:
Личная моя трагедия – которая не может и не должна кого-либо касаться – это, что мне пришлось отказаться от природной речи, от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского слога ради второстепенного сорта английского языка, лишенного в моем случае всей той аппаратуры – каверзного зеркала, чернобархатного задника, подразумеваемых ассоциаций и традиций – которыми туземный фокусник с развевающимися фалдами может так волшебно воспользоваться, чтобы преодолеть по-своему наследие отцов. (385)
На чернобархатном фоне слога этого пассажа Набоков продемонстрировал нам тот самый фокус, о котором говорит – в то самое время, как он говорит о нем. Самый образ волшебника в конце «Послесловия» вряд ли случаен в тексте, где замысел «Лолиты» поставлен в связь с рассказом «Волшебник». Как мы показали, замысел этого рассказа связан с воспоминанием о Вяч. Иванове. В поддержку этого анализа приведем характерные слова Иванова о художнике из одной из самых известных его статей, «Две стихии в русском символизме» (1908):
Но раз ступив на путь идеализма, художник неминуемо пойдет далее по наклонной плоскости личного дерзновения; рано или поздно он откажется от принципа символического ознаменования ради красоты своего, свободно расцветшего в душе “идеала”, который он передаст толпе, как произведение своей мечты, своего “творчества”, чтобы пленить ее зрелищем красоты, только красоты, быть может, не существующей в действительности ни здесь, ни выше, но тем более милой, как залетная птица из сказочных стран, рано или поздно станет и провозгласит себя художник обманчивой сиреной, волшебником, вызывающим по произволу обманы, которые дороже тьмы низких истин, рано или поздно он подымет этот мятеж против истины из недоверия к сокровенным возможностям ее осуществления в красоте. (Иванов 1909: 254-5)
«Волшебник» был написан художником, который видел в искусстве восхитительные обманы и хотел быть обманчивой сиреной.[13]13
Ср. второе интервью Набокова Аппелю в авг. 1970: «… в древнерусской мифологии [Sirin] это разноцветная птица, с женским лицом и грудью, без сомнения идентичная с “сиреной”, греческим божеством, переносящим души и искушающим моряков». (SO: 161).
[Закрыть] Недаром и подписывался он в ту пору псевдонимом Сирин, другой формой того же имени. Он был всю жизнь мятежником против символистского «реализма», то есть на самом деле трансцендентного мистицизма, того, что Вяч. Иванов называл «Заветами символизма» и на который автор «Послесловия» к «Лолите» откликнулся желанием «преодолеть по-своему наследие отцов» (заветы в ивановском контексте и значит наследие).
Тут важно не запутаться: в «Послесловии» к «Лолите» речь идет о двух «волшебниках» и, соответственно, о двух романах – романе «Светлокожего Вдовца» Гумберта Гумберта и романе Владимира Набокова «Лолита». О двух разных магиях идет речь и в «Двух стихиях в русском символизме» Вяч. Иванова. Словом, Набоков противостоит Иванову как волшебник – волшебнику.
В том же абзаце «Послесловия» следует обратить внимание на фразу: «мне пришлось отказаться от природной речи, от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского слога». Они звучат как начало пассажа, продолжение которого мы находим в «Других берегах», точнее – в Предисловии к переводу автобиографии «Conclusive Evidence», (написанному в год окончания «Лолиты», 1954):
Переходя на другой язык, я отказывался таким образом не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого, или Иванова, няни, русской публицистики – словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. (ССРП: 5. 143)
Заметим, Иванов как нарицательное имя не отличается от няни и – следовательно, избыточен рядом с ней, но ряд – Иванов как Вяч. Иванов, няня и русская публицистика – имеет особый смысл: он представляет элитарную культуру, народную культуру и среднюю культуру образованной России. Здесь тот же, уже знакомый нам прием: общее имя служит совершенным псевдонимом, позволяющим скрыть названное буквально имя.[14]14
В «Подвиге» кембриджские друзья Мартына Эдельвейса спрашивают, не знает ли он Иванова из Москвы (ССРП 3. 138). Эта шутка, рикошетом вводит вячеслав-ивановский контекст.
[Закрыть] Иванов здесь недаром назван среди носителей общего языка, и в противоположность носителям языка индивидуального – язык Вяч. Иванова был языком эпохи младшего Символизма.
Наконец, начальные слова того же рассматриваемого нами пассажа: «Личная моя трагедия» – не имеет ничего общего с драматизацией своего состояния. На концептуальном уровне – задающем контекст набоковскому высказыванию – это противопоставление себя ивановской концепции художника, искусства, трагедии. Настоящий художник, то есть «реальный» символист, по Иванову, не выражает свое личное, а познает «реально» существующую истину. Трагедия – высочайший образец искусства – есть общее дело и не может быть личной. «Личная трагедия» для Иванова – оксюморон, для Набокова же – единственно существенный предмет искусства. То, что ценит Набоков, редкое, уникальное, единственное – заявляет о себе тем, что переступает общие законоустановления морали, но исключительно в области искусства. И мистическое трансцендирование и проецирование искусства на жизнь – ложные шаги для художника, спускавшегося в ад подсознания. Художник остается в своем балагане.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































