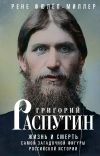Автор книги: Сборник статей
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Образы памяти и бессознательное
Другой аспект мифа о «вечном возвращении» составляют пронизывающие повествования В. Распутина (как, впрочем, и всю деревенскую прозу) образы памяти, воспоминаний и грез о былом – давно ушедшем и воссоздающемся в настоящем и будущем. Ведь «жизнь нельзя исправить, а можно только создать заново»19 – пусть на миг, в мечтах и воображении, но и в читательской памяти как сознании будущего. Появляющееся в такой прозе «переживаемое время» – и соответствующий ему «переживаемый символ» – делает последний средоточием родовой памяти как национального достояния (это может быть символ родового дома, родного двора, подворья и прочее). Феномен памяти, сопрягаясь с психологическим временем автора (повествователя) и героев, формируется на пересечении настоящего и прошлого: именно здесь и точка пересечения таких традиционных, казалось бы, писателей, как Распутин, с Набоковым, Прустом, Джойсом, Газдановым, Соколовым и другими писателями-модернистами.
Еще у Солженицына в «Матренином дворе» старая крестьянка доверяет повествователю свои сокровенные воспоминания о «потерянном рае» довоенной России и своего личного (несбывшегося в военном расколе) счастья. Переносится мыслями в прошлое умирающая крестьянка Анна в «Последнем сроке» Распутина. Вторя своей песне, погружается в картины былого фронтовик Сергей Митрофанович в «Ясным ли днем» Астафьева. Воспоминания о погибшем, не сбереженном ими сыне преследуют стареющую чету в «Домашнем философе» Личутина. Но чаще всего память выступает как идеальная модель сознания и бессознательного, давая убежище нереализованным стремлениям, тайным образам желаемого (личностного развития, собственной судьбы), но и представляя ментальное пространство для сожаления, обиды, горечи прожитого, испытанных унижений и т. п. Вот даже благостная крестьянка Анна у Распутина на пороге кончины испытывает внезапную горечь при сравнении своей нехитрой судьбины с «какой-то другой, непонятной, неизвестной старухе жизнью» уехавшей в город дочери:
«А что старуха видела в своей жизни? День да ночь, работу да сон. Вот и крутилась будто белка в колесе, и все, кто жил с ней рядом, тоже крутились ничем не лучше, считая, что так и надо» (с. 30).
Однако углубление в сферу личной памяти (автора, героя) сопряжено у Распутина с проникновением в пласты прапамяти, первооснов национального бытия. Так, «Последний срок» пронизан переходами от личных впечатлений, воспоминаний героев о своем детстве, юности – к авторским обобщенным размышлениям на бытийно-философском уровне. Порой оба темпоральных пласта соединяются, свертываясь в единой модели мироздания как традиционного для деревенской прозы символа дома, хранилища родовой крестьянской памяти:
«В какой-то момент старухе почудилось, что она находится в старом, изношенном домишке с маленькими закрытыми изнутри окнами, а звездное завораживающее сияние проходит сквозь стены, сквозь крышу. Каждое из окошек – это воспоминание о ком-нибудь из ребят: здесь о Люсе, здесь о Варваре, а это об Илье, о Михаиле, о Таньчоре. Сверху еще один ряд совсем маленьких заколоченных окошек, которые трогать ни к чему, – это воспоминания о тех, кого уже нет в живых. Как лунатик, старуха бродит от окошка к окошку, не оставляя после себя тени, и не знает, какое из них ей открыть, куда посмотреть, кого выбрать. Вся жизнь тут, в этих окошках» (с. 131).
В распутинском рассказе «Век живи – век люби» размышления философско-психологического порядка, сопряженные с проникновением в прамять, архетипические пласты бессознательного передоверены автором юному герою, ищущему самостоятельного ответа на мировоззренческие вопросы. На первый план в результате саморефлексии героя выходит представление об изначально данной человеку – то есть врожденной, архетипической, передающейся по наследству – памяти об общем будущем и о своей собственной судьбе.
Реалии крестьянского фатализма (герой находится в родовом доме сельской бабушки) обретают отзвук в личном ментальном опыте («воспоминания» мест, только что увиденных в данный момент, и т. п.). Можно представить, здесь перед нами развертывается уникальный эксперимент с родовой памятью – «задержанной», сохраненной в генетическом коде потомка, неосознанно стремящегося к тому, что уже было обозначено как «возвращение подавленного времени».
«Не существует ли в нем [то есть в человеке, рефлектирует распутинский герой. – А. Б.] всю жизнь от начала и до конца память, которая и помогает ему вспомнить, что делать. Быть может, одни этой памятью пользуются, а другие нет или идут наперекор ей, но всякая жизнь – это воспоминание вложенного в человека от рождения пути»20.
Философия времени у Распутина и других лучших представителей деревенской прозы, показывают подобные образцы, многомерна – как многомерно и загадочно само неуловимое время. Так, В. Личутин и К. Воробьев, признавая существование особой темпоральной материи, задаются вопросом: куда исчезает время? Причудливость текучих темпоральных форм в «Прощании с Матерой» Распутина или, скажем, в «Домашнем философе» Личутина рождает ассоциации «время – река» и создает ощущение условности человеческих представлений о времени. Так, старуху Дарью, умом понимающую, что «остановят Ангару – время не остановится», не покидает иррациональное ощущение единства их движения: «И билась, билась короткая и упрямая, оборванная мысль: течет Ангара, и течет время» (с. 260).
А «домашнего философа» Баныкина, рефлектирующего при виде спящей, словно б в коконе, жены, посещает ощущение ирреальности прожитого мгновенья да и самих «физических» форм человеческой темпоральности. Кажется ему, «словно бы она [Фиса. – А. Б.] покинула Баныкина в то самое мгновенье, когда сказала: “Баныкин, я уеду от тебя”, Фисина оболочка была еще возле, ненадежно защищенная ворохом тряпок, а душа ее двигалась уже бог знает куда, торжествующая и довольная обретенной свободой»21.
У Воробьева в повести «Почем в Ракитном радости» авторское «я» несет в себе противодействие ситуации утраты, исчезновения (людей, возможностей судьбы, жизненных периодов). Мир души, памяти оказывается куда важнее и сильнее, чем это казалось в бытность материалистического отрицания его значительности.
«…Куда исчезает – и исчезает ли? – из мира то, что потрясло когда-то все корешки его души [задумывается повествователь. – А. Б.] <…> Куда может деться тот бесконечно огромный серый мартовский день?.. Нет, это не исчезает из мира. Оно навсегда остается в своем первозданном виде, с началом, продолжением и концом, и хранится в кладовке вселенной где-нибудь там, в космосе, как суть и основание жизни…»22
Именно память в деревенской прозе – сущностный показатель многомерности, серийности времени23. Ф. Абрамов особо отмечает этот момент в незавершенном романе «Чистая книга», характеризуя свою «идеальную» героиню – старицу Махоньку:
«И еще одно богатство Махоньки – ее память, способность жить одновременно в разных мирах. Самый страшный враг человека – время. Оно не дается ему. Он не может преодолеть его. Махонька из породы тех редких людей, которые научились преодолевать время. Она может путешествовать из одной эпохи в другую» (мысленно, конечно. – А. Б.)24.
Своим умом пытается дойти до обобщающих прозрений старая крестьянка Дарья в распутинском «Прощании с Матерой» в своих внутренних беседах с ушедшими от нее родичами, осмысливая невероятную ситуацию утраты и разрыва с былым материнским укладом. В ее сознании – на грани родового бессознательного, через видения грядущего божьего суда – возникает, как у умирающей старухи Анны из «Последнего срока», взгляд извне, из глубин родовой памяти.
«“Устала я, – думала Дарья. – Ох, устала, устала. Щас бы никуды и не ходить, тут и припасть. И укрыться, обрести долгожданный покой. И разом узнать всю правду. Тянет, тянет земля. И сказать оттуль: глупые вы. Вы пошто такие глупые-то? Че спрашивать-то? Это только вам непонятно, а здесь все-все до капельки понятно. Каждого из вас мы видим и с каждого спросим. Спросим, спросим. Вы как на выставке перед нами, мы и глядим во все глаза, кто че делает, кто че помнит. Правда в памяти”.
И уже с трудом верилось Дарье, что она жива, казалось, что произносит она эти слова, только что познав их, оттуда, пока не успели ей запретить их открыть. Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни» (с. 285).
Действительно, особую популярность у Распутина и сходных с ним по мироощущению прозаиков в воссоздании «серийного» времени получают пограничные формы: погружение в сны, галлюцинации, видения и т. п. Кажется, память героя всемерно расширяется, проникая в сновидческие или даже болезненные, депрессивные состояния. Многие страницы «Последнего срока» посвящены изображению состояния меж жизнью и смертью, когда человеку открываются дремавшие ранее пласты прапамяти: наследуемое в генетическом коде, не поддающееся рассудку знание экзистенциональных законов. Знание, данное изначально, как и любому человеку, героине повести – крестьянке Анне.
«Старуха хорошо знала, как она умрет, так хорошо, словно ей приходилось испытывать смерть уже не один раз. Но в том-то и дело, что не приходилось, а все-таки почему-то знала. Ясно видела всю картину перед глазами… Она уснет, но не так, как всегда, незаметно для себя, а памятно и светло – словно опускаясь по ступенькам куда-то вниз и на каждой ступеньке приостанавливаясь, чтобы осмотреться и различить, сколько ей еще осталось ступать» (с. 128).
А, скажем, в «Высшей мере» Екимова пролог и эпилог, образуя кольцевую композицию, вводят читателя в мир сновидческих грез героя, находящегося в состоянии болезненной депрессии, и представляют весь рассказ о его судьбе на грани яви и сна, грезы жизни о самой себе. Вот как это звучит, к примеру, в конце пролога, предваряющего историю героя:
«Больное тело его, душа – все просило покоя. И тихий ангел – добрый целитель немощных – повеял крыльями, посылая сон – короткое избавление от долгих часов недуга. Явь пропадала: ни скорбных стен, ни решеток, ни больничной вони. Снова была весна, солнце, первая пахучая зелень, лужи…»25
В финале истории загнанному в угол судьбы, погружающемуся в оцепенение герою чудится в видениях полузабытое сельское детство, мгновенья редкого покоя и радости забытья:
«Как давно это было… Родителя лицо уже стирает непрочная память, туманится лик. Но детская радость и благодарность к тем рукам, его охраняющим, уж до смерти не уйдет. Где-то таится в глуби, но жива. Тронешь ее – проснется… Это память благодарного сердца. Век ее долог – вся жизнь»26.
Образы отца и сына в ином, искаженном свете отражаются в сновидческих эпизодах эпилога, усиливая мотивы болезненности, опасной отрешенности от реальности («явь – дело одно, а сон – вовсе другое: неправдашнее, зыбкое – мало ли что привидится»27). Линия родовой памяти продолжается в художественной реальности, отражаясь в образах матери и дочери больного героя: в извечном мотиве воссоединения семейного круга, восстановления родовой нормы.
В уникальной по своей поэтике «Оде русскому огороду» Астафьева сходные мотивы своеобычно претворены в видениях повествователя, обретающих статус альтернативной (по отношению к социоисторической) реальности – как единственно подлинной. Память, воспоминание получает особый чувственно-осязательный объем – вплоть до воссоздания субъектных (темпоральных) сфер повествователя в пластических, «материальных» формах. В результате образы воспоминаний обретают «сверхплотность», «вещественность». А память словно б становится не только отдельным миром, но – самостоятельным субъектом бытия, вступающим в негласный диалог с автором и позволяющим ему прорваться сквозь неумолимый поток линейного времени:
«Память моя, память, что ты делаешь со мной?!. Память моя, сотвори еще раз чудо, сними с души тревогу, тупой гнет усталости, пробудившей угрюмость и отравляющую сладость одиночества. И воскреси, – слышишь? – воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него»28.
По сути, происходящее далее воссоздание подлинного мира автора (подлинно родной земли, где протекало в кругу семьи его счастливое детство) обнаруживает нередкий в деревенской прозе – но здесь особенно яркий – мотив «счастливой памяти» как человеческого свойства иметь свое прошлое и сохранять его. Недаром, обращаясь к памяти, моля ее о чуде воскресения, автор-повествователь в «Оде» заклинает именем Бога как высшего, последнего прибежища отчаявшейся души. Память – попытка человека приобщиться к Вечности, уподобиться Богу:
«Ну хочешь я, безбожник, именем Господним заклинать тебя стану, как однажды, оглушенный и ослепленный войною, молил поднять меня со дна мертвых пучин и хоть что-нибудь найти в темном и омертвелом нутре? И вспомнил, вспомнил то, что хотели во мне убить, а вспомнив, оживил мальчика – и пустота снова наполнилась звуками, красками, запахами… Озари же, память, мальчика…»29
Обладание прошлым, одновременно с обладанием настоящим, – один из признаков Вечности30.
Художественная семантика времени
Художественное время в деревенской прозе выступает как ценностное. Изображаемый ею мир архетипических образцов становится не только хранилищем утраченных в изменчивом пространстве Истории ценностей прошлого, но и неким горнилом, где вырабатываются образцы для подражания, модели поведения в настоящем и будущем. Русскость как национальная идея самосохранения, выживания в трудных социоисторических обстоятельствах находит претворение в возвышении и ритуализации традиционных форм жизнедеятельности, обнаруживая их самоценность. Национальное прошлое в запечатленных деревенской прозой архетипических формах предстает как мера подлинности: им поверяется направление развития страны и народа в ХХ в., определяется правомерность так называемой цены прогресса и т. п. Во многом это возможно через актуализацию «памяти жанра», когда (как в случае с астафьевской «Одой») происходит включение современности в историческое время (и «Большое Время» литературного движения, по Бахтину), но и – прошлого в современность (через жанровый канон, использование старых образцов).
Порой идея русскости реализуется в создании энциклопедических сводов национальной памяти и ее ключевых категорий – как, к примеру, в книге В. Личутина «Душа неизъяснимая: Размышления о русском народе», созданной по аналогии с «Поэтическими воззрениями славян на природу» Афанасьева. Как и у представителя старшего поколения, В. Распутина, обращенность Личутина к константам национального бытия сказывается в выделении им архетипических величин русской жизни и ментальности – всего того, что позволяет противиться разрушительному ходу времени. К примеру, в главе «В ожидании чуда»: «Близость земли сказывается во всем, она не позволяет вовсе омертветь старинным хоромам, будто в слоистых бревнах до сих пор течет живой родящий сок, и каждая тварь, населяющая жило, в постоянном общении с матерью-землей, точит норы, переходы, наверное, чувствуя ненадежность временного пристанища»31.
Темпоральные раздумья автора «Души неизъяснимой» обращены к магии живого народного слова, к трансцендентному опыту сопряжения разных времен (вспомним о сельских колдунах: «и вообще они знали все минувшее, настоящее и грядущее»32), к извечному диалогу веры и (или) безверья, сохранения и (или) разрушения того, что издавна составляло суть и смысл русского бытия. Между тем размышления писателя о русском народе опрокидывают укоренившееся представление об апологетике прошлого в мировоззрении писателей-деревенщиков и их последователей. Несмотря на общий настрой книги, созданной автором – в развитие канонических установок «Прощания с Матерой» и «Последнего срока» – с целью сберечь исчезающие черты национального (сельского, крестьянского) бытия, родового (земледельческого) времени, Личутин, как и поздний Распутин (в «Женском разговоре», «Матери Ивана, дочери Ивана»), все же признает и закономерность течения времени, его обновляющую силу и смысл:
«Время познается не только тем, что приобретаем мы, но и тем, что утрачиваем, с чем безвозвратно расстаемся. И, полноте, станет ли корить нас за эту грусть; она не развращает, не портит нас, не унижает, но, напротив, очищает, высветляет, она заставляет верить в чудо, что оно не кончилось, оно сыщется и вдруг наступит его праздник…»33
Темпоральность обретает значение ментальной категории, а идея преемственности в общенациональном развитии, связи времен переходит – из сферы зыбкой, «ненадежной» материальности – на уровень духовной неизменности: наследования мировоззренческих образцов, составляющих зерно русскости.
«Какой тогда [в далеком прошлом северной земли, родины автора. – А. Б.] была жизнь, как понять ее? Отчего еще недавно так верилось в необычное, в чудо? Так неужели иссякает, переменяется наш духовный взор? Да нет, нет, я уверен, что мир весь соткан из чуда. И только разгрести шелуху затрапезной будничной жизни, тоски, забот и неурядиц быта, как под этой половой засияет золотая сеть чудес. И как бы мы ни хоронились, ни называли себя владыками, а все одно – похожи на того одинокого человека с керосиновым фонарем, разглядывающего в потемках с суеверным испугом углы и затайки матери-природы, но бредущего с неизбывной верою в затаенное, грядущее чудо» 34.
Повествовательное время автора здесь соединяется с общенациональным, становится его пронзительным, пафосным воплощением. Такая авторская позиция, выраженная в темпоральных формах как нарративных, в высшей мере свойственна деревенской прозе с ее тяготением ко всемерности, всеохватности национального мира русских на, казалось бы, локальном материале «одной деревни», «одной крестьянской судьбы». Нередко, однако, погружение автора и героев в «старые годы», собственные воспоминания и национальную память приводит и к повествовательному расколу, когда темпоральный мир (автора), частное время героя, предстает как альтернативное художественному миру произведения в целом.
Так, в «Последнем сроке» Распутина мир темпоральных грез старой крестьянки словно б выделен в высокую бытийную сферу, отделен от общей картины действительности, фрагменты которой соотносятся (сквозь призму сознания героини) с идеей воссоединения семьи и рода. Постоянным темпоральным приемом становится приобщение (автора, читателя) к точке зрения действующего лица (рефлектирующего героя), что сказывается и в кажущемся отсутствии временной дистанции: «стягивании» повествовательного времени в единый застывший миг – перед лицом вечности. Вот собираются дети у одра матери – уходящей от них, но все еще отбывающей с ними свои последние земные сроки. Собираются, смотрят и не видят, ищут что-то в глубине душ своих, хоронясь от надвигающейся неизбежности, предчувствуя неотвратимое…
«Они стояли вокруг матери, со страхом смотрели, не зная, что думать, на что надеяться, и этот страх совсем не походил на все прежние страхи, которые выпадали им в городской и деревенской жизни, потому что он был всего страшнее и шел от смерти, – казалось, теперь она заметила всех их в лицо и больше уже не забудет. Страшно было еще и видеть, как это происходит: когда-нибудь это должно было произойти и с ними, а они считали, что это то самое, и не хотели смотреть, чтобы не помнить о нем постоянно, и все-таки не могли отойти или отвернуться» (с. 23).
Именно потому фабульное время (то есть время протекания событий от первого до последнего) в распутинской повести практически неподвижно: все оно – кажется, застывшее в ситуации ожидания, – сосредоточено в миге «последнего срока», (бес)конечном в движении частного, психологического времени героя и родового времени в целом. «Свой мир» темпоральности (героини, автора) на речевом уровне создается нагнетанием глагольных форм, дающим представление не столько о действии, сколько о состоянии умирающей, ее проникновении в ранее закрытые для нее, заслоненные житейской суетой пласты бытия: «Старуха не ответила [дочери. – А. Б.], она снова смотрела на солнце на стене, к которому липли последние мухи, и во всем ее положении была такая завороженность и нечеловеческая стынь, будто ей дано было увидеть и запомнить то, что больше никто не смог бы понять» (с. 33).
Линейное течение времени в распутинской повести беспрерывно перебивается экскурсами героев в собственное прошлое, углублением в таинства природы, саморефлексией умирающей крестьянки. Можно заключить, что в этом типичном для деревенской прозы произведении властвует линеарное время: прерывистое в своей направленности (в силу объективного хода вещей) из прошлого и настоящего – в неизбежное будущее. Эффект прерывности, темпоральной разновекторности создается многими художественными средствами. Кажется, ровному ходу повествования, движущегося к своему неизбежному финалу – констатации «последнего срока», смерти героини (см. фразу-заключение: «Ночью старуха умерла» – с. 152), – препятствуют сами силы природы, уводящие в воспоминания и словно б не дающие героям сосредоточиться на мысли о человеческой немощи, физическом увядании:
«Только теперь старуха увидела солнце и, узнав его, обрадовалась; после долгих беспамятных потемок ей сразу стало теплее от него, бережным дыханием оно пошло в ее тело, подгоняло кровь. Это был не сон: во сне и солнце не греет, и мороз не холодит. В ушах легонько зазвенело дальним приятным звоном, и так же неожиданно, как возник, этот звон прекратился. Старуха стала вспоминать, откуда он мог взяться, и решила, что он сохранился в ней еще с той поры, когда она была молодой, – тогда она часто его слыхала и запомнила на всю жизнь. Он не мог обмануть ее, он был живой.
– Господи, – прошептала старуха. – Господи» (с. 27). В подобных образцах распутинской темпоральности с особой силой сказывается общее свойство художественного времени в деревенской прозе – его устремленность к запредельности: к вненаходимости (автора-повествователя, героев) по отношению к художественному миру произведения. В совокупности такие темпоральные пласты у Распутина и других деревенщиков образуют движение трансцендентного времени, функционально сходного с временем читателя, в его заведомой внеположности к темпоральным сферам автора и героев. Однако у читателя, в силу его ситуативной вненаходимости по отношению к миру произведения, это время его современности, исторически погруженное в объективную реальность как данность. Гипотетическое заполнение читателем лакун в повествовательном времени автора, частном времени героев и т. п. происходит как раз с позиций трансцендентного времени как исторического, позволяющего информированному читателю мысленно достраивать линию событийного развития (в силу знания им исторической подоплеки, исходя из современной ему точки отсчета), реконструировать причинно-следственные связи и т. п.
Можно сказать также, что темпоральная модель деревенской прозы строится по типу сочетания и взаимодействия открытости (историческое время) и закрытости (циклическое время). Так, «Прощание с Матерой» Распутина, хроники Белова, Можаева, роман «Прокляты и убиты» Астафьева отличаются открытостью композиционно-сюжетных границ во времени.
Открытая концовка – и в распутинских «Уроках французского», где размытость эпилога, неясность судьбы оставившей школу учительницы, композиционно сопрягается с затаенной в прологе установкой – «что стало с нами после»… В область исторических грез, сновидческих прозрений и народных чаяний отодвигается невысказанная история о молодой женщине, рискнувшей ради спасения голодающего ребенка пойти на преступление жестких норм сталинского времени.
А в повести Можаева «Живой» конец рассказываемой истории о строптивом крестьянине словно б обрывается в точке предполагаемых исторических перемен (1956): финал в эпилоге одновременно обращается в начало новой истории о новых временах. Темпоральное ожидание подкрепляется установкой героя на продолжение, или новый виток, повествовательного движения. Состояние окончательности словно б снимается героем, который выступает в эпилоге первым читателем записанного в 1956 г. (то есть в преддверии хрущевской «оттепели») рассказа о своей жизни. Автор дает Кузькину прочесть записи, «чтоб он исправил, если что не так»:
«– В точности получилось, – сказал Федор Фомич. – Только конец неинтересный. Хочешь, расскажу, что дальше? Дальше полегче пошло…
Попытался было я продолжить рассказ, да не заладилось. А потом догадался: тут уж новые времена начинаются, новая история. А та – кончилась.
– Точно так, – подтвердил Федор Фомич. – Да ты не горюй. Напишешь еще. Моей жизни на целый роман хватит…»35
Использование таких приемов связано с утверждением непрерывности и бесконечной изменчивости исторического (линейного) времени, когда воссоздание одного хронологического периода предполагает предыдущие и последующие: ведь это лишь звено в цепи времен.
С другой стороны, использование Распутиным, Астафьевым и другими писателями-деревенщиками приема открытой концовки – заданного первым словом произведения, начинающегося с соединительного союза «и», – свидетельствует и о бесконечности спиралевидного времени, развивающегося по принципу синтеза линейности и уходящей в беспредельность цикличности: «И опять наступила весна…» (первая фраза «Прощания с Матерой» – с. 153); «И брела она по дикому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему» (первая фраза «Пастуха и пастушки»)36; «И дни наступили длинные, пологие, ни конца ни края…» (первая фраза главы 7 «Прощания с Матерой», состыкующаяся с открытой концовкой главы 6: «Остров собирался жить долго» – с. 193); «Подступила и эта ночь, первая жаркая и яркая ночь на Матере. Потом их будет много…» (первая и вторая фразы главы 8, с. 202).
Неся в себе идею натурфилософской и онтологической множественности, колебания спиралевидного времени меж состояниями закрытости/открытости передают и тревожные, переходные состояния мира, и с художественной точки зрения проявляют себя как закон внутренней структуры повествования (здесь – «Прощания с Матерой» Распутина, но примеры можно множить). В целом темпоральная разновекторность в повествованиях русской деревенской прозы, их самодвижение сразу по нескольким направлениям, задает эффект одновременности: время, кажется, не развивается по одной и той же прямой, но причудливо закручивается в самых разных плоскостях, беспрерывно меняя свое течение и внешние очертания, качественные характеристики.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?