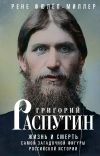Автор книги: Сборник статей
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
V. «Ключи Марии» к острову Матера
Писатели-деревенщики, несомненно, в числе своих литературных предшественников имели то направление в русской литературе 1910–1930-х годов, которое получило название «новокрестьянского». Два смертельных удара, нанесенных городом и революционной властью русской деревне в 1920-е и 1960-е годы, конец векового крестьянского мира, разыгрывавшийся у них на глазах, во многом и вызвали художественный ответ писателей, которые были взращены и воспитаны деревенской культурой. Если в поэзии Николая Клюева предметный мир крестьянского обихода одушевлен и сакрализован, но, как правило, статичен, то Есенин в «Ключах Марии» показывает его метафизическую динамику. «Конь <…> есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице»54, – утверждает поэт, подчеркивая тем самым, что изба, как и все живое на земле, движется и что устремлено это движение в вечность. Изба переходит вместе с человеком (а точнее, вместе с жившими в ней поколениями людей) из дольнего мира в горний, от жизни – через смерть – к вечной жизни. Цитируя четверостишие Сергея Клычкова:
«Уж несется предзорная конница,
Утонувши в тумане по грудь,
И березки прощаются, клонятся,
Словно в дальний собралися путь»,
Есенин отмечает, что Клычков «первый увидел, что земля поехала, он видит, что эта предзорная конница увозит ее к новым берегам, он видит, что березки, сидящие в телеге земли, прощаются с нашей старой орбитой, старым воздухом и старыми тучами. Да, мы едем, едем потому, что земля уже выдышала воздух, она зарисовала это небо, и рисункам ее уже нет места. Она к новому тянется небу, ища нового незаписанного места, чтобы через новые рисунки, через новые средства протянуться еще дальше»55.
В повести Распутина слово «поехали», выражающее движение в пространстве-времени, становится ключевым и обозначает на самом глубинном уровне то, что происходит с Матерой: «Слово это – “поехала” – не выходило потом у Дарьи из головы и стало главным, все объясняющим, ко всему, что происходило вокруг, приложимым. Визжал поросенок в мешке, которого тащили за спиной на катер, и Дарья смотрела вслед: поехал. Гнали к Ангаре совхозный скот, чтоб переправлять на тот, на дальний, где поселок, берег, но не в поселок, а на выпасы у реки, – и Дарья шла провожать, глядела, как затягивают на большой, огороженный жердями плот не плот, паром не паром упирающихся коров и телят, как подвязывают их к скобам и трогают от земли. Поехали. Несло горький черный дым с Подмоги, который набирался в жилье и доводил до кашля, и она думала: поехала Подмога, поехала. Сдала Клавка Стригунова в совхоз бычка городским на мясо – поехал, христовенький… Тянули к берегу зароды – пое-ехали! Все меньше и меньше оставалось своего, привычного, все торопилось съехать, убраться с опасного острова подальше. И деревня стояла сирая, оголенная, глухая, тоже готовая к отъезду…»56
В «Ключах Марии» с пронизывающей этот трактат идеей движения земли можно увидеть, таким образом, своеобразный комментарий к «Прощанию с Матерой». Ведь применяемое по отдельности к поросенку, скоту или острову Подмоге слово «поехали» кажется абсурдным. Но в то же время оно означает, связывает и даже оправдывает и объясняет все общей идеей движения земли – к новому небу и новой земле. Только усвоив и назвав происходящее этим словом, Дарья немного начинает понимать действительность и, расслышав наказ родителей, обряжает избу, как покойницу. Ведь смысл убирания избы – в подготовке к переезду, переходу. Интересно, что русский язык закрепляет за словом «убирать» как значение украшения, так и значение смерти, исчезновения. Дарья тут действует в той же логике, по которой коньки размещаются на крышах русских изб.
Потому действительно глубокими оказываются традиционные образы плывущей и движущейся земли, но только «нового неба» не откроется ни летчикам, ни космонавтам, «бороздящим», как говорилось в советское время, «просторы небесного океана» – новое небо откроется, как сказано, лишь в самые последние времена: «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр. 21:1). Согласно книге Апокалипсиса новое небо появится только после второй смерти, когда смерть и ад, а вместе с ними все, кто не был записан в книге жизни, будут брошены в озеро огненное. Очевиден эсхатологизм сочетания огня и воды: «Тут все уйдет под огонь и воду»57 и «Пушай огонь, вода»58, – думает Дарья. Поскольку тут же у нее появляются мысли о суде мертвых над живыми, то все это соотносится с апокалиптическим последним судом и огненным озером, описанными в главе 20 Апокалипсиса.
Валентин Распутин уже научен горьким опытом истории: никакого «нового неба» за гибнущей в огне и воде Матерой не проглядывается.
Крестьянско-христианская Россия, сожженная и затопленная, принесенная в жертву новому, модернизированному миру, до сих пор не «поднялась со дна», град Китеж остается невидимым, несмотря на новейшие попытки реставрации церквей и «воцерковления социума».
_____________________________________
1 См. например: Агеносов В. В. Повести В. Распутина // В. В. Агеносов, Е. А. Маймин, Р. З. Хайруллин. Литература России. – М., 1995; Сигов В. К. Традиции русской классики в изображении народного характера и творчество В. Г. Распутина // О жанре и стиле советской литературы. – Калинин, 1990. – С. 95–104; Котенко М. Валентин Распутин. – М., 1988; Панкеев И. Валентин Распутин: По страницам произведений. – М., 1990; Селезнев Ю. Земля или территория (О повести В. Распутина «Прощание с Матерой») // Ю. Селезнев. Мысль чувствующая и живая. – М., 1982; Селезнев Ю. О прозе В. Распутина последних лет // Ю. Селезнев. Златая цепь. – М., 1985; Семенова С. Г. Валентин Распутин. – М., 1987; Курбатов В. Я. Валентин Распутин: личность и творчество. – М., 1992.
2 Газизова А. А. Фольклорно-мифологические мотивы в прозе В. Распутина // От текста к контексту. – Ишим, Омск, 1998. – С. 198–204; Бабенко М. С. Мифопоэтические мотивы в повести В. Распутина «Прощание с Матерой» // Сборник трудов молодых ученых Кемеровского государственного университета: материалы научно-практической конференции исследовательских работ учащихся ОУРЦНО КГУ. – Кемерово, 2003. – С. 83; Вахрина С. В. Мифологические мотивы в повести В. Распутина «Прощание с Матерой» // Сборник трудов студентов и молодых ученых Кемеровского государственного университета, посвященный 50-летию университета. – Кемерово, 2004. – Вып. 5: Материалы XXXI Апрельской конференции студентов и молодых ученых Кемеровского государственного университета. – С. 314–316.
3 Хомяков В. И. И пришел великий день гнева (В. Распутин «Прощание с Матерой») // Филологический ежегодник / Омский государственный университет. – Омск, 1998. – Вып. 1. – С. 40–43; Варламов А. Н. «О дне же том и часе никто не знает…»: Апокалиптические мотивы в русской прозе конца ХХ века // Литературная учеба. – 1997. – Кн. 5–6; Оки Т. Достоевский и В. Г. Распутин (Опыт размышлений о проблеме Спасения) // Достоевский и мировая культура: Альманах. – СПб., 1999. – № 13. – С. 111–119.
4 «Хронотоп определяет художественное единство литературного произведения в его отношении к реальной действительности. Поэтому хронотоп в произведении всегда включает в себя ценностный момент, который может быть выделен из целого художественного хронотопа только в абстрактном анализе. Все временно-пространственные определения в искусстве и литературе неотделимы друг от друга и всегда эмоционально-ценностно окрашены. Абстрактное мышление может, конечно, мыслить время и пространство в их раздельности и отвлекаться от их эмоционально-ценностного момента. Но живое художественное созерцание (оно, разумеется, также полно мысли, но не абстрактной) ничего не разделяет и ни от чего не отвлекается. Оно схватывает хронотоп во всей его целостности и полноте. Искусство и литература пронизаны хронотопическими ценностями разных степеней и объемов» (Бахтин М. М. «Формы времени и хронотопа в романе»).
5 Хализев В.В. Нравственная философия Ухтомского // Новый мир. – 1998. – № 2.
6 Гуревич А.Я. Категории Средневековой культуры. – М., 1972. – С. 84.
7 Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. II. – М., 1996. – С. 131, 134.
8 Об историческом прогрессе см.: Большев А. О. Трактовка исторического прогресса в повести Распутина «Прощание с Матерой» (Распутин и Леонтьев) // Литературный процесс: традиции и новаторство: Межвузовский сборник научных трудов / Поморский государственный университет. – Архангельск, 1992. – С. 192–200.
9 Путь к граду Китежу: Князь Георгий Владимирский в историях, житиях, легендах. – СПб., 2003. – С. 179–180.
10 Характерно, что последний большой островной западный сюжет, реализованный в анимационном фильме «Мадагаскар» (2005), несет в себе весь комплекс мотивов утопического хронотопа – от просвещенческого «крушения» и романтического «бегства» до «одичания» и «дегуманизации». Финал открыт: герои хотят покинуть остров, но не могут этого сделать. Спасение оборачивается розыгрышем, герои прощаются с островом, но плыть им некуда, не на что и незачем. Оба ключевых утопических хронотопа – город и остров – исчерпаны до конца, как в своей связи, так и в своей противопоставленности. Поэтому финал – это затянувшееся шоу на берегу. Похоже, что шоу на пляжу (на берегу) – это и есть сегодняшнее состояние западной цивилизации. Из этой сюжетной коллизии для западного «рацио» на самом деле нет выхода.
11 Распутин В. Г. Живи и помни. Прощание с Матерой. Рассказы //В. Г. Распутин Избранные произведения: В 2 т. – М., 1984. – Т. 2 – С. 388. Далее все ссылки на текст «Прощания с Матерой» на это издание.
12 См.: Хомяков В. Указ. соч.
13 С. 211.
14 С творчеством Маркеса прозу В. Распутина сближает, в частности, И. Сухих (см.: Сухих И. Однажды была земля (1976. «Прощание с Матерой» В. Распутина) // Звезда. – 2002. – № 2.
15 См. например: Смородины А и К. От острова Матера – к острову Буяну // Литературная Россия. – 14.07.2006. – № 28; Хомяков В. Указ. соч.
16 С. 216.
17 С. 239.
18 Афанасьев А.Н. Указ. соч. – С. 132.
19 С. 208.
20 С. 239.
21 Афанасьев А.Н. Указ. соч. – С. 140.
22 С. 218–219.
23 См.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1990.
24 С. 224.
25 С. 220.
26 С. 223.
27 С. 250–251.
28 С. 351.
29 С. 349.
30 С. 230.
31 С. 299.
32 Королева С. Ю. Мифологическая универсалия «мирового древа»: функционирование знака/образа/символа в пространстве традиционной кульуры и художественного текста / Пермский университет, 2004.
33 С. 232.
34 С. 372.
35 С. 271.
36 Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб… (Быт. 3:17–19)
37 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – М., 1996. – С. 360.
38 С. 388.
39 С. 298.
40 См. примечание 19.
41 С. 270.
42 С. 338.
43 Сравните: «Такое теперь время, что и нельзя поверить, да приходится; скажи кто, будто остров сорвало и понесло, как щепку, – надо выбегать и смотреть, не понесло ли взаправду. Все, что недавно еще казалось вековечным и неподатным, как камень, с такой легкостью помчало в тартарары – хоть глаза закрывай» (с. 219).
44 С. 311.
45 С. 232.
46 В работе С. Королевой приведены еще некоторые примеры: «персик бессмертия» сяньтао у китайцев, дерево джамбу/замбу у монгольских народов, растущая сверху вниз смоковница ашваттха у индийцев, произрастающее из «первозданного океана» дерево цокшин у тибетцев, галлюциногенная хаома у древних иранцев и другие.
47 С. 352.
48 Там же.
49 С. 354.
50 С. 290.
51 Карпец В. И. Приближается время // Политический Журналъ. – 11 марта 2008 г. – № 4 (181).
52 С. 223.
53 Карпец. Указ. соч.
54 Есенин С. А. Сочинения. – М. 1994. – С. 265.
55 Там же. – С. 272.
56 С. 329.
57 С. 238.
58 С. 349.
Хронотоп вагона в рассказе В. Распутина «Не могу-у…»: генезис и своеобразие
И. Г. Волович
Институт гуманитарного образования и информационных технологий, Москва
Философская глубина и содержательная емкость – это качества, неизменно присущие рассказам В. Г. Распутина. «Не могу-у…» (1982) – рассказ небольшой, но в творчестве Распутина далеко не проходной. Рассказ, на краткий миг выхватывающий из беспросветной жизненной мути лицо вконец опустившегося российского алкоголика, не только фокусирует тревожные раздумья писателя о судьбах России, но и соотносит эти раздумья с идейно-художественным опытом его предшественников. Воплощением драматического перекрестья путей России становится неприглядный плацкартный вагон – место действия рассказа.
В русской литературе со времен Некрасова хронотоп вагона/поезда и задающий его образ железной дороги (не просто дороги, а железной дороги со всеми ассоциациями и коннотациями, которые вносятся этим определением) наделены особой значимостью и получают ряд специфических черт. И объяснение здесь следует искать в особенностях как национальной ментальности, так и национальной истории.
Бесспорно то, что образ дороги, эволюция, наполнение и функциональность которого глубоко осмыслены в работах М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Д. С. Лихачева, В. Н. Топорова, является ключевым для русской литературы. Как точно формулирует Г. Д. Гачев, «модель русского движения – дорога. Это основной организующий образ русской литературы»1. Образ железной дороги – это, конечно же, вариант образа дороги, пути, вбирающий всю совокупность его смыслов. Однако следует иметь в виду то, что на реализации этих смыслов самым радикальным образом сказывается возникающее в ситуации именно железнодорожного путешествия – в литерном ли вагоне или в теплушке – парадоксальное соединение экзистенциальной замкнутости и экзистенциальной разомкнутости мира.
Здесь следует заметить следующее. Уже Некрасов в своей «Железной дороге», заводя серьезный, суровый разговор о судьбах России и ее народа в купе поезда, выделяет и соединяет две составляющие хронотопа поезда: «заоконный» макрокосм и «внутривагонный» микрокосм. С одной стороны, поэт летит «по рельсам чугунным», постигая сначала природу России, а потом и природу ее социальности, открывая драму ее народа, осмысляя ее настоящее и заглядывая в будущее. И вот уже стремительное преодоление пространства оборачивается его интенсивным познанием, а естественно-привычный взгляд за окно становится великим опытом постижения Отечества.
Но, с другой стороны, с этим движением вовне и вне вагона оказывается неизбежно синхронизирована и жизнь внутри него. А она прежде всего характеризуется теснотой – теснотой человеческого контакта. Следствием и реализацией этого контакта неизбежно становится диалог. Слово поэта обращено не только к читателю, но и к реальному сюжетному оппоненту-генералу, и к мальчику Ване, молчаливо внимающему взрослому, но – изначально! – вопрошающему. Хрестоматийный некрасовский текст фиксирует, как тесный мир вынужденного единства в русской традиции превращается в пространство конфликта и диалога, откровения и невозможной в другой ситуации «продуктивной фамильярности». Микрокосм вагона становится средой значимой и значительной, едва ли не равновеликой макрокосму за вагонным окном. Душевная же открытость, которой попутчики стремятся компенсировать закрытость, замкнутость пространства, – это качество, бесспорно, российское, несущее на себе печать внесословной русской ментальности. Показательно, что завязка сюжетов двух великих русских романов XIX в. («Идиот», «Анна Каренина») происходит в поезде.
XX век с его бесконечными эшелонами переселенцев, солдат, заключенных, эвакуированных, целинников, строителей и т. д. сделал хронотоп поезда, вагона максимально востребованным в русской литературе, ярчайшим образом отразив в этом факте социально-историческую тектонику. Одним из первых динамику сдвигов в ней почувствовал и передал через образ эшелона
А. Блок («Петроградское небо мутилось дождем…»). Тем, кто пел «Ермака» в этом блоковском эшелоне, а потом уцелел средь галицийских полей, еще предстояло оказаться в бесчисленных эшелонах у Бабеля и Артема Веселого, Пильняка и Платонова, Всеволода Иванова и Алексея Толстого.
Хронотоп поезда, осваиваемый в равной степени и в прозе, и в поэзии, занимает особое место в творчестве Б. Пастернака. Его ключевое дооктябрьское («предоктябрьское») стихотворение «Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе…» (1917), давшее название его третьему сборнику, примечательно прежде всего бесстрашной радостью постижения жизни. Немудреное путешествие на поезде камышинской ветки превращается в мощнейший «резон» в споре о ценностях бытия, в неоспоримый аргумент в пользу красоты и величия жизни. «Заоконного» мира в стихотворении оказывается так много, что мир «внутривагонный» с его канапе и матрацами от строфы к строфе вообще сворачивается, чтобы волшебным образом исчезнуть, заменившись пространством души поэта («…сердце, плеща по площадкам, / Вагонными дверцами сыплет в степи»2). При этом постигаемый поэтом мир, обретая космический масштаб, отчетливо остается русским миром, несет в себе родные, узнаваемые черты «русскости».
Начавшееся же однажды постижение пространства России венчается в поэзии Пастернака знаменитым стихотворением «На ранних поездах» (1941). Но иерархия «заоконного» и «внутривагонного» изменилась. Поэт, прошедший с народом весь метафизический путь испытаний предвоенных десятилетий, интуитивно прозревающий страдные испытания будущего и все же с мнительностью совестливого человека переживающий свою интеллигентскую «параллельность», именно в тесном общем вагоне достигает долгожданного чувства единства своей судьбы и судьбы народной. От «надмирно» высящихся созвездий он рвется в «горячую духоту вагона»3, к простым людям, осмысляя эту благословенную духоту как эманацию души народа и как животворную среду своего слияния с ним.
Сам этот факт творческой эволюции поэта воспринимается уже как литературоведческая аксиома4. Но при интерпретации этого факта важно не проглядеть продолжающееся восхождение поэта к универсальной картине мира, а не к ее социальной составляющей. Как верно замечает А. А. Газизова, «пастернаковский ум и тут искал черты “родовой общности”, стремился и человека из народа понять как универсальное родовое существо, а не как представителя другой породы»5. В «случае Пастернака» все-таки следует говорить не о смене художественного объекта, а об обретении еще одного объекта, о состоявшемся завершении универсальной онтологической картины мира, добытой громадными усилиями души поэта.
То, к чему Пастернак идет через усилия целеполагания, в художественном мире Твардовского присутствует изначально. Надо отметить, что мотив дороги является организующим во всех его поэмах6. В послевоенной поэме «За далью – даль» (1950–1960) вагонное и вневагонное пространства – сама Россия – сосуществуют в том гармоническом единстве, которое естественным образом возникает тогда, когда за окном простирается Волга, а в купе рядом с поэтом едет тот, кто «под Сталинградом / За эту Волгу воевал»7.
Организуя же эпическое заоконное пространство сюжетом движения поезда, Твардовский стремится максимально его расширить. Вся великая, прекрасная страна, спасенная от врага, возникает за стеклом вагона. Однако оборотной стороной такого расширения становится то, что эпос в поэме неуловимо транспонируется в миф, а лирика – в публицистику.
И в 1969 г. Венедикту Ерофееву и его герою Веничке в наследство достается уже не эпос, а мифология, не лирика, а публицистика. В его поэме «Москва – Петушки» поезд тоже становится инструментом, точнее, формой познания мира, но и мир стал другим и познающий субъект с этим миром отныне вовсе не в ладу. Созданный тринадцатью годами позже рассказ В. Распутина отразит те же драматичные отношения человека с миром – миром выморочной государственности и обессмысленного слова 1970–1980-х годов. Через тринадцать лет герой Распутина во многом повторит героя Ерофеева с той знаменательной разницей, что уже начисто будет лишен способности к рефлексии. К чему же и зачем движется, садясь в электричку, герой Ерофеева – алкоголик-маргинал, «недо-интеллигент» и вечный сирота, человек с орфографической ошибкой в имени – человек-ошибка?
Среди «дорожных» произведений русской литературы нет ни одного, обладающего такой пронзительной вожделенностью цели, как «Москва – Петушки». Крошечный городок Владимирской области с нелепым названием превращается в центр мироздания, и именно он определяет вектор движения героя, а вместе с тем и всего поезда. Эти нереальные, недосягаемые Петушки – место, где живут возлюбленная и сын героя: одна – единственное посреди мифов и мнимостей тактильно осязаемое, живое существо, другой – его реальное, из небытия выхваченное и им сотворенное создание, единственное свидетельство его пребывания в мире.
Поездка Венички в Петушки – это не только движение к, но и побег от: от давящей на мозг государственной мифологии, воплотившейся в образе Кремля, от холуйства и хамства, абсолютизировавшихся в вокзальном ресторане. Мир, из которого Веничка бежит, страшен прежде всего фиктивностью, подменой смыслов (герой рвется искать Кремль – национально-историческую святыню, а ему подсовывают мифологему), нарушением причинно-следственных связей, распадом «связи времен». Здесь уже непонятно, царь Борис ли убил Димитрия или наоборот, – идеологически верным может быть объявлено любое решение. Способ же обретения смыслов, в который так уверовал герой, – тряская и расхлябанная пригородная электричка – изначально выглядит трагически несостоятельным.
Формально у Ерофеева присутствуют обе составляющие хронотопа поезда: внутренняя и внешняя, однако их соотнесенность причудлива и, как все в поэме, трагична в своей нелепости. В Веничкином побеге исследователям подчас видится бегство абсолютное, бегство от социума вообще. Так, В. И. Догалакова в содержащей ряд интересных наблюдений над поэмой статье пишет: «Бегство от социума – это попытка разомкнуть пространство, это путь, с которым наш герой связывает обретение внутренней свободы и счастья»8. На самом же деле герой, убегая от социума-государства, с удвоенной страстностью рвется к социуму – человеческому сообществу. По сути дела, поэма – это горячечный монолог героя-повествователя, вырастающий из жгучей, мучительной его потребности в диалоге. В своем страстном монологе Веничка силой взыскующей души выстраивает себе собеседника, делая его свидетелем своих диалогов с ангелами и возлюбленной, с сыном и с Сатаной, свидетелем диалогов собственного расщепленного сознания, своих физических и духовных корчей, своей смерти, в конце концов. Этим молчаливым собеседником оказывается некое совокупное читательское вы – в меру участливое и в меру жестокое, в меру интеллектуальное и в меру обывательское и, очевидно, в меру пьющее. Однако по степени «взыскуемости» это посредственное вы равно Богу – второму молчаливому собеседнику героя.
Но как складываются «внутривагонные» отношения героя? «Публика посмотрела в меня безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами»9, – замечает герой, как только после принятия долгожданной дозы алкоголя получает возможность рассмотреть что-либо. Далее следует убийственный пассаж о глазах «народа моей страны»: в них «полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!)»10. Пространство вагона становится у Ерофеева местом убийственного отчуждения людей, трагически-тупой безучастности, местом, обрекающим на одиночество и провоцирующим бред11. Лишь на подъездах к станции с натужным названием Храпуново молчаливое сосуществование уступает место безумным диалогам Венички с попутчиками-собутыльниками, безошибочно угаданными им в толпе пассажиров. Еще недавно столь чаемый литературой процесс познания соотечественника оборачивается процессом узнавания «своего» – изгоя, парии – по чертам физического уродства и духовной ущемленности.
Это узнавание сопровождается интенсивным общением, но речевая коммуникация носит абсолютно профанический характер. В ней самой заложена все возрастающая степень абсурда, захватывающего в себя все новые семантические пласты; он уже покидает национальную почву и с сокрушительной интенсивностью осваивает инонациональный культурно-исторический материал, чтобы в итоге закончиться ощущением исчерпанности мировой истории («Но всякая история имеет конец, и мировая история – тоже…»12).
Закономерно то, что случается с героем в этот момент: выброшенный толпой пассажиров из одной электрички и в пьяном чаду вновь залезающий в вагон, он не может ни у кого узнать, в каком направлении движется электричка. Теперь уже входящие в электричку люди не узнают героя, видя в нем то непочтительного мальца, то «милую странницу», то «товарища старшего лейтенанта». Процесс разотчуждения людей пройден до конца: отчуждение – узнавание «своего» – неузнавание, потеря идентичности, нарушение и полный обрыв коммуникаций. За этим уже со всей необратимостью следует столкновение героя с инфернальными силами (искушающий Сатана, издевающийся Сфинкс и – под конец – убивающий Митридат). И только в этот момент, уже в предощущении конца, герой догадывается посмотреть за окно – тогда, когда это не имеет никакого смысла.
Эта вторая, «заоконная», составляющая хронотопа поезда в поэме присутствует постоянно, но причудливым образом – виртуально. То, в чем Пастернаку чудилась грандиозность Святого Писания, но благоговейно не называлось, в «Москве – Петушках» «простодушно» развернуто в реестр станций. Большинство изданий даже сопровождается не входящей в корпус текста схемой движения поездов Горьковского направления. Очевидны те коррективы, которые советские десятилетия внесли в лирически освоенное поэтом расписание 1917 г. Безликие номера платформ (впрочем, в четкой смене цифр преодоленного пространства – 33-й километр, 43-й километр, 61-й километр и т. д. – тоже есть определенная магия), а также неуклюжие названия Серп и Молот, Железнодорожная и Электроугли вторгаются в эпический реестр станций знаками унылой социальной реальности, но даже они не в силах отменить его эпического потенциала.
Однако ни суть этого потенциала, ни герой так и не раскрываются навстречу друг другу. Названия станций присутствуют в названиях глав, но само это деление текста на главы носит абсолютно формальный характер и является совершенно фиктивным. Это деление никак не соотнесено с горячечным Веничкиным монологом, ничего не начинает и не заканчивает в безумных разговорах пьяной компании. Важен еще один момент. Для произведений, организованных мотивом дороги, важнейшей композиционной и содержательной вехой является остановка, точка, пунктум (наиболее очевидный пример – «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева)13. У Ерофеева же единственной пространственной реальностью, единицей измерения пути (героя ли, всего ли «вагонного» люда) оказывается перегон – расстояние, пустота, прочерк, тире между двумя названиями. По сути дела, и само это эпическое пространство оказывается в лучшем случае вещью в себе14, а в худшем – страшно вымолвить! – фикцией.
Нет, не дано Веничке совладать с этим непонятным и непонятым пространством родной страны, и, совершив свое «псевдопутешествие»15, он возвращается в исходную точку пути, чтобы погибнуть. Национально-историческое пространство и индивидуальная судьба, по Ерофееву, оказываются фатально не соотнесенными и закрытыми друг для друга.
Казалось бы, трудно найти произведение, более полярное гениально-неряшливым постмодернистским парадоксам Ерофеева, чем «Не могу-у…» В. Распутина. Рассказ Распутина отличается законченной лаконичностью формы и классической простотой организации содержания16. Нет в нем ни гротесковых форм, ни бредовой жути. Но разный художественный язык не перечеркивает идейной, духовной общности этих произведений, написанных с интервалом в тринадцать лет.
И у Распутина местом действия рассказа, местом вершащейся человеческой драмы является плацкартный вагон. Хронотоп поезда для Распутина вообще не типичен. Выросший на реке, он предпочитает помещать своих героев в пространства, продиктованные рекой («На реке», «Живи и помни», «Вниз и вверх по течению», «Прощание с Матерой»). Даже умирающая, даже преданная и испохабленная людьми, река все же как текучее, живое воплощение природы всегда по сути своей сопричастна животворным силам бытия.
Поезд же героями Распутина воспринимается как пространство тревожное и скорее чужеродное, чем близкое. Кузьма в «Деньгах для Марии» «ездит редко и всякий раз чувствует себя в дороге неспокойно, будто он потерял все, что у него в жизни было, и теперь ищет другое, но неизвестно еще, найдет или нет»17. Для Кузьмы путешествие на поезде – дело вынужденное, но необходимое, единственная возможность одолжить деньги. С лихвой предлагает ему поезд не только общение, но и узнавание. Однако все дело в том, что объектом узнавания, точнее, объектом снисходительно осуществляемого попутчиком-интеллигентом исследования оказывается он сам – простой деревенский житель, работящий и скромный мужик – готовая персонификация народа.
В рассказе «Век живи – век люби» все открытия юного героя – нравственные и онтологические – происходят в тайге, но роль привезшего его поезда в этих открытиях существенна. Сам дряхлый поезд, дряхлое железнодорожное хозяйство на фоне мощи и первозданности природы становятся очевидным и исчерпывающим свидетельством человеческой неготовности к полноценному, ответственному общению с природой.
В «Не могу-у…» вагон тоже неказист и немноголюден, что само по себе важно. Два трезвых и веселых пассажира (один из них, между прочим, крупный русский писатель) в этом унылом пространстве кажутся чуть ли не подозрительными. Народ в вагоне выглядит неприветливым и хмурым, хотя еще не захлопнуты двери для общения и сопереживания. Впрочем, первой в поле зрения автора попадает старушка, сосредоточенно читающая какую-то толстую книгу и тем самым неуловимо возвращающая нас к той, пастернаковской, грандиозности Святого Писания.
В отличие от ерофеевского бесконечного закольцованного пути, сюжет рассказа исчерпывается событиями, происходящими между двумя станциями. Оборотной стороной этой локальности становится жесткая убедительность образов и глубина идеи. В закутке вагона корчится, вызывая противоречивую реакцию пассажиров, опустившийся человек с нелепым именем Герольд, осознавший всю бессмысленность своей жизни.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?