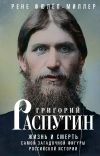Автор книги: Сборник статей
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Символы и модернизм
В развитие размышлений о концентрации художественных смыслов в деревенской прозе обозначим особенности присущего ей символа. Ему свойственна закрыто-открытая структура, самоорганизация по принципу «макромир в микромире»: «Матера-остров» и «Матера-деревня». Или: «целый мир» и «один огород» в астафьевской «Оде» («Целый мир живет, растит потомство, шевелится, поет, плачет, прячется в плотно сомкнувшейся зелени огорода»). Происходит мгновенное стягивание художественного мира к символу. Кажется, у писателей-деревенщиков мир стекается, свертывается внутри избранной жизненной формы как в некоей врéменной сверхплотной точке бытия. Большое место занимают здесь онтологические, натурфилософские символы, составляющие уникальность деревенской прозы и показывающие разворот этого литературного направления от абстрактных схем соцреалистического толка к «веществу литературы», мышлению феноменологическими сущностями.
Так, в «Прощании с Матерой» Распутина державный «царский листвень» – символ мирового древа, особенно важный для понимания сути деревенской прозы, – становится доминантой, организующей мир произведения по системе концентрических кругов: дерево (центр-символ) – деревня Матера – остров Матера – прастихия воды (космос). Ведь согласно местному поверью именно царским лиственем «крепится остров к речному дну, одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять и Матера» (с. 286). Значительность образа-символа, с которым связывается последняя, эсхатологического толка, надежда гибнущей земли-Матеры, оттеняется контрастным – по сравнению с плоскостным изображением отмаячившей ветхими избенками деревни Матеры – изображением вертикальной, державной оси дерева в первых фразах, открывающих главу 19 повести:
«Матеру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой лиственницы на поскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несущего древнюю сторожевую службу. Но говорить “она” об этом древе никто, пусть пять раз грамотный, не решался; нет, это был он, “царский листвень”, – так вечно, могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый всеми» (с. 286).
Создается картина крестьянской вселенной, напоминающая представления древних о плоской земле с ее центральным – по отношению к солнцу, луне и другим космическим телам – положением. Собственно, уже в приведенных примерах перемещения центра (мира) в точку символа проявляют себя модернистские тенденции деревенской прозы – принцип «плавающего» или «гибкого» центра, «расшатанной структуры» мирозданья и принципиальной открытости (художественного) мира и т. п.
Таким образом, символ в деревенской прозе предстает как место встречи не только истории и поэзии, но и реализма и модернизма. Усилению модернистских элементов способствует сама природа данного символа как субъектной сферы (автора, героя, читателя): потому это и «переживаемый символ», воплощение «переживаемого» (то есть личного, поэтического) времени.
На самом деле, однако, обе диалектические пары (история и поэзия, реализм и модернизм) близки друг к другу. Ключ к пониманию этого дает, к примеру, Аристотель в «Поэтике» в определении различия между поэзией и историей: «Задача поэта – говорить не о происшедшем, а о том, что могло бы случиться, о возможном по вероятности или необходимости… Разница [между историком и поэтом – А. Б.] в том, что один рассказывает о происшедшем, другой о том, что могло бы произойти. Вследствие этого поэзия содержит в себе более философского и серьезного элемента, чем история: она представляет более общее, а история – частное»37. История как вид реалистического отражения противостоит здесь типу воссоздающего (потенциал, возможности, реальности) мышления, который весьма свойственен не только реализму, но еще более – модернизму с его преобладанием субъектных (воссоздающих вероятные линии бытия) форм над объективно данными в действительности. Поэтике модернизма в целом свойственно насыщение образа переживанием, повышенная значимость поэтической экспрессии, стремление ощутить символ как единство явленного и умонепостижимого, обнаружить скрытые за внешней оболочкой реальности тайные связи и законы мира – порой данные лишь на иррациональном уровне поэтической интуиции.
В книге о русском символизме Л. Колобаева дает определение модернизма, близкое к нашим характеристиками символа в деревенской прозе (хотя и не включающее, само собой, реалистическое его измерение): «Модернизм оперирует образами как моделью сознания (или “переживания”), а не объективного мира как такового <…> образ [пользуясь определением символиста А. Белого. – А. Б.] – это “модель переживаемого содержания сознания”»38. Следовательно, основной признак модернизма (и символического письма) – субъективность. С другой стороны, синтез истории и поэзии, обуславливая реалистическое наполнение символа у писателей-деревенщиков, обнаруживает и такие характерные свойства символа, как сочетание «низшего» и «высшего», «частного» (микромир) и «общего» (макромир).
Историческое (реальное) наполнение и функции символа у деревенщиков проявляются и в том, что вещь, предмет, природное явление у них обретают статус нормативного субъекта, скрывающего (и открывающего) свою собственную историю. Как это у Ф. Абрамова в прологе к «Братьям и сестрам», хроникам села Пекашина: «Полуистлевшие, источенные муравьями, они [пекашинские пни. – А. Б.] могли бы многое рассказать о прошлом деревни»39. С этой точки зрения, важно социоисторическое наполнение «реального» символа – носителя мет исторического времени. Но такое наполнение символа дома у Абрамова, к примеру, обнаруживает и девальвацию, разрушение символа историческим (здесь – военным) временем:
«Клали избу прошлой осенью… Клали второпях, из старья – новых бревен хватало только на верх и низ, и вот получилась хоромина военного образца: один угол свело в сторону, другой сел, когда еще не набрали крышу»40. Искажение, сдвиг, кривизна – меты модернистского сознания в перевернувшейся реальности – также зафиксированы здесь.
Внеисторическое, «переживаемое время» схвачено деревенщиками в темпоральном символе – к примеру, в повести К. Воробьева «Почем в Ракитном радости» – своеобразной «поездке в прошлое» деревенского детства. Вначале «обратное» движение повествователя (авторского «я») по дорогам своей памяти передается ходом нанятой специально им для этой поездки машины: ей словно передается символическая функция хода времени, движения человеческой жизни, перемещения в биографическом времени автора-повествователя. Затем возникает «сквозной» (для повествования) темпоральный символ с христианской подосновой – образ пасхального яйца, где отражается семантика радости, возрождения, обновления личности (заметим перекличку с названием). Пасхальный образ символически уподобляется единице временнóго измерения41: «…день мне казался крашеным яйцом – давним весенним подарком малолетнему сироте»42. Попадая в силовое поле сельской идиллии (через соединение с темой детства, образами детей и мотивом радости деревенского бытия), символ как бы проходит стадию очищения, обновления. Недаром яйцо именно пасхальное – это символ возрождения.
А, скажем, в нумерологии «Царь-рыбы» Астафьева находят воплощение космические основы Великого «Миротворного круга» – древнерусского календаря, пришедшего на Русь из Византии и фиксировавшего тот временнóй период, или «круг», по прошествии которого даты пасхального возрождения возвращаются к тем же дням недели и числам месяцев. В свете библейской символики астафьевской повести («царь-рыба» – символ Христа, сцена ее поимки несет в себе мотивы и гибели, и возрождения) особое значение обретает факт соответствия возрастов героев (Эле 19 лет, Акиму 28) темпоральной структуре Великого индиктиона византийцев или Миротворного круга наших летописей, построенного из совмещения 19-летнего «круга луны» с 28-летним «кругом солнца» и являющегося перемножением этих величин.
Так проза Распутина, Абрамова, Астафьева, Воробьева и других деревенщиков, в ее модернистском измерении, бросала вызов вульгарному материализму, обратившись к восстановлению представлений о духовности как части реальности (и расширив тем самым представления о последней и о реализме также).
Торжество субъектных форм памяти, их объективизация и «материализация» в воображении автора, читателя и героев обнажают здесь условность человеческих представлений о времени и о себе. Но модернистские интенции В. Распутина и других деревенщиков подспудно наталкивались и на сопротивление художественной действительности реалистического толка. «Овнешствленная» реальность прозы в ее плотных формах нередко выступала и как сфера преодоления (автора, читателя) – в поисках идеала, восстановления духовности, человечности. Так, рассказы Распутина «Уроки французского» и Носова «Красное, желтое, зеленое…» построены по линии столкновения детской души и ее веры (в жизнь, родных и добро) с отраженной в повествовании жестокой сталинской реальностью. Воссоздается – знаковая для модернизма – ситуация исторического, эпистемологического разрыва: здесь – между традиционной нравственностью и сталинской государственной машиной; между сельским общинным миром
и отчужденностью, механистичностью городского социума тех лет; наконец, между крестьянской цивилизацией (уже расколотой коллективизацией, раскулачиванием) и раскрестьяниванием России. По сути, подобные разрывы пронизывают всю деревенскую прозу, начиная с раскола «Матрениного двора» через «Прощанием с Матерой» и далее. Конец земледельческой эпистемы, традиционного крестьянского мира показан в «Живи и помни» Распутина, «военных» произведениях Астафьева, Носова, Воробьева и других через ситуацию распада мирной жизни в огне военного лихолетья.
Модернистские тенденции – уже на грани постмодернизма – усиливаются в постпериод деревенской прозы в связи с распадом советской реальности и переходом в состояние эпистемологического разрыва43 на рубеже ХХ – ХХI вв. Так, в «Живой воде» Крупина воссоздается ситуация хаоса, всеобщего распада, перевернутых смыслов века. Через сказочный сюжет о поиске и обретении чудодейственной воды в одной из обычных сельских местностей происходит смещение и пародирование традиционных фольклорных и литературных норм и форм. Легендарная «живая вода» то мифологизируется, то переходит – в унылой реальности поселкового быта – в разряд обычной водки, с упоением потребляемой местными мужиками. Ироническому пародированию подвергается, к примеру, традиционный (для русской литературы) тип «подпольного человека»: им становится сельский философ Кирпиков, который сам себя запирает в подпол собственного дома. Подобно шукшинским чудикам, герой делает еще одну попытку создания соответственной – альтернативной окружающему – реальности. Объектом изображения, таким образом, становится не столько социальная действительность, сколько ее кризисное отражение в сознании человека («Я записал, что умер. В тетради»44).
Иронической интерпретации подвергается и соцреалистическая модель «светлого будущего» как всенародной здравницы для трудящихся (в которую превращается славная обитель «живой воды») – в целях повсеместного оздоровления и всеобщего довольства при сплошной уравниловке: «С заявлением об уходе с работы пришла фельдшерица Тася Вертипедаль. Делать ей стало нечего – все были здоровы и довольны жизнью. И в самом деле: жители поселка стали примерно одного веса <…> подравнялись в росте <…> Все стали как будто на одно лицо»45. Миф (в том числе и идеологический) вступает во взаимодействие с реальностью – в том числе и через проникновение в сновидческие фантазии героев, их субъектную «оптику видения», актуализацию коллективного бессознательного (куда входят и грезы о чуде «живой воды» и т. п.). В результате условная реализация идеальной идеологической модели оборачивается показателем ее распада в реальности исторической.
Как видно, несмотря на все различие модернизма и постмодернизма, и деревенская проза на рубеже веков испытывает влияние последнего – на уровне обыгрывания литературно-фольклорных, идеологических образцов и их иронически-пародийного снижения. Однако в случае с модернизмом деревенской прозы цель здесь оправдывает средства. Собирание своего – альтернативного кризисной реальности – мира (автором, героем, сельским ли социумом) соотносится в ней с модернистским преодолением эпистемологического разрыва: отказом от исторического оптимизма и поиском новой точки опоры в распадающемся на несостыкующиеся элементы мироздании. Потому и кажутся неубедительными попытки нынешних критиков записать некоторых ведущих писателей-деревенщиков в ряды экспериментаторов от постмодернизма.
Так, Т. Чередниченко в работе «От реализма к постмодернизму (О поздней прозе В. Г. Распутина)» верно говорит о том, что творчество этого писателя «можно рассматривать в эпистеме литературных традиций Ф. М. Достоевского и Н. В. Гоголя», о «совпадении распутинских тем с темами Достоевского» и совпадении «метафизического мировоззрения Распутина с мистическим сознанием Гоголя46. Однако дальнейшие ее выкладки полны самопротиворечий – вплоть до полной путаницы понятий и смещения критериев оценки. К примеру, автор утверждает: «В настоящее время принято считать постмодернизмом все, что выходит за рамки обычного, нормального автоматизма, разрушает язык и выражает подсознательные начала. Поэтому становится возможным сближение
В. Распутина с постмодернистами [очевидно, потому что борец за русское Слово «разрушает язык»? – А. Б.], ведь для последних его рассказов характерны такие явления творческого процесса, где «я» героя раскрывается во внутренней своей форме [это ли показатель постмодернизма? – А. Б.], то есть начинает уделять внимание своему нутру. Но это нутро не физическое, не духовное, а психологическое [как будто нет психологизма у реалистов и модернистов. – А. Б.], основанное на бессознательном бытии человека [но не только. – А. Б.]»47.
Весь процитированный пассаж свидетельствует о весьма распространенном сейчас неразличении между реализмом, модернизмом и постмодернизмом. Понимание последнего притом у нас весьма затемнено и, как правило, исходит из доморощенных псевдолитературных поделок, создатели которых, прикрывшись модным западным термином, на деле пропагандируют откровенный китч. Считая Распутина представителем символического реализма, но не отрицая у него присутствия модернистских тенденций (использование приема «плавающего центра», объективизации субъектных форм, поиска своей, новой точки опоры в распадающемся мире, отказ от темпоральной линейности и обращение к «переживаемому времени» и т. п.), я тем не менее полагаю невозможным записывать его в так называемые «постмодернисты», отличительной чертой которых, если следовать странной логике процитированного критика, к тому же следует считать «разрушение языка», да не в позитивном ли плане считать-то?
Действительно, бытующее сейчас неразграничение между модернизмом и его «пост»-двойником, принявшим к тому же весьма уродливые очертания на нынешней псевдолитературной почве, приводит к смешению художественно-эстетических, философских ориентиров. Ведь если модернизм, прорываясь сквозь семиотические покровы к онтологическим началам Бытия, ищет – и находит! – за распадом традиционных форм духовные опоры существования человека в стремительно меняющемся мире и, таким образом, художнической волей преобразует Хаос в Космос, то второй лишь фиксирует в человеческом сознании утрату любой точки опоры – будь то бог, законы природы или догмы марксизма-ленинизма. Как не без иронии заметил И. Хассен, постмодернисты, признавая распад чуть ли не единственной имманентной миру данностью (то есть своеобразной нормой человеческого существования), вполне комфортно устроились в конституируемом ими хаосе и даже прониклись к нему «чувством интимности»48.
Очевидно, весьма сложно признать в столь яростном защитнике русской идеи, как В. Распутин, адепта вселенского хаоса и певца распада. Свидетельство тому в его поздней прозе, к примеру выведенный в названии рассказа «Изба» (1999) традиционный для деревенской прозы символ родового крестьянского дома, обретающий здесь – на фоне распавшейся социокультурной реальности, в контексте трагической судьбы крестьянского рода и его представительницы, старой крестьянки Агафьи, – высокое философское звучание. В рассказе Распутина это центр крестьянского космоса. Недаром в ясные звездные ночи, когда героиня «выходила постоять возле избы», представала перед ней такая картина: «Мельконько, приглушенно мигали звезды, луна с поджатым боком устало продиралась сквозь дымную наволоку, в свинцовой неподвижности стыла Ангара, разворачиваясь вправо, к Криволуцкой… В глубоком сне лежал поселок, лес по горе чернел остистым и вытертым воротниковым опухом… А над ее, над Агафьиной избой висело тонкое, прозрачное зарево из солнечного и лунного света» (с. 594).
Привычный после «Матрениного двора» Солженицына и «Дома» Абрамова образ сельского жилища обретает под пером позднего Распутина черты эсхатологической отстраненности: на наших глазах в повествовании под умелой рукой мастера словно бы происходит «разматериализация» материального объекта, перевод его в сферу «чистых» сущностей, сугубо духовных форм. Этому способствует и кольцевая композиция, представляющая судьбу человеческой обители за пределами жизни ее хозяйки. К примеру, в прологе облик оставленного ею жилища обретает инфернальные тона: это некое метафизическое тело, обитель осиротевших душ:
«Заходили сюда, в большую и взлобисто приподнятую ограду, откуда виден был весь скат деревни к воде и все широкое заводье, по теплу старухи, усаживались на низкую и неохватную, вросшую в землю, чурку и сразу оказывались в другом мире. Ни гука, ни стука сюда, за невидимую стену, не пробивалось, запустение приятно грело душу, навевало покой и окунало в сладкую и далеко уводящую задумчивость, в которой неслышно и согласно беседуют одни только души» (с. 572).
Итак, вновь – «что стало с нами после?..» Однако, проходя (на протяжении дальнейшего повествования) через горнило человеческой судьбы (хозяйки Агафьи), потусторонний, зыбкий образ этот наполняется красками и звуками, смыслами и чувствами прожитой жизни: отлетевшей, но оставшейся в жилище своем – словно в земной оболочке – души человеческой. Отсюда и финальное утверждение – через метаморфозы символа крестьянского жилища – идеи русскости как извечного выживания и народной стойкости перед лицом разрушения, неизбежных перемен и исторических испытаний:
«Дышится не вязко и не горкло, воздух не затвердел в сплошную, повторяющую контуры избы фигуру. И в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют и, кажется, отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры» (с. 607).
Так ставшее сном, ушедшее, кажется, в видения и грезы о былом как навсегда прошедшем, таит в себе возможность возрождения – пробуждения потаенных, но не протраченных еще сил национальной личности, народной души.
Налицо неразрывное сопряжение в поздней распутинской прозе реалистичности и символики, «истории и поэзии», модернистского внимания к иррациональному образу мира и одновременно к вековым основам народной мудрости.
В продолжение полемики с тезисами Т. Чередниченко отмечу, что в своем выступлении о В. Распутине критик говорит о «нормальном автоматизме» (то есть рефлекторно-интеллектуальной деятельности) как о явлении, вынесенном за рамки постмодернизма. Но здесь автор сама себе противоречит, далее упоминая о выражении в последнем «подсознательных начал». Ведь «нормальный автоматизм» – это и есть одно из проявлений социального и культурного бессознательного. Бравируя постмодернистским «разрушением языка» – что само по себе странно, – уж тем более стыдно клеить столь «блестящий» ярлык такому замечательному стилисту, как
В. Распутин. Ведь восприятие слова как эстетического объекта – мета подлинного художественного таланта, который отнюдь не разрушает язык (разрушить язык невозможно!), а выявляет в языке его неисчерпаемые эстетические смыслы. Узким представляется и суждение о психологизме как основанном лишь на бессознательных началах: воссоздание психологии (автора, героя) предполагает и проникновение в сферы сознания, саморефлексии, рациональных начал человеческого эго. Столь же странным образом критик соединяет приписываемое писателю постмодернистское «новаторство» с явной устарелостью мироощущения «советского писателя», замкнутого в мире им же созданных литературных образцов: игрой и перетасовкой этих образцов и пронизан, согласно критику, постмодернистский дискурс позднего Распутина.
Чередниченко пишет: «Слово в произведениях Распутина не находит опоры [имеется в виду духовная опора. – А. Б.], замыкается в себе». В итоге Распутин «доживает “старые запасы”, донашивает наследованную реальность, перекрывает ее в новом контексте, растягивая и выворачивая, сводя ее к “культурным дискурсам” [и только? – А. Б.], где уже от жизни остается иллюзия. Думается, это результат провоцирующей словесности постмодернизма, которая, добиваясь своего, исподволь ослабляет и ту духовную магистраль, которая определяла стержневую, коренную русскую литературу…»49 Но ведь все как раз наоборот… Распутинское слово находит духовную опору и в магистральной традиции русской литературы; в самостоянье человека, его духовных резервах; в боге, православии. Оно открыто общественному сознанию (и свидетельство тому – социально-нравственная актуальность поднимаемых проблем, высокий гражданский пафос и публицистичность), а не замыкается в себе – иными словами, оно глубоко исторично. Характеры, образы героев «Избы», «В ту же землю…», «Женского разговора», «России молодой», наконец, пронзительной по своему гражданскому пафосу повести «Дочь Ивана, мать Ивана» неотделимы от исторического времени русского народа.
Потому вряд ли можно согласиться с «научным» выводом Т. Чередниченко (со ссылкой на В. Курбатова), что «слово в произведениях Распутина “не находит прежних устойчивых значений, не совпадает с новой реальностью и поэтому не покрывает и не ухватывает ее”»50. Напротив – Слово Распутина больше этой новой реальности. Впрочем, «большое видится на расстоянии». А автор дискутируемых строк (Т. Чередниченко) слишком близка «новой реальности» в своей собственной (то есть весьма далекой от подлинно реальной) интерпретации – весьма, однако, малоубедительной, как показывает продемонстрированный опыт тенденциозного «анализа» и механического присоединения подлинного к мнимому…
* * *
Как показывает творчество В. Распутина и близких ему по мироощущению писателей, пространственно-временная природа деревенской прозы обнаруживает многомерность и разноликость этого литературного направления в соотношении с такими категориями национального сознания, как русскость, русская идея, русская душа и прочие. Концепты времени и пространства проявляют свои ментальные свойства, тяготея – в соизмерении с моделью национального мира («макромир в микромире») – к основной антиномии русского самосознания: традиционализм и воля.
Темпоральная структура деревенской прозы сложна и в основе своей антиномична. Поступательно-хронологическое, линейно-историческое время в ней вступает в острые конкурентные отношения с циклическим – природным и родовым, исконно свойственным народам с аграрным прошлым. Русское крестьянство в ХХ в. испытало множественные исторические катаклизмы, разрушившие традиционные основы его жизнедеятельности и самовоспроизводства. Потому и столь интенсивно деревенская проза 1960–1990-х годов утверждает природно-циклическое время – как более сущностное, настоящее. Это, однако, не означает выключенности данного литературного направления из исторических процессов ХХ в. Напротив, минувшее столетие как особый исторический цикл, со своими специфическими особенностями, – в центре внимания деревенской прозы, отразившей достаточно полно его основные этапы и особенности. Однако авторской современности, историческим экскурсам в недавнее прошлое 1920–1930-х (коллективизация, раскулачивание), 1940–1950-х (война и кризис сталинизма) противостоит ориентация на более стабильные темпоральные формы, издавна определившие уклад национальной жизнедеятельности. Потому и традиционное циклическое время столь вариативно претворяется деревенщиками – в отличие от линейной поступательности и темпоральной «одноколейности» соцреалистической литературы «светлого будущего».
Темпоральный спектр деревенской прозы включает в себя не только вечную повторяемость природно-сезонных циклов в ее возрожденческой сути, родовое время смены поколений, но и личное (частное) время человека в его онтологической сущности, восходящей как к своему первоистоку – к светлой поре детства с его идиллической атмосферой, пронизанной магической и несколько наивной верой в чудо, – так и к особой категории межцикличной предельности, связанной с ситуацией завершения крестьянской эпистемы: категории «последнего срока», «завершающегося времени» как метафоры утраты.
Условное измерение художественной темпоральности у деревенщиков тяготеет к времени литературной традиции, вводя их прозу в общее развитие русской классики. Ведь запечатленное ею поместно-крестьянское, родовое время исконно было основой жизнеспособности русского общества, стабильности национального сознания. Как затем и в деревенской прозе, в творчестве А. Островского, Л. Толстого, А. Чехова и других писателей XIX в. показан распад темпоральной структуры русского общества и его самосознания – пока еще, правда, начало этого распада, обусловленное продажей родовых деревень, «вишневых садов» и прочего. Этот процесс завершился в ХХ в., как убедительно показали деревенщики, уничтожением «неперспективных деревень» и собственно аграрной, сельской России.
Многомерность художественного времени у деревенщиков – его «расслоение» на время автора (повествовательное) и героя (психологическое, биографическое), мифическое и фольклорное, трансцендентное и иллюзорное, открытое и замкнутое, линейное и линеарное и прочее – не означает отсутствия внутреннего единства, цельности, что обеспечивается тяготением к единой темпоральной доминанте. Поиск «утраченного времени» русскости – национальной самобытности, социальной гармонии и этико-эстетической состоятельности – пронизывает ностальгические повествования таких писателей, как Распутин, Астафьев, Абрамов, Носов, Личутин и прочие. В этом кардинальный спор деревенской прозы и утверждаемой ею русской идеи с расхожей (и уже выхолощенной в послесталинском пространстве надорванной России) идеей советскости. Именно такая «архетипическая доминанта эпохи» определяет огромное значение в данном направлении концепта памяти как некоей идеальной модели сознания и бессознательного, дающей убежище нереализованным стремлениям, тайным образом желаемому и несбывшемуся, и в своем пределе направленной на «восстановление подавляемого» – крестьянской цивилизации. Архетипическая доминанта обуславливает и явное тяготение деревенской прозы не только к ретроспективности, но и к вневременным формам художественного мышления, таким как анахронизм, мир и вечность, историческая инверсия, архетип и другие.
В целом художественная семантика времени здесь раскрывается в интенсивной (авторской) игре темпоральными пластами, координации разнонаправленных временных потоков. Такая темпоральная полифония свидетельствует и о выходе деревенской прозы за рамки сугубо реалистических форм – о сближении художественного мышления деревенщиков с опытом русского и западного модернизма.
Линия этого сближения проходит и по той черте деревенской прозы, которую можно определить как «пространственность времени». Микромир русской деревни здесь выступает как хранитель утрачиваемых – быстротекущим временем Истории – ценностей национального Бытия: в противовес эклектике распадающейся крестьянской эпистемы в ситуации близящегося к концу века. «Утраченное время» былой русскости, крестьянской цивилизации свертывается и словно б замирает в охранном пространстве родного дома, угла, села.
Кажется, пространство здесь обнаруживает свои непознанные символические свойства: это уже «переживаемое пространство», аналог «переживаемого времени». Потому и столь продуктивны в системе мышления деревенщиков традиционные хронотопы, близкие к аграрно-природным символам (дом, изба, сад, огород, подворье, дорога, мельница, остров и прочее). Вбирая в себя высокие онтологические и натурфилософские смыслы, они порой выступают и как подобия или отражения, сколки единой модели национального мира – в ее разнообразии и многоликости. Хронотопы, как правило, становятся и вместилищем продуктивного времени роста и плодородия, жизненного развития в его силе и мощи, неся в себе вспышки и отсветы идеи русскости – неистребимого торжества национальных форм развития в советской России.
«Через убедительно выписанные, полнокровные картины сельской жизни, – считает современная западная русистика, – представители деревенской прозы сумели показать существование глубоко укорененной, традиционной национальной жизни, сохранившейся в микрокосме русской деревни: образ деревни как заповедника русскости…»51.
____________________________
1 См. своеобразный диалог литературы и науки в названии современного исследования: Савельева И., Полетаев А. История и время. В поисках утраченного. – М., 1997, а также главу «В поисках утраченного времени: преодоленное время» во II томе труда П. Рикера 1985 г. «Время и рассказ» (М., 2000).
2 Первый и, пожалуй, единственный, кто не побоялся сказать о возрождении русского модернизма в творчестве деревенщиков (в частности, в прозе В. Шукшина), – В. Сигов. См.: Сигов В. К. Русская идея. В. М. Шукшин. – М., 1999. – С. 87.
3 Распутин В. Дочь Ивана, мать Ивана. – Иркутск, 2004. – С. 189–190. Курсив во всех цитатах здесь и далее мой.
4 Лихоносов В. Люблю тебя светло. – М., 1985. – С. 24.
5 Там же. – С. 30.
6 Распутин В. Изба // В. Распутин. Собр. соч.: В 2 т. – Калининград, 2001. – Т. 2. – С. 607.
7 Лихоносов. Указ. соч. – С. 29–30.
8 Распутин В. Видение // В. Распутин. Собр. соч.: В 2 т. – Калининград, 2001. – Т. 2. – С. 626–629.
9 Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. – М., 1979. – С. 254.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?