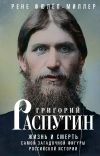Автор книги: Сборник статей
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
III. Изгнание из рая или жертвоприношение?
Важно отметить, что при всей своей близости идиллическому хронотопу остров Матера – не утопия и не идиллия. Это благодатное место, на котором оказалось возможным приближение к райскому житию, причем раскрылась сущность этого места материнцам перед самым концом: «Вот стоит земля, которая казалась вечной, но выходит, что казалась, – не будет земли»31. «Описывая Матеру, – отмечает С. Королева, —
В. Распутин сознательно привносит семантику “сотворенного мира”: “Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре”; введенные в текст библейские аллюзии придают острову сходство с райским садом. Таким образом, вынужденное переселение материнцев, вызванное строительством Братской ГЭС (конкретно-историческое измерение), во втором, условно-мифологическом, слое повествования прочитывается как “изгнание из рая”»32.
Думается, здесь исследовательница все же не совсем точна. Несмотря на близость архетипической модели рай/изгнание из рая к материалу повести, эта модель предполагает в качестве ключевого мотив нарушения запрета, греха, вины, который и обусловливает изгнание. Здесь же вина не ясна: Дарья, напрягая мысль, на всем протяжении повести пытается осознать, за какие грехи ее постигло это наказание, и не находит их. Напротив: грех лежит скорее на тех, кто внутренне уже отпал от Матеры или никогда не принадлежал к ней, – поджигатель Петруха, Клавка, мужики-разорители. Можно сказать, что грех вообще заложен в самом так называемом историческом прогрессе, требующем во имя сомнительного комфорта принесения в жертву святого острова. В любом случае грех – за пределами Матеры и проникает в нее как бы извне. Здесь именно хоронятся, спасаются от мира и греха: недаром купец, плававший по Ангаре, выбрал Матеру как место своего захоронения: «…пришел к мужикам, которые тогда жили, пришел и говорит: “Я такой-то и такой, хочу, когда смерть подберет, на вашем острову, на высоком яру быть похоронетым. А за то я поставлю вам церкву христовую”. Мужики, не будь дураки, согласились. И правда, отписал он деньги, купец, видать, богатный был… целые тыщи – то ли десять, то ли двадцать. И послал главного своего прикащика, чтоб строил. Ну вот, так и поставили нашу церкву, освятили, на священье сам купец приезжал. А вскорости после того привезли его сюды, как наказывал, на вековечность»33. Хоронятся, спасаются на Матере, подобно бомжам, в богодуловском бараке от «адища города» старухи, мальчик Коляня и сам Богодул. В образе «лешего» Богодула наиболее наглядно отрицается городская цивилизация. Когда ему предлагают перебраться с острова, тот выказывает глубочайшее презрение: «– Ык! – отказался Богодул. – Гор-род! – и возмущенно фуркнул»34.
Образ Матеры приближен к райскому, но не сливается с ним. Это отнюдь не сад, но скорее лес, луга и пашня – ухоженная, благодатная, богатая земля, противопоставленная «пустыне» городов и поселков городского типа: «…самая лучшая, веками ухоженная и удобренная дедами и прадедами и вскормившая не одно поколение… Кто знает, сколько надо времени, чтоб приспособить эту дикую и бедную лесную землицу под хлеб, заставить ее делать то, что ей не надо. А со старой пашни, помнится, в былые времена и сами кормились, и на север, на восток многие тысячи пудов везли. Знаменитая была пашня!»35 Между прочим, присутствие земледельческого труда и пахотной земли также не позволяют отождествлять Матеру с раем, поскольку земледелие – одно из следствий изгнания человека из рая36. Рай – сад, но не пахотная земля. В. Пропп в своем глубоком исследовании исторических корней волшебной сказки отмечал, касаясь вопроса о тридевятом царстве (сказочный образ Царства Небесного): «Заметим, однако, что как ни прекрасна природа в этом царстве, в ней никогда нет леса и никогда нет обработанных полей, где бы колосился хлеб. Зато есть другое – есть сады, деревья, и эти деревья плодоносят»37.
Неизвестно вообще, удастся ли изгнать с острова Матеры оставшихся на нем верных. Финал повести открыт; плывущий за последними материнцами катер блуждает в тумане, голоса старух, как отмечает ряд исследователей, звучат как бы уже из потустороннего мира: «– Че там? Где мы есть-то?.. – Это ты, Дарья? – Однако что, я. А Настасья где? Где ты, Настасья? – Я здесь, здесь…»38
Таким образом, это святое место, и его затопление правильнее будет истолковать не как изгнание (при изгнании, кстати, ведь остается и место для возвращения), но как жертвоприношение. Изгнание из рая – это начало человеческой истории, а затопление Матеры – ее конец. Вместе с Матерой готовы погибнуть не грешники (что позволило бы рассмотреть данный сюжет в контексте мифа о всемирном потопе), но праведники – распутинские «святые старухи» и юродивые – мальчик-«немтырь» и Богодул. И их вероятная гибель может произойти не по мановению божьей десницы, а от рук человеческих, что еще больше утверждает нас в мысли о совершающемся жертвоприношении. В жертву приносятся лучшие, чистые – в данном случае очищенные страданием – души. Тот же В. Я. Пропп в своем исследовании достаточно подробно описывал обряд водного жертвоприношения. Жертвами обычно становились те, кого языческие народы почитали «чистыми», святыми – то есть, как правило, младенцы и невинные девушки. У Распутина невинных девушек заменили «святые старухи». Важно в этой связи отметить и то, что материнские старухи – вдовы. А как отметил В. К. Сигов, существовал обычай отпевать многолетних вдов как девиц. Вдовство – возвращение в девичество.
В силу этого «Прощание с Матерой» – повесть о жертвоприношении. «Прощание» – с землей, с избой, с кладбищем – это подготовка к ритуалу и отчасти сам ритуал – древнейший обряд погребения, включающий в себя прощание как один из важнейших элементов. «Истинный человек выказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания – он это и есть, его и запомните»39, – звучит авторская речь. Именно прощание раскрывает суть. Прощание же, сопряженное со страданием, – это высшая точка напряжения человеческой жизни. В православной традиции иконографически она запечатлена в сюжете «Положение во гроб».
Впрочем, в самой повести явным образом никто не умирает. Разве только дед Егор невидимо умирает на чужбине. Здесь важна гибель самой Матеры – острова, земли, культуры. Матера прежде всего и приносится в жертву, а населяющие ее люди как бы вспомогательны, как бы «прилагаются» к ней, они просто не смогут без нее существовать, как маленькие дети без матери или птенцы без гнезда. И, делая акцент на гибели земли, а не людей, писатель следует логике эсхатологического мифа.
IV. Эсхатологическое время повести
Хронотоп острова идеально подходит для эсхатологического мифа, поскольку в разверзающейся апокалиптической бездне пространств и времен вся земля кажется островом. Если пространственно хронотоп острова реализуется через отдаленность/отделенность от большой земли, то основной временной характеристикой является здесь единство с вечным, «сплошность» материнского времени, закрепленное в слове «вековечность» и противопоставленное суетному времени большой земли. «Конечное», «материковое», «суетное» время здесь преодолевается. Затопление же Матеры вдруг привносит это преодоленное, побежденное на острове материковое время, оно настает и вступает в спор с вековечностью, что и является, на наш взгляд, основным конфликтом, заявленным первой фразой повести40.
«Исчезновение» материкового времени на Матере представлено автором в размышлениях Павла: «Приезжая в Матеру, он всякий раз поражался тому, с какой готовностью смыкается вслед за ним время: будто не было никакого нового поселка, откуда он только что приплыл, будто никуда он из Матеры не отлучался… Приплыл – и невидимая дверка за спиной захлопывалась, память услужливо подсказывала только то, что относилось к тутошней жизни, заслоняя и отдаляя все последние перемены»41 (выделено мной. – И. Б.).
Очевидно, что материнское время имеет власть над пространством, оно способно «смыкаться» – заслонять и даже полностью поглощать его. Поселок на том берегу есть, но его парадоксальным образом нет. Бытие Матеры, ее время полностью заслоняют и покрывают собой псевдобытие поселковой жизни. Теперь же на остров проникают те, кого Дарья презрительно (как господ) именует «оне»: «Оне хозяева, ихное время настало»42.
Итак, есть «свое», «материнское» время и есть «чужое» – «ихное», и оно-то и наступает со всей неотвратимостью. Оно и является причиной всех бед.
Единое и цельное прежде, перед концом время на острове «расслаивается». Расслоение времени, которое сравнивается в тексте повести с перекрытием Ангары, отчего она течет несколькими потоками, выражается в конфликте «ранешнего» и «последнего», эсхатологического времени. «Ранешнее» время (в котором, кстати, нет никакой особенной мифичности, но есть простая правильность и гармония) совпадает со сроками – все происходит в свое время и в свой черед. «Ихное» время «непутевое», путаное, сроки наступают без времени. И, разумеется, оно движется чересчур быстро43.
Убыстрение времени (один из ключевых признаков конца света), которое происходит вне острова, материнцы прекрасно чувствуют и выражают словами: «Щас все бегом. И на работу, и за стол – никуды время нету. Это че на белом свете деется! Ребятенка и того бегом рожают. А он, ребятенок, не успел родиться, ишо на ноги не встал, одного слова не сказал, а уж запыхался. Куды, на што он такой годится?»44 Отметим здесь явную параллель с известным стихотворением Н. Заболоцкого «Новый быт», построенном на приеме убыстрения времени:
Восходит солнце над Москвой,
Старухи бегают с тоской:
Куда, куда идти теперь?
Уж Новый Быт стучится в дверь!
Младенец, выхолен и крупен,
Сидит в купели, как султан.
Прекрасный поп поет, как бубен,
Паникадилом осиян.
Прабабка свечку зажигает,
Младенец крепнет и мужает
И вдруг, шагая через стол,
Садится прямо в комсомол.
Предельно убыстрившееся и устремленное в неопределенное утопическое будущее время прямо противоположно по своему смыслу материнской вековечности. Затопление Матеры и предшествующее этому событию убыстрение времени – это экспансия городского хронотопа, экспансия «материка» на богоспасаемый остров. Поскольку остров Матера по своему хронотопическому смыслу является островом спасения, важно понимать, от чего же спасаются на острове Матера.
Спасение может иметь как пространственный, так и временной смысл. Скажем, спасение Робинзона на острове носит пространственный характер, который особенно подчеркивается в эпизоде переноса на остров с тонущего корабля уцелевших продуктов. Здесь спасение буквально измеряется расстоянием. Вообще можно сказать, что в западноевропейской традиции пространственные смыслы спасения на острове выявлены четче, чем временные. В конечном счете, как правило, найденный остров символически присоединяется к большой земле. Время измеряется пространством – это логика европейских географических открытий.
Русская традиция, напротив, ориентирована на спасение во времени. Град Китеж, напомним, «невидим бысть и покровен бысть рукою Божиею, иже на конец века сего многомятежнаго и слезам достоинаго покрый Господь той град дланию своею». Иными словами, этот город – как бы невидимая точка в пространстве, он существует в эсхатологическом времени – «на конец века сего». Остров Буян из «Сказки о царе Салтане» также отделен от царства Салтана преимущественно временными характеристиками: «И растет ребенок там / Не по дням, а по часам. / День прошел – царица вопит…» и т. д. Пространство измеряется временем.
Так и Матера в пространственном отношении спасением быть не может – прежде всего в силу близости к большой земле. Здесь нельзя укрыться, но можно упокоиться – что и показывает эпизод с купцом: «А вскорости после того привезли его сюды, как наказывал, на вековечность»45. Неважно, откуда его привезли, важно, что привезли на «вековечность», на покой. Вот эта самая вековечность и есть главное сокровище Матеры. Матера – остров, победивший беспокойно движущееся время. Ангара же, что вполне очевидно, символически сама означает время, поэтому пришлых колчаковцев, повешенных на суку царского лиственя, не хоронят здесь, но сбрасывают в Ангару.
Воды ее качественно различны: есть «своя Ангара» и, стало быть, по аналогии должна быть «чужая». Своя Ангара – это прирученное время. Затопление острова уничтожает границу между своим и чужим временем, своя и чужая Ангара сливаются, своей Ангары больше не будет, то есть вся река и все время теперь становятся отчужденными, чужими. Плывущие же по реке кресты в таком случае – это упраздненная чужим временем вековечность. Однако полностью одолеть вековечность чужому времени не дано. Наиболее зримым символом победы над временем – в том числе и над чужим – является бессмертный листвень, который, как не раз уже отмечали критики и исследователи, играет ключевую символическую роль в системе образов повести.
В мифопоэтическом комплексе острова как такового важная роль всегда отводится некоему особому дереву, которое обычно трактуется как древо жизни. Дерево как ключевой образ присутствует в мифологической традиции всех индоевропейских народов (ясень в Валхалле, дуб на острове Буяне и другие), и не только у них46. «Создавая этот символический образ, – отмечает С. Королева, – В. Распутин использует фольклорные мотивы, известные в связи с так называемыми “приметными деревьями” <…> В связи с этим священным деревом реализуется сюжет иерофании: в старой лиственнице как в части “естественного мира” проявляется “какая-то реальность, не принадлежащая нашему миру”, и Матера уходит под воду, сохранив свой “центр”, свою “ось земли”. Однако мало указать на связь с иным миром, которая и так очевидна. Важно понять, в чем именно она заключается.
Листвень сразу называется “царем” и “царским”: “Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несущего древнюю сторожевую службу. Но говорить “она” об этом дереве никто, пускай пять раз грамотный, не решался; нет, это был он, “царский листвень” – так вечно, могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый всеми»47. Эти определения богаты смыслами.
Во-первых, конечно же, царский – значит самый большой. Во-вторых, стоящий в центре. Царский – значит срединный. Если сама Матера, очевидно, женское начало, то листвень потому и «он», что – мужское. И если Матера – Мать, то листвень – Отец. И если Матера – Россия, то листвень – это Царский Род. Пресеченный, но не пресекшийся.
Царский род всегда символизировался именно деревом. Иконографически это закреплено прежде всего в знаменитом «Древе Иессееве». И если так, то срезанная молнией верхушка дерева – как уничтоженная бурей революции царская семья. «Без верхушки листвень присел и потратился, но нет, не потерял своего могучего, величавого вида, стал, пожалуй, еще грознее, еще непобедимее. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, ”царским лиственем”, и крепится остров к речному дну, одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять и Матера»48. Таким образом, воды покроют остров, но и под водой Матеру будет удерживать листвень, его извести невозможно – ни водой, ни огнем, ни железом. «Ого! – изумился мужик. – Зверь какой! Мы тебе, зверю… У нас дважды два – четыре. Не таких видывали»49. Но царский листвень не поддался уничтожению. В этом эпизоде писатель проявляет недюжинный эсхатологический оптимизм: царский род (а с ним и самостоятельное бытие Матеры-России) не может исчезнуть и еще проявится – возможно, на «конец века». Скорее воды времени обмелеют, истекут – а царский листвень и удерживаемый им остров не сойдут со своего места в вековечности.
Но почему материнцы вообще уступают свой остров, почему в конце концов пришлые пожогщики сжигают все, кроме богодуловского барака и царского лиственя? Почему Павел, сын Дарьи, беспрекословно слушает товарища Воронцова, почему безропотно принимает весть о затоплении Матеры? Почему «непутевый» Петруха оказывается едва ли не самым нужным и востребованным?
Очевидно, что материнцы принимают факт затопления как неизбежность, то есть как правду истории, которая стоит за строительством Братской ГЭС и прогрессом. Наиболее наивно высказывается на эту тему внук Дарьи, Андрей: «– Сейчас время такое, что нельзя на одном месте сидеть, – то ли доказывал, то ли оправдывался он. – Вы вот и хотели бы сидеть, все равно вас поднимают, заставляют двигаться. Сейчас время такое живое… все, как говорится, в движении. Я хочу, чтоб было видно мою работу, чтоб она навечно осталась, а на заводе что? <…> Мне охота, где молодые, как я сам, где все по-другому… по-новому. ГЭС отгрохают, она тыщу лет стоять будет»50.
В этом монологе жизнь и работа по велению времени понимаются как работа на вечные времена. Очевидно, что материнское время «сплошной вековечности» переосмысливается Андреем как «разделенное» – на «старое» и «новое», «временное» и «вечное». Причем «вечное» мыслится не как единое с временным, но именно как разделенное с ним, и «вечность» проецируется в отдаленное будущее – «тыщу лет».
Это разговорное «тыща лет» восходит, разумеется, к апокалиптическому тысячелетнему Царству праведников, о котором говорится в книге Откровения (20:4). Перенесение «вечности» в будущее известно с раннехристианских времен как ересь хилиазма, или милленаризма. Истоки утопического мышления Нового времени восходят именно к этой ереси, к этому неверному толкованию Священного Писания. Хилиастическо-утопический элемент, как отмечают историки, определял в России и церковную реформу патриарха Никона. «Сакральное измерение времени, – пишет современный исследователь
В. И. Карпец о никоновой “справе”, – было открыто в неопределенно-будущее состояние; “волк духовный”, или “волк мысленный”, выпущен на свободу. По мере вытеснения не только сакрального, но и простого религиозного измерения такое время становится “дурной бесконечностью”, порабощенной идеей “прогресса”. Время бывшей “Святой Руси”, “града ограждения” было соединено с линейным временем Запада, после чего и календарные реформы Петра I стали неизбежны. Именно литургическая реформа сделала Россию частью модернизируемого – не в техническом, а в духовном смысле – мира»51.
Но «духовная» и «техническая» модернизации – две стороны одного и того же процесса. Повесть «Прощание с Матерой» показывает это со всей очевидностью. Затопление острова, мотивируемое модернизацией (строительство ГЭС), вытекает из модернизированного понимания времени. Это понимание дает модернизаторам кажущуюся власть над историей, поскольку они действуют как бы от лица будущего, являются его «агентами». Однако парадокс в том, что участники поспешного движения вперед не уверены в себе, в своих речах и поступках – неуверенна речь товарища Жука, не уверен и Воронцов, который просто, не задумываясь, выполняет чье-то решение: «– Да они что?! – Жук, побледнев, обернулся за помощью к Воронцову. – Они, кажется, не понимают…»52
Все это наводит на мысль, что история просто узурпирована теми, кто выступает от ее лица. Ведь Воронцов, Жук и другие, претендующие на власть над временем, на самом деле не знают, для чего они действуют, не знают даже своего ближайшего будущего. В финале повести у них даже нет уверенности, что они доплывут до острова в туманной мгле. Современная нам история показывает, что лишь несколькими десятилетиями измеряется существование построенных «навечно», на «тыщу лет» гидроэлектростанций – да и всего советского модерна.
Реальной же властью над временем обладает царский листвень – «удерживающий» Царский Род. «Удерживать время» – значит хранить настоящее, бытие – то, что есть, – от распада, а вовсе не разрушать настоящее от лица неопределенного будущего, выступая таким образом агентом небытия. Об этом писал, в частности, о. Павел Флоренский в работе «Философия культа»: каждый срок в сакральном смысле должен быть «заполнен лицом, его характеризующим». «В истории, – комментирует данное положение В. И. Карпец, – это Православный Царь, Император, в месяцеслове – святой дня. Такое время неотделимо от пространства, выступая с ним вместе как единое целое. И хранителем этого замкнутого пространства-времени, “покоя Церкви”, выступает именно сакральный правитель, Царь, Император, Великий князь, о котором и на Западе, отталкиваясь от папской узурпации, писал Данте —“власть, стоящая над всеми властителями во времени и превыше того, что измеряется временем” (“О монархии”) <…> Третий Рим не только удерживает от прихода антихриста, но удерживает и само время как сакральную категорию <…> “Уловленное в сеть” время само оказывается пленено катехоном, “удерживающим ныне”. “Выпустить время на свободу” – и есть открыть дорогу “духовному волку”, антихристу и его анти-царству, анти-империи»53.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?