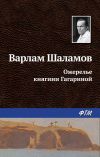Текст книги "В общем, все умерли. Рассказы"

Автор книги: Себастьян
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Болезнь
***
Амалия переворачивает страницу. Всё про нее, всё. Потеря интереса к жизни, повышенная утомляемость, снижение самооценки, идеи виновности, ухудшение памяти… Вот только потери аппетита и веса почему-то нет. Конечно, нет. Это ведь такая важная составляющая ее ненависти к себе… Спешите видеть! Самая толстая уродина на свете – Амалия-аномалия. А потому что жрать надо меньше. И ведь не хочется, и невкусно всё, как восковые муляжи жевать, а всё равно…
***
– Никогда не рожай, – часто говорит Ирме мать.
Ирма думает, это потому, что она – плохая дочь.
Она старается, действительно старается, но мама всё чаще повторяет это заклинание:
– Не рожай, Ирма. Никогда.
Мама ходит по дому в грязном халате и не чистит зубы. Волосы у нее скатались в грязный ком, и Ирма плачет, пытаясь их расчесать.
– Отстань, – вяло машет рукой мама. – Оставь меня в покое.
Повсюду валяются пузырьки с таблетками. Они помогают маме исчезать на всё более длительное время. Тогда она просто лежит и смотрит в одну точку. Или спит. Ирма боится, что однажды мама не проснется.
***
Запахи. Сегодня всё пахнет не так. Диетическая кола воняет – точь-в-точь как бумажный завод. И вкус у нее странный. Амалия делится своим наблюдением, но никто ее не поддерживает. По мнению нормальных людей, кола пахнет колой.
***
Ирма боится, что мама наглотается таблеток и уснет навсегда. Но мама выбирает другой путь. Однажды она встречает Ирму, вытянувшись во весь рост из-под потолка. Да что там во весь рост, больше. Как это возможно? Ноги всего чуть-чуть не достают до пола, зато голова выше, намного выше, чем обычно. Наверное, груз забот, прижимавший маму к земле, наконец покинул ее. И мама вот-вот взмоет в небо. Чистая, освободившаяся мама.
Потом Ирма замечает мокрое пятно на грязном халате и лужицу на полу под мамиными ногами. Никуда она не взмоет.
Ирме одиннадцать лет.
***
Даже свет раздражает. Солнце мелькает за деревьями, не дает покоя своим мельтешением. Вот бы взять и выключить его. Насовсем.
***
Ирме шестнадцать, и она счастлива. Она курит «травку», положив голову на колени какого-то красивого мальчика. Имя мальчика не имеет значения. К черту ответственность и правила, Ирме хочется веселиться.
***
Весь мир меняется. Запахи. Вкусы. Световосприятие. Теперь вот непонятные ощущения в животе, будто кто-то схватил изнутри за кожу и тянет, мотает на кулак, пока вся Амалия не вывернется наизнанку.
***
Ирма родила. Остановился вихрь ее жизни, весь мир замер – и пошел улиточьим шагом. Ирма смотрит на скособоченное тельце новорожденного и вспоминает слова матери.
Теперь она понимает.
– Не рожай, Ирма.
«Ты тоже больна».
– Никогда не рожай.
«Ты тоже захочешь уйти».
А она родила. Дура. Дура.
И увязла в паутине будней, увязла окончательно и бесповоротно. Разве можно теперь – уйти?
***
Будущее. Какое у нее будущее? Амалии всё равно. Она давно уже не думает об этом. Это – счастье. Счастье – не думать, не планировать. Потому что мысли о будущем – мысли о смерти. А иногда удается их избежать. Не видеть леса за деревьями. Смотреть на мелкие будничные детали и не думать о бессмысленности своего существования. Купить помаду, как будто нужно красить губы, которые рано или поздно истлеют вместе со всем ее телом.
***
Сына назвала Туомасом. Дурацкое имя, как ее собственное. Так звали финского мальчика, которого она подцепила когда-то на хоккейном матче. Ребенок не от него, конечно. Просто немного похож получился. Глаза рыбьи, прозрачные, нос задорно торчит, как и чубчик, она бы назвала его Тинтин, да не позволили. Стал Туомасом.
Верхняя половина Туомаса – обычная, а вот нижняя будто слеплена наспех из остатков. Одна нога слишком короткая, кряжистая, со скрюченной стопой и сросшимися пальцами. А та нога, которая длиннее, тонкая, кривая.
Это не из-за экспериментов с «травкой», конечно. И не из-за того, что Ирма пила и курила во время беременности. Просто так вышло.
Ирма смотрит на сына и понимает, что будет жить ради него. Должна жить.
От этой мысли тошнит.
***
Амалия сидит на диване в доме отца и чувствует, как врезается в ее тело грубая ткань обивки. Отец, мачеха и сводные сестры болтают с ней о чем-то, но Амалия не слышит, хотя и отвечает. Она вспоминает, как мама сидела на этом же диване, положив руку на колено отца, и напевала какую-то рождественскую песенку на английском. Они тогда уже официально развелись, но все равно жили вместе. В старой квартире, которая потом сгорела. Уже после всего. Наверное, в маму тоже впивалась жесткая кусачая ткань, завладевая ее мыслями. А какой-то встроенный автопилот заставлял невозмутимо напевать дурацкую песню. Амалия ее даже не помнит, но вдруг строчки всплывают в памяти. Она откидывается на спинку дивана, глядя в потолок блестящими глазами, совсем как мама. И негромко поет, пытаясь перестать думать об ощущении ткани на коже. Не получается. Только отец смотрит странно и тут же отводит глаза.
***
– Когда Туомас умрет, я тоже умру, – говорит Ирма.
Руслан, теперешний муж Ирмы, знает всё. Про болтающееся под потолком тело мамы, про уверенность Ирмы в том, что и ее ждет та же участь.
– Прекрати, – говорит он.
Если Ирма пытается продолжать, он обижается. И Ирма перестает говорить с ним о смерти. Думать – не перестает.
Потом наступает затишье. Ирма знает, что ее болезнь вернется, но не думает об этом. Несколько лет она снова головокружительно счастлива. Руслан решает воспользоваться моментом и привязать ее покрепче. Не к себе, к жизни. Ирма поймет это позже. Сейчас же она верит, что и сама очень хочет родить еще одного ребенка. И рожает Амалию.
***
Иногда Амалия смотрит на люстру и думает об отце. Люстра, вид снизу. Деревянный кругляшок, три ответвления, на которых сидят плафоны, и деревянная загогулина по центру, наверное, для красоты. Как лицо черта с бородой, рогами и носом. Амалия мысленно пририсовывает черту глаза и рот. Снова и снова. И вспоминает голос отца, произносящий: «Будешь яичницу?»
Когда-то он произнес именно эти слова, пока Амалия смотрела на черта. И теперь она слышит их снова и снова. И продолжает мысленно рисовать лицо. Хочет перестать, но не может.
Амалия часто так подвисает. Иногда она часами выстраивает из негативного пространства между сложенными под определенным углом ступнями вазу. Выгибает пальцы ног, делая горлышко вазы более широким. Или смотрит на абстрактный узор линолеума и видит картины.
***
Туомас так и не умер. Ирма ждет и боится его смерти. Потому что после его исчезновения будет можно. Она уже решила для себя, что Амалия ее не удержит. Амалия здоровая, выдержит.
И Ирма говорит ей:
– Никогда не рожай.
Амалия не понимает предупреждения. Глупая маленькая Амалия.
***
Амалия никогда не родит. Она твердо решила.
Даже в периоды слепоты она помнит: рожать – нельзя. Слепота – это когда солнце не бесит, кола пахнет колой, дни мелькают в вихре событий, не оставляя времени на медитацию под люстрой. Амалия не разделяет периоды на здоровые и болезненные. Разве можно? Просто иногда она живет без кожи, а иногда – под ватным одеялом. О золотой середине она лишь догадывается, как дальтоник – об истинных красках мира.
***
Амалии одиннадцать. Туомас съехал к дружкам-наркоманам в общагу.
«Нельзя, нельзя, нельзя,» – твердит себе Ирма. Нельзя делать с Амалией то, что сделала с ней ее мать.
Близится двенадцатый день рождения Амалии. Ирма сдерживается изо всех сил. Жить невыносимо больно.
Потом ее укрывает волна безразличия.
***
Последний день. Наверное, этот день – последний. Да, определенно. Всё невероятно ярко и в то же время бессмысленно. Трется о кожу одежда. Запахи дерут нос. Солнце сводит с ума.
***
Ирма просыпается, когда Амалии уже четырнадцать. Кажется, в четырнадцать лет наступает уголовная ответственность? Или дают паспорт? Или можно замуж? Ирма не помнит. Да это и не имеет значения. Важно, что можно. Можно, можно…
Эта мысль окрыляет, одного ее наличия хватает, чтобы разогнать тьму. Свободна!
***
Амалия не ест и не чувствует голода. Она даже не чувствует себя безобразной, всё вдруг отключилось. Хочется просто лежать и лежать на кровати. Неужели снова наступает период ватного одеяла? Или что похуже?
Нет.
Надо успеть.
Амалия встает.
***
Ощущения свободы хватило ненадолго. Что такое заначка, если нельзя ее потратить? У Ирмы начинают чесаться руки. Она воспользуется своим правом. Плевать на всех. Неужели всех этих лет вынужденного существования им мало? Разве они посмеют обвинить и осудить ее? Ведь они так долго терзали ее, насильно удерживая на этом свете…
***
Амалию трясет. Она понимает, что принимает бесповоротное решение. Но это необходимо. Другого пути нет. Она умнее мамы. Она перехитрит свою судьбу.
Амалия набирает номер.
***
Ирма не будет вешаться. Она не хочет вытягиваться в струнку и оставлять после себя унизительную лужицу. И она позаботится о том, чтобы Амалия не видела…
Она забирается в ванну, предварительно отправив Амалию к бабушке, Руслановой матери. Руслан на работе, вернется поздно. Вот пусть он ее и обнаружит. Это даже не месть ему за рождение Амалии, нет. Просто так надо. Пусть считает это платой за освобожденную жилплощадь. Пусть наконец приведет в квартиру свою новую женщину и будет счастлив.
Ирма глотает снотворное и засыпает, засыпает, соскальзывая в небытие и в воду. Она не узнает, что подхватило ее первым. И не узнает, что обнаружит ее все равно Амалия.
***
К черту всё. Больше ни дня этой проклятой болезни. Амалия знает, как положить конец этому наваждению.
Она думает о маме. Интересно, она тоже ощущала невыносимую реальность окружающих предметов перед смертью? У нее тоже всё так мелькало, то врезаясь острыми краями, то исчезая? И самое главное… Ей полегчало?
Амалия надеется, что да. Она всё же любит маму.
Вот и всё. Пришла.
Амалия открывает дверь и подходит к стойке.
– Я записана на два часа, – говорит она вежливо улыбающейся девушке. Мнется и добавляет: – К Виктору Ивановичу, психотерапевту.
Обуза
Больше всего на свете Сергей Иванович боялся оказаться неспособным произвести здоровое потомство. У обеих его бабушек имелись за плечами аборты по медицинским показаниям и выкидыши. Мать Сергея Ивановича была седьмым и единственным выжившим ребенком в семье, а у отца где-то в деревне имелись два брата: один лежачий, второй – «дурачок».
Сам Сергей Иванович смутно припоминал, как в детстве его возили повидаться со старшей сестрой, жившей в интернате. Сестра пускала слюни, норовила уронить голову на нелепо задранное плечо и отчаянно хмурилась, будто забыла что-то важное и никак не может вспомнить. Потом визиты прекратились, но сосредоточенные гримасы сестры еще долго преследовали Сергея Ивановича. Иногда он замечал, что и сам в моменты задумчивости хмурится и склоняет голову набок. Уж не настигла ли его фамильная болячка?
Постепенно лицо сестры стерлось из памяти, а страх остался. Он руководил почти всеми действиями Сергея Ивановича. Запретил ему жениться сначала на близорукой, потом на сутулой, потом на сердечнице. В каждую из них Сергей Иванович был пылко влюблен, но под авторитетом страха отступил и стал искать здоровую и выносливую самку, способную разбавить его плохую наследственность своими надежными генами.
Поиски жены затянулись. Сергей Иванович успел открыть свой бизнес и влезть в местную политику. Ассортимент доступных невест заметно расширился – разумеется, исключительно благодаря растущей харизме Сергея Ивановича. А вообще-то его действительно любил народ. Все еще руководствуясь страхом, Сергей Иванович активно помогал всевозможным детским больницам, интернатам и прочим организациям, стараясь заработать как можно больше плюсов себе в карму.
Наконец из всех подходящих кандидатур была отобрана самая здоровая, надежная, ширококостная дама не слишком страшной наружности. У нее в числе ныне здравствующих родственников значились родители, брат, многочисленные дяди и тети с еще более многочисленным потомством, обе бабушки, один дедушка, три прабабушки и даже один прадедушка. Сергей Иванович понял, что больше тянуть нельзя, и женился.
Поскольку избраннице было уже двадцать семь, к созданию потомства приступили сразу же. Дама не подвела и забеременела практически с первого раза. В положенный срок Сергей Иванович забрал из роддома ее и долгожданного наследника, которого назвал, разумеется, Виктором. Ему важно было официально подчеркнуть свою победу над семейным проклятием.
Младенец был огромным – весь в мать. Взгляд у него, как показалось Сергею Ивановичу, уже с первых дней отличался осмысленностью и уверенностью. Голос тоже не подкачал: громкий, эмоциональный, требовательный, свидетельствующий о невероятной жизнеспособности. Сергей Иванович сиял от счастья.
Страх вернулся, когда Сергей Иванович стал фотографировать сына. Ему показалось, что голова у Виктора как-то очень уж склоняется набок, а брови знакомо хмурятся. Но он тут же напомнил себе, что младенцы не умеют управлять своей мимикой. Посмотрел на Виктора и не нашел в нем ничего странного. А фотографии на всякий случай стер.
Виктор рос, радуя мать и беспокоя отца. Сергею Ивановичу всё чаще казалось, что ребенок не реагирует на обращенную к нему речь и слишком громко орет. Может, он глухой? Постепенно ор Виктора разбавился односложными словами. Значит, не глухой. Но Сергей Иванович всё же подозревал, догадывался, боялся… Иногда он подкрадывался к Виктору сзади и гремел у него над ухом связкой ключей. Виктор вздрагивал и разражался воем, подтверждая наличие слуха. Но всё так же не обращал внимания на попытки отца завести беседу о каких-нибудь птичках или машинках за окном. Казалось, что общение его совершенно не интересует.
Впрочем, одна крайность сменилась другой. Виктор вдруг стал требовать от отца постоянного присутствия и внимания. Когда Сергей Иванович уходил на работу, Виктор вис на нем, упираясь ногами в пол и не давая уйти, а проиграв сражение, бился головой о закрывшуюся за отцом дверь и выл. По вечерам он не давал Сергею Ивановичу ни минуты покоя. Встречал у двери, как будто там и просидел весь день, обхватывал его колени руками и выливал на усталого родителя поток непонятной информации. Речь Виктора изобиловала гласными, а вот согласные ему никак не давались, что сильно затрудняло общение. Сергей Иванович делал вид, что понимает, пытался вежливо поддержать разговор, но не угадывал тему. Виктор злился и повторял свои истории снова и снова, забираясь к нему на колени и заглядывая в глаза. Сергея Ивановича раздражала настойчивость, монотонность и однообразность непонятных фраз. Отвернуться даже на секунду, чтобы поговорить с женой, было нельзя. Крепкие пальцы Виктора впивались в щеки и разворачивали голову собеседника в нужную сторону. Ребенок сверлил Сергея Ивановича своими светло-голубыми глазами, будто бы пытаясь достичь понимания силой мысли. Взгляд у него был какой-то очень наглый, неприятный. Брови сосредоточенно хмурились. Иногда выражение лица Виктора казалось Сергею Ивановичу брезгливым. Как будто сын старается понять, как отец может быть таким тупым.
На фото Виктор выходил всё хуже и хуже. Он казался старше и ненормальнее обычного, как будто специально кривлялся, оказавшись в кадре. Впрочем, и вне объектива его отклонения становились всё заметнее. Виктору не было еще и трех лет, но ростом он был с шестилетнего. При этом он сохранял мимику младенца, ковылял неуверенно и часто спотыкался.
Жена, хоть и из рода крепких деревенских долгожителей, стала всё больше уставать и болеть. Сергей Иванович сжалился над ней и записал Виктора в детский сад.
В прессе замелькали жалостливые статейки о долго скрывавшем больного сына меценате. Журналисты торжествовали: наконец-то им стало ясно, почему Сергей Иванович такой добренький. Разумеется, просто так больным детям никто не помогает. Вот и у этого нашелся свой скелет в шкафу, комплекс вины и попытка подкупить мироздание.
Сергей Иванович молчал. Он отослал жену на курорт, а сам исправно отводил сына в садик и шел на работу. Ходил он всегда пешком, надеясь таким образом избежать инфаркта. Раньше прогулки доставляли ему удовольствие. Теперь они превратились в пытку.
Сергей Иванович помнил об устремленных на него взглядах и делал вид, что ему всё нравится. Нравится, как Виктор виснет у него на руке, внезапно дергая ее в сторону или ложась на асфальт. Как он пытается удрать, а потом обиженно выпячивает губу и прицельно лягается, стараясь ударить побольнее.
В один из таких дней, когда Виктор с радостным гиканьем кинулся было под грузовик, Сергей Иванович привычным движением перехватил его, а сам не без удовольствия представил, как не успевает поймать ускользающую руку и позволяет непонятному и агрессивному существу по имени Виктор оказаться под колесами.
В садике Виктор не пользовался популярностью. Сергея Ивановича это не удивляло. Он и сам не стал бы дружить с мальчиком, не умеющим внятно разговаривать и швыряющим игрушки во всех подряд. Кроме того, Виктор, будто специально подчеркивая разницу между своим физическим и когнитивным развитием, не желал расставаться с соской и дикими чаячьими криками пресекал попытки Ирины Владимировны и других сотрудников садика отобрать ее.
Сергей Иванович стал заниматься с Виктором математикой, торжествующе докладывая воспитательнице о своих успехах. Виктор умел считать до десяти, сортировать предметы по размеру и даже обладал неким чувством юмора. Сергей Иванович рассказывал, как Виктор на просьбу показать самый большой кубик ткнул пальцем в самый маленький и засмеялся, радуясь своей шутке. Ирина Владимировна слышала в этих рассказах отчаянную мольбу и охотно подтверждала, что Виктор еще маленький, хоть и высокий, что математические способности у него явно имеются, что языковое развитие у него пока в пределах нормы (на самом деле она так не считала), но вот с социальным нужно что-то делать. Сергей Иванович щетинился и врал, что дома Виктор вовсе не агрессивен, не дерется и не кидается игрушками. Ирина Владимировна отступала.
Жена с курорта не вернулась. Сергей Иванович ее понимал. Он и сам сбежал бы, но куда?
Сергей Иванович вспоминал сестру. Родители сдали ее в какое-то особое учреждение, вот бы и Виктора тоже просто сдать навсегда… Иногда навещать, конечно, но не жить с ним, не бороться за каждое будничное действие, не воевать каждую секунду с тупым упрямым существом, живущим в слишком большом и сильном теле. Но и этого Сергей Иванович сделать не мог. Слишком много глаз было устремлено на него, слишком многие ставили его в пример другим условно успешным людям.
И Сергей Иванович оставался в рабстве. С уходом жены жизнь стала сложнее. Чужих людей Сергей Иванович домой не пускал из принципа, а родственники жили далеко. Да он и не стал бы посвящать их в свои проблемы.
Постепенно Сергей Иванович стал отмечать мысленно каждую ситуацию, которая могла бы избавить его от Виктора. Вот Виктор полез к кастрюле с кипятком. Если бы Сергей Иванович на минутку отвернулся, он бы наверняка обварился. Возможно, вылил бы на себя все два литра кипятка. Этого бы хватило даже для летального исхода. А вот Виктор ковыряет шпингалет, если бы Сергей Иванович не вмешался, он бы, возможно, сумел открыть окно и вывалиться с шестого этажа. А вот Виктор вырывается из рук Сергея Ивановича и с яростным криком несется бить соседскую собаку. Если бы сосед не подхватил своего бультерьера, если бы Сергей Иванович чуть замешкался… О, жизнь с Виктором была полна соблазнов. Но каждый раз Сергей Иванович отгонял от себя эти постыдные мысли. А Виктор, будто почуяв опасность, жался к Сергею Ивановичу, заглядывал в глаза и невнятно бормотал что-то насчет «люлю». Сергей Иванович, обычно сомневавшийся, что Виктору вообще знакомо такое чувство, мучился угрызениями совести.
Когда Виктор впервые сбежал от группы во время прогулки, Ирина Владимировна перепугалась. Но и она всё чаще стала мечтать о том, чтобы Виктора не успели спасти. Насколько проще было бы без него в садике… Все только притворяются, что жизнь любого человека бесценна. Без некоторых мир был бы лучше.
Ирина Владимировна, конечно, вынимала у Виктора изо рта бусины, кусочки конструктора и прочие посторонние предметы. И крепко, до синяков держала его за руку на прогулках. Она не хотела ответственности за его смерть. Но если бы, ах, если бы… Нет, Ирине Владимировне хватило бы и просто перевода Виктора в какое-нибудь другое учреждение. Но Виктор оставался, а переводили других детей, нормальных. Никто не хотел быть в одной группе с большим, сильным и явно отсталым Виктором.
Случайные прохожие всё чаще отводили глаза. Виктор становился выше, сильнее, но по-прежнему ковылял обманчиво неуверенно и не выпускал изо рта соску.
Сергей Иванович спал всё меньше, потому что Виктор начал буйствовать по ночам. Он внезапно колотил ногами в стену, слушал ответный стук разбуженных соседей и издавал высокие, с оттенком металлического лязганья звуки. Голосовые связки у него были сильные и работали без устали.
Однажды утром после такой бессонной ночи Сергей Иванович повел Виктора в садик. Виктор будто и не нуждался в отдыхе. Не сомкнув глаз ни на минуту за прошедшие сутки, он с азартным гиканьем подпрыгивал и болтал о птицах. Сергей Иванович даже понимал большую часть рассказа, потому что присутствовал при описываемых Виктором событиях. На выходных они ходили в парк и кормили уток. Виктор сбежал к самой кромке воды, попытался ударить ближайшую утку, а та в ответ ущипнула его клювом за палец. «Уи ай-яй, низя!» – заключил Виктор. И вдруг отпустил руку Сергея Ивановича и молнией метнулся в кусты. Сергей Иванович кинулся было следом, но в последнюю секунду пожалел костюм, обежал длинный ряд кустов и увидел, что за ними – крутой склон, ведущий к шоссе. Там, внизу, возле самой обочины, был еще один ряд кустов, в котором уже исчез Виктор. Сергей Иванович побежал, но не успел. Взвизгнули тормоза, что-то стукнуло, в воздух взмыли слетевшие с Виктора сандалии. Из грузовика выскочил перепуганный шофер.
Наконец-то это случилось. Именно так, как все хотели. Случайно, без чьей-либо вины. Сергей Иванович оказался в мире, плотно обложенном ватой. Приглушенно звучали какие-то слова, дни сменялись ночами, но сквозь изоляцию шока Сергей Иванович почти ничего не видел и не чувствовал.
Народ сочувствовал безутешному отцу. Сергею Ивановичу дали понять, что шофера посадят, справедливость будет восстановлена, примите соболезнования, жизнь продолжается.
Постепенно стали возвращаться мысли. Хотелось выдохнуть с облегчением. Больше не надо прятать глаза от соседей, постоянно перед всеми извиняться, а главное – терпеть вечное присутствие слюнявого, противного Виктора с его неизменным визгом, вспышками агрессии и непонятными речами. Хотелось вспомнить годы мучений и обрадоваться окончанию пытки. Хотелось. Но в голову лезло только проклятое «люлю».
На суде Сергей Иванович сообщил, что он сам толкнул Виктора на дорогу, потому что хотел от него избавиться. Шофера оправдали.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?