Текст книги "В предверии судьбы. Сопротивление интеллигенции"
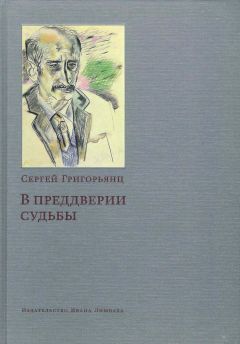
Автор книги: Сергей Григорьянц
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Они никогда не просили у меня книг, изданных в Париже (кажется, кроме «Дневника моих встреч» Юрия Анненкова), хотя ежедневно видели их у меня, когда мы жили рядом в Троице-Лыкове. Но заметного опасения, отталкивания, не говоря о прямом страхе (все же нельзя забывать, что они пережили двадцатые, тридцатые, сороковые советские годы) у Поповых это не вызывало.
Вспоминается еще один, казалось бы, незначительный эпизод, который, я думаю, для них был достаточно важен. Однажды Татьяна Борисовна повела меня что-то показывать в их микроскопической спаленке (метров восемь квадратных), где почти невозможно было повернуться и уже хотя бы поэтому гости туда обычно не приглашались. Может быть, доставались хлыстовские знамена Боровиковского, которые я потом выкупил или выменял, из большого данцигского шкафа (он занимал если не половину, то четверть комнаты), может быть, речь шла о висевшем там портрете шведской королевы Христины, портрете почти монохромном, серо-черном, какого-то удивительного шведского мастера. Кстати, с этим портретом связана почти неправдоподобная в условиях страшного времени история. В 1940-е годы шведский посол в Москве, граф, владелец средневекового замка, ради этого портрета предложил Татьяне Борисовне выйти за него замуж и уехать в Стокгольм. В темные и нищие сороковые годы за железным советским занавесом, думаю, никто больше не получал предложений не просто выбраться из сталинской Москвы, но стать графиней и быть принятой при королевском дворе.
– Посол, правда, не интересовался женщинами, – мельком заметила Татьяна Борисовна и, конечно, это имело значение. Игорь Николаевич был любимым мужем, что, правда, не демонстрировалось. Не отпускала и другая, несоветская старая Москва, неотъемлемой частью которой ощущала себя Татьяна Борисовна и без которой ей просто нечем было бы дышать. А потому отказалась от предложений и продолжала иногда по полтора часа пешком брести на Выставку Народного хозяйства за мелкими оформительскими заработками, которых не хватало ни на еду, ни на трамвай.
Итак, не помню, о чем шла речь, и я уже не в первый раз посмотрел на висящий рядом с Христиной и четвертым Пиросом – портретом Зданевича – голландский портрет человека лет тридцати пяти в красном колпаке (этот портрет ни от кого не скрывался и в обиходе назывался «Красный колпак» – впрочем, речь о нем заходила редко). Вернувшись на привычное курульное кресло за петровским столом, я сказал несколько неуверенно, но без сомнений:
– Мне кажется, это ранний Рембрандт.
Татьяна Борисовна и Игорь Николаевич единственный раз за двенадцать лет нашей дружбы прежде чем ответить мне, посмотрели друг на друга. У них не было привычки ни переглядываться, ни обсуждать что-либо при посторонних. Они практически никогда друг с другом не спорили, отвечала чаще Татьяна Борисовна, которая вполне могла промолчать, но никогда не лукавила.
На этот раз, повторяю, они посмотрели друг на друга и самым обыденным тоном, как о чем-то совершенно не заслуживающем внимания, Татьяна Борисовна ответила:
– Директор Эрмитажа Тройницкий тоже считал, что это автопортрет Рембрандта и сказал, что в Эрмитаже есть его старая копия.
Довольно скоро стало ясно, что никому кроме меня хозяева о «Красном колпаке» ничего не говорят. Из живых тогда знакомых, может быть, знала о нем лишь давняя приятельница Татьяны Борисовны Галина Викторовна Лабунская, жившая в том же доме этажом выше. И это соседство могло сказаться на судьбе «Красного колпака», но к этому я вернусь в самом конце.
Поповым вообще не было свойственно бахвальство. Думаю, что друзьям они, как и большинство коллекционеров, показывали свои вещи, но указывать на что-то специально им не было нужды, а уж в случае с Рембрандтом – в особенности. Может быть, никто кроме меня и не обращал внимания на этот находившийся не на виду еще один голландский портрет.
Важно было и то, что, кажется, с двадцатых годов существовал довольно дикий советский закон, по которому картины Рембрандта и Тициана, а также скрипки Страдивари, Гварнери и Амати объявлялись государственной собственностью и подлежали конфискации.
– Но ведь есть художники гораздо дороже и реже Тициана и Рембрандта, – говорила, пожимая плечами, Татьяна Борисовна. Тем не менее закон был именно таким, а во взаимных доносах в любой среде в советское время недостатка не наблюдалось.
В связи с этим законом состоялось мое знакомство с Горшковым-старшим, знаменитым, если не великим русским реставратором драгоценных итальянских скрипок. У нас в семье была скрипка брата моей бабушки, Константина Константиновича, считавшаяся скрипкой работы Амати. Но Горшков сказал, что это действительно скрипка XVII века, но не итальянская, а тирольская. Спорить с ним не приходилось.
Так или иначе, но о том, кто был автором «Красного колпака» даже близким знакомым не говорилось, в спаленке у Поповых мало кто бывал, а те, кто заглядывал, с большим интересом к «Колпаку» не относились, да и рассмотреть его было не просто – там всегда было полутемно. Кстати говоря, и в новой квартире у Поповых, в Брюсовом переулке, «Колпак» тоже висел в спальне.
Мне кажется, у них было ощущение, что у меня хороший глаз и что «Красный колпак» сам мне открылся, так же, как они были уверены, что он сам к ним пришел, а потом и сам нашел себе раму. (Куплен он был без рамы, но через несколько месяцев совсем другие люди предложили Игорю Николаевичу черную голландскую раму XVII века, в точности соответствовавшую по размеру и времени «Красному колпаку».) Тройницкий не был в числе близких приятелей, но его свидетельство о том, что известны старые копии этого автопортрета и одна из них – в Эрмитаже, на сорок лет закрепило место «Красного колпака» в спальне Поповых. Впрочем, и покупался он ими как Рембрандт.
Не знаю, по этим ли причинам или каким-либо иным, но довольно скоро (вероятно, через полгода или год) после первого знакомства отношения наши начали становиться поразительно близкими, в основном по инициативе Поповых. Сперва мой интерес к Чекрыгину и Ларионову естественным образом был продолжен визитом ко Льву Федоровичу Жегину, у которого висела большая часть лучших холстов Чекрыгина и находились две папки, взятые им у Виноградова по праву распорядителя вещами Ларионова и Гончаровой (Костаки, а за ним Д. В. Сарабьянов в своих воспоминаниях не совсем точны[18]18
Вот как, например, описывается знакомство известного коллекционера с Ларионовым и Гончаровой в статье Андрея Сарабьянова: «В числе основоположников русского авангардного искусства принято называть имена Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой. Эти художники не столь полно представлены в коллекции только по той причине, что они рано уехали из России, взяв с собой большую часть работ. Но с ними у Костаки произошла знаменательная встреча в Париже. „Я был у них вторым человеком из СССР… Меня очень тепло приняли, обнимали, целовали. Ларионов сказал, что слышал о моей коллекции и посоветовал: «Голубчик, вы здесь ничего не покупайте, никакие патефоны, граммофоны, ничего, ничего… А возьмите у нас – у меня и у Наташи – как можно больше картин и отвезите их в Москву“. А „картоночку с картинами“, которую обещала собрать Гончарова, Георгий Дионисиевич так и не взял, потому что навестить старых художников еще раз в тот приезд не смог».
[Закрыть]), с пастелями, рисунками и несколькими небольшими холстами. Главное – поразительным художником был сам Лев Федорович, один из наиболее виртуозных, изощренных и тонких, глубоко христианских русских художников начала XX века. О Льве Федоровиче надо писать отдельно (и много). Стыдно, что до сих пор нет ни одной монографии о его творчестве. Да не было и достаточно полной и длительной его выставки.
Все основные художники «Маковца» были глубоко религиозны: Чекрыгин, Бромирский, Романович, из более молодых – Коротеев. Чекрыгин, вероятно, был мощнее и ярче как живописец. У Бромирского есть какая-то органическая, идущая чуть ли ни от наскальных рисунков виртуозность. Но только у Льва Федоровича – необычайные чистота, благородство и свойственная русской иконе XV века одухотворенная лаконичность, прозрачная воздушность телесных и мистических образов. Не случайно двадцать лет Жегин посвятил теоретическому осмыслению структуры русской и византийской иконы, практически перестав, и надолго, работать над собственными картинами. Однако не правы те, кто пишут, что он просто потерял интерес к живописи – Лев Федорович с 1930 года понял, что никогда не сможет выставляться в Советском Союзе и не хотел участвовать в этой гнусной, с его точки зрения, советской жизни. В отличие от многих старших современников, которых он очень высоко ценил и любил – Александра Матвеева, Павла Кузнецова, Крымова; не говоря уже о гораздо более далеких Татлине, Малевиче, Филонове, – Жегин не сдвинулся ни на один миллиметр, чтобы стать ближе к советской власти. Тихий, тончайший и изысканный Лев Федорович был, вероятно, и самым мужественным из великих русских художников XX века. Спокойная убежденность не только в общественных, но и в художественных принципах Жегина оказывала большое влияние на окружающих. Он не только воспитал целую группу последователей и учеников. Но, скажем, на Веру Ефремовну Пестель, которая была старше, его влияние оказалось более действенным, чем у Татли на, и, по свидетельству Татьяны Борисовны, именно его убежденность в необходимости образной живописи склонила Пестель отказаться от беспредметных и кубистических конструкций и вернуться к фигуративному искусству, может быть, близкому к Шардену. Впрочем, во всем этом не было догматизма: любимой из оставшихся у Льва Федоровича вещей Ларионова была небольшая дощечка с лучистской композицией.
Эта неколебимая внутренняя твердость не была заметна, никак не проявлялась в отношении меня и Томы. Конечно, Льву Федоровичу как всегда хотелось сделать приятное Татьяне Борисовне, которая нас привела. Он почти сразу показал нам холсты Чекрыгина, пастели Ларионова и Гончаровой[19]19
Однажды он со мной разбирал сотни большей частью неподписанных пастелей, акварелей, мелких холстов, раскладывая их в две стопки.
– Какой замечательный тонкий колорит. Это, конечно, Михаил Федорович. Ну, а это совсем уж грубо – это, конечно, Гончарова.
Ее, как художника, Жегин ценил очень невысоко.
[Закрыть], потом, раскрыв свои папки, даже предложил мне выбрать что-то из новых его вещей в подарок. Там были акварели с цветами и портреты погибшего сына, но мой выбор – самая маленькая из показанных вещей, иллюстрация к «Сакунтале», – ему явно понравился. Это удивительная миниатюра в придуманной самим Жегиным технике – почти монохромная акварель или гуашь, покрытая лаком, – своей поразительной монументальностью и значительностью производит впечатление большой картины маслом старых мастеров – сочетание мощи и трепета.
Узнав, что мне нравятся вещи Любови Поповой, его двоюродной сестры, Лев Федорович посетовал, что пару месяцев назад послал Костаки на дачу Толстой, где холстами и композициями Поповой на фанере была оббита лестница (сейчас они частью в ГТГ, частью – в музее в Салониках). В связи с этим вспомнил другого своего родственника, тоже Попова, – директора Музея Чайковского в Клину, который, затеяв ремонт мебели, обнаружил под обивкой одного из кресел письма композитора из Парижа брату Модесту, где подробно описывались удачные и неудачные романы с гризетками и молодыми людьми. В Москве тогда бытовала легенда о том, что Петр Ильич был отравлен братом после скандала во дворце и письма поддерживали эту версию, а потому Попов не мог понять, что с ними делать. Впрочем, их и сейчас, как и дневники Чайковского, не показывают даже биографам композитора. Думая, что не Лев Федорович, по его деликатности и неумению рассказывать такие истории, а скорее Поповы через какие-то время рассказали мне о бытовавшей в России легенде, что Чайковский был отравлен Модестом, сделано это было якобы вынужденно – Чайковский давал уроки музыки наследнику престола и якобы их отношения начали заходить слишком далеко. Узнав об этом, Александр III был в ярости, не знал, что делать, говорил: лучше бы он что-нибудь украл, и тогда в семье Чайковского пообещали принять меры. Он скороспостижно скончался, как было объявлено в некрологе – заболев холерой, но в тот год в России эпидемии холеры не было, а единичных смертей от нее не бывает. Именно Игорь Николаевич перед каким-то концертом в консерватории, куда мы с ними пошли, с усмешкой сказал мне, кивнув на нелепо дирижирующего сидя Чайковского, что в проекте памятника Мухиной Чайковский, конечно, не дирижировал, а таким образом показывал, что прислушивается к звуку свирели сидящего у подножья пастушка, но комиссия, утверждая проект памятника, решила, что это двусмысленный намек, и мальчика из памятника изъяли, хотя именно ноты его жены сохранились на ограде.
А однажды мельком упомянул, что Жорж Якулов (тогда поручик) с московскими юнкерами в гостинице «Астория» отстреливался от большевиков. В этом кругу все любили Якулова, считали его одним из крупнейших европейских, а не только русских художников XX века, всегда повторяли, что Делоне очень многое использовал из художественных открытий Якулова. Но то, что Якулов еще и с оружием в руках боролся с большевиками, а не подыгрывал им, как всякие «бубнововалетцы», им было важно упомянуть.
Мне были интересны такие беседы, но и Льву Федоровичу довольно скоро наше знакомство стало полезным: для начала выяснилось, что у меня хранится авторская машинопись и гранки неопубликованной статьи Флоренского «Об обратной перспективе». Многолетнее исследование Жегина русской иконы началось как раз с разговоров с Флоренским, но он с этой статьей знаком не был – ведь сборник издательства «Поморье» был запрещен советской цензурой. Чуть позже Борис Андреевич Успенский, узнав о статье от Жегина, опубликовал ее с моего согласия в тартуском сборнике. Как я потом пожалел, что не сказал о своем хорошем знакомстве с Жегиным Владимиру Стерлигову[20]20
Знакомство со Стерлиговым началось с одного любопытного эпизода, суть которого здесь можно изложить. Году в шестьдесят четвертом Лидия Корнеевна Чуковская, зная, что я буду в Ленинграде у Якова Друскина, попросила для готовившегося ею первого издания детских стихов Хармса привести фотографию Даниила Ивановича. У Друскина фотографии не оказалось, и он познакомил меня со Стерлиговым, у которого фотография была. Лидия Корнеевна очень жалела, что не может включить в этот сборник известные стихи «Сорок четыре веселых чижа». Когда-то Маршак в них подправил две строки и Хармс настоял, чтобы они были напечатаны с двумя подписями. После ареста и гибели Хармса подпись осталась только одна. Так стихотворение и переиздавались. На этот раз Маршак не возражал против публикации «Чижей» в книге Хармса, но попросил лишь, чтобы сначала они были напечатаны в его книге. А его книга выходила позже книги Хармса. От Маршака многое зависело. Он принадлежал к влиятельной советской интеллигенции со всеми ее нравственными особенностями. Мои друзья того времени были существенно менее «советскими».
[Закрыть], который, как оказалось, заставлял своих учеников чуть ли не наизусть учить книгу Жегина, не будучи с ним знакомым.
Через несколько лет удалось организовать выставку в университете. Лев Федорович уже не выходил, но, к счастью, был еще жив. Это была первая его выставка с 1930 года.
Не могу забыть, как, получив через Костаки письмо Льва Федоровича, Михаил Ларионов прислал ему в большом конверте две гуаши: одну в подарок, другую – для передачи библиофилу и коллекционеру Алексею Алексеевичу Сидорову. Лев Федорович никак не мог решить, какую из них выбрать и даже советовался со мной. В конце концов обе оказались у Харджиева, который давал Льву Федоровичу в обмен монографии о художниках, изданные в Чехословакии и ГДР, но ценил их как западноевропейские. Уже от Николая Ивановича одна из них попала ко мне, как, впрочем, и множество других вещей самого Льва Федоровича (портреты Чекрыгина, например), да и несколько десятков рисунков Ларионова русского периода.
За несколько дней до смерти Льва Федоровича мы с Татьяной Борисовной и Игорем Николаевичем навестили его в больнице МПС на Волоколамском шоссе. Он нас узнал, но был очень слаб и скоро прикрыл глаза. Было видно, что ему что-то мешает, и он как бы колеблется, но потом, с едва заметной тенью озорной улыбки все еще легким движением сбросил, очевидно, невыносимо давившую на него простыню и отвернул голову к стене. Он был совершенно наг, ничего старческого не было в его абсолютно пропорциональном, идеальном теле, полусогнутом, с опущенной головой и приподнятыми к животу коленями, как лежат в утробе у матери новорожденные. Жегин уходил из жизни чистый, как младенец, так же естественно, ничем себя не запятнав, каким в нее пришел.
Потом я бывал у второй жены Жегина Варвары Тихоновны, чтобы дать работы Льва Федоровича для посмертной (двухдневной) выставки в Музее изобразительных искусств. На шкафчике по-прежнему стояла зеленая фаянсовая статуэтка завода Кузнецова с отбитыми и подклеенными ногами работы Матвеева – пятилетний Левушка Шехтель. Варвара Тихоновна предложила мне, как и другим близким знакомым, выбрать на память один из автопортретов Льва Федоровича. Я выбрал наиболее близкий к подаренной мне когда-то «Сакунтале» (в той же технике).
«Ко Льву», как Татьяна Борисовна по прежнему его называла, я ду маю, она привела и Игоря Сановича, и Соломона Шустера и, вероятно, еще кого-то – всех, кому интересна была живопись начала века. В моем знакомстве с Жегиным по ее протекции еще не было ничего особенного. Но Татьяна Борисовна продолжала знакомить меня с близкими ей людьми, выполняя роль проводника в мир дореволюционной интеллигенции, открывая для меня искусство русского авангарда.
В том же 1963 году состоялся мой визит к Галине Викторовне Лабунской, старинной приятельнице Татьяны Борисовны, чуть старше ее и начинавшей в 1910-е годы с фовизма и конструктивизма, как близкий к Татлину художник. Она давно прекратила писать, и даже уничтожила все свои живописные вещи. Теперь она была членом-корреспондентом Академии педагогических наук – серьезным специалистом по художественному образованию молодежи. Ее покойный муж был братом широко известного в русской эмиграции Алексея Эйснера. И в их квартире был хороший, только более ранний холст Ларионова, вещи Веры Пестель, Жегина, Сарры Лебедевой, большой портрет Эйснера работы Валентины Ходасевич (ее портретов как не имевших отношения к живописи в те годы стеснялись), а к обеду подавался столовый екатерининский сервиз Императорского фарфорового завода – с большими красными розами. Уже по протекции Галины Викторовны, но, конечно, и по просьбе Татьяны Борисовны состоялась экскурсия к Сарабьяновым в бывшую квартиру Виктора Веснина, где оставались, пожалуй, лучшие вещи Любови Поповой.
Эти знакомства были устроены специально и только для нас с женой, что, как я понял впоследствии, было не так просто для Поповых психологически. Они не бывали и не хотели бывать у людей, хорошо устроенных в Советском Союзе. Но они считали нужным нас просвещать и знали, что нигде в России нельзя было увидеть тогда ничего подобного. Даже коллекция Костаки (где еще не было работ Поповой) не производила такого впечатления. Да и в запасниках Третьяковской галереи, куда мне как заведующему отдела критики журнала «Юность» удалось проникнуть, поздние Малевичи не производили такого сильного впечатления. Сейчас квартира Веснина разделена пополам, и уже не висят рядом три десятка шедевров Поповой, анфилада не упирается в громадный ослепительный желтый прямоугольник, как это было когда-то. Но в середине 1960-х в больших светлых комнатах от холстов, которые развесил, вероятно, еще Веснин, исходило сияние и его не только мне, но, думаю, любому человеку в Советском Союзе не с чем было сравнить. Это была не только виртуозная в своей искусной простоте живопись. Это была подлинная свобода, которой невозможно было надышаться.
Вообще, русская культура и внутренняя свобода были неразделимы. Достаточно вспомнить, что мать замечательного искусствоведа Елены Муриной, жены Дмитрия Владимировича Сарабьянова, Надежда Васильевна Бухарина самоотверженно помогала Солженицыну, когда он жил на даче у Ростроповичей, активно участвовала в самиздате.
Однажды мы были приглашены к Поповым в субботу часам к восьми. В тот вечер у них были несколько неожиданные для нас гости. Не помню, были ли мы к тому времени знакомы с Борисом Александровичем Чижовым, когда-то танцевавшим в Камерном театре у Таирова, а к моменту нашего знакомства, кажется, заведовавшим балетной труппой Большого театра. Племянница Алисы Георгиевны Коонен была когда-то его женой. Коонен говорила, что ее голландская семья происходила по прямой линии от наследников византийских императоров Комниных, бежавших от убийц в Западную Европу. А после смерти великой актрисы вдруг выяснилось, что, говоря о своем происхождении, она была права, хотя все втихомолку над ее рассказами посмеивались. Но в ее наследстве оказался не только большой браслет, на мой взгляд, слишком уж актерский, подаренный Коонен Ермоловой в знак признания ее великого таланта, но еще и остатки многочисленных византийских вещей, среди которых были сердоликовые пронизи, скорее всего и впрямь императорского происхождения. Золотые вставки были уже проданы в Торгсин. Впрочем, у Коонен среди множества других поразительных вещей и картин (Пикассо, Ван Донген) был ее громадный портрет работы Жоржа Якулова, уже слегка осыпавшийся и потому мне как единствен ному знакомому, любившему Якулова предложенный в подарок. Но мне было совестно принимать такие подарки. Потом его купил Костаки.
Бесспорно, новым для нас в этот субботний вечер было знакомство с Марией Анатольевной Фокиной и Николаем Сергеевичем Вертинским, литературоведом, когда-то директором музея в Ясной Поляне, двоюродным братом известного певца.
Как всегда, из дивных серебряных чарок с коронационными жетонами была выпита бутылка водки (а может быть – с четвертинкой или «мерзавчиком»), на французские фаянсовые тарелки XVIII века с воздушными шарами была выложена только что сваренная картошка. С руанской тарелки все потихоньку разбирали очищенные Игорем Николаевичем кильки, разложенные по половинкам сваренных вкрутую яиц и обсуждали качество только появившегося в магазинах маринованного чеснока в стеклянной банке – ошеломляющей новости советской пищевой промышленности. Потом в гжельские кружки всем была насыпана заварка (маленькой старинной итальянской ложечкой с корабликом), кто хотел, мог прибавить к чаю и колотый сахар из серебряной, времени царя Алексея Михайловича, братины, после чего из советского эмалированного зеленого чайника, несколько похожего на вокзальный, всем в кружки разливался кипяток.
Конечно, обсуждение достоинств чеснока и кильки не заняло сколько-нибудь заметного времени. В этот вечер и в десятки последовавших за ним вечеров говорили об искусстве. Сестра Марии Анатольевны была замужем за Кулиджановым, но обсуждали не его фильмы, а скорее «Андрея Рублева» Тарковского, который шел только в ДК им. Горбунова, где мы перед тем с Поповыми были. Говорили о выставках, которые изредка все же устраивали, о редких концертах Юдиной и о том, что в Музее Востока на улице Обуха танцевавшие пионеры перевернули шкафы с коллекцией китайского фарфора из Дрезденской галереи – вся она оказалось разбита. Может быть, и о том, что главные кремлевские соборы уцелели в ходе работ «по расчистке» территории московского Кремля лишь потому, что после сноса Чудова монастыря, храма «Спаса на бору» и многого другого Бенито Муссолини направил в Москву ноту, где писал, что не собирается вмешиваться во внутренние дела Советского Союза, но, тем не менее, снос в Москве древнейших памятников итальянского Возрождения, уничтожение работ Фиораванти и Алоиза Нового, счел бы недружественным по отношению к Италии актом. В Италии строился для Советского Союза самый быстроходный тогда в мире корабль, потом он, кажется, назывался «Ташкент» и был единственным, которому удавалось прорываться во время войны в осажденный немцами Севастополь. Ради военного заказа пришлось соборы в Кремле временно сохранить.
Это была ни к чему не обязывающая застольная беседа, обычно длившаяся часов до двенадцати ночи, которую, как потом оказалось, Татьяна Борисовна с легкой усмешкой называла «культурным общением».
А когда пришло время прощаться, Мария Анатольевна со своей очаровательной застенчивой улыбкой, кажется, на совершенно не изменившемся с ранней юности лице спросила нас с Томой: «А может быть, в следующую субботу вы к нам придете? Это здесь, на Зубовском, – во дворе дома, где живет Лев Федорович».
Конечно, мы согласились, конечно, Татьяна Борисовна сказала, что нас приведет. Как я сейчас понимаю, все было согласовано заранее. Через неделю мы с Поповыми вчетвером пришли к Вертинским. Так для нас начались еженедельные «субботники», продолжавшиеся больше десяти лет. Все мы были коллекционерами, с замечательными, мирового класса вещами, но не это было главным в «субботниках». Главным было то, что мы могли откровенно и свободно говорить друг с другом, а ведь это была эпоха «дописьменной культуры», устного предания – никаких книг, никакой периодики, никакой достоверной истории в Советском Союзе того времени не было. Можно было, конечно, как «шестидесятники», верить в романтику революции, в ленинскую правду, пришедшую на смену сталинской, но это никому из нас не приходило в голову.
Никогда не звучали оценки «победоносной» внутренней и внешней политики советского государства – в Советском Союзе все давно научились об этом молчать, разве что мои рассказы были чуть более жесткими. Речь всегда шла о культуре, о музеях, о выставках или каких-то бытовых историях настоящего и прошлого. Но молчаливое неприятие советской жизни лежало в основе этого «культурного общения».
Мельком сообщалось о продаже в Англию древнейшего списка всех четырех Евангелий – «Пурпурного кодекса» из Публичной библиотеки, купленного когда-то Николаем I в Синайском монастыре (продажа была осуществлена за сто тысяч фунтов, из которых половину дала королевская семья, а вторую собрали по подписке по всей Великобритании ее граждане). Из эмигрантских источников я знал и, может быть, рассказывал о попытках продажи российской короны, скипетра и державы. От устройства советских аукционов императорских сокровищ как от краденого имущества последовательно отказывались правительства Англии, Франции и США. Кажется, только в Берлине удалось продать знаменитую коллекцию императорских жемчугов и полуподпольно – коллекцию марок Николая II. И тогда корону, скипетр и державу стали одному за другим предлагать крупнейшим ювелирным домам. Но через год в Кремле получили официальное письмо от руководителя Международного союза ювелиров, в котором говорилось, что ни одна компания, входящая в этот союз, не считает себя вправе взять ответственность за сохранение национальных российских реликвий.
Подобные байки сегодня не производят особого впечатления, но тогда можно было получить срок и за меньшее. А в каждом из нас не утихала боль от разорения России, боль, заставляющая говорить об этом хотя бы с самыми доверенными людьми.
Этим впоследствии определилось и мое отличие от большинства советских диссидентов. Они, по преимуществу, вышли из коммунистического мира. Лишь на каком-то этапе им или их родителям этот мир становился чуждым. Среди моих родных и близких знакомых не было никого, кому бы он нравился с ноября семнадцатого года.
Кроме «субботников» за эти годы была масса совместных походов, поездок и времяпровождений – от кино до обязательного похода в цирк вчетвером в Татьянин день, после которого обычно шли на Спиридоньевский, куда к очередному чаепитию с водкой на именины Татьяны Борисовны мог прийти и еще кто-то из гостей. Два года, по предложению Татьяны Борисовны, мы вместе снимали дачу рядом в Троице-Лыково, и все картоны Игоря Николаевича этих лет писались почти у меня на глазах – или за час до ежевечернего совместного чаепития, или ночью после совместного пешего похода в Архангельское (это было недалеко).
Не могу без стыда вспоминать, как однажды я попросил у Игоря Николаевича поносить поразительный средневековый пояс, очевидно, цеха мясников, где к широкой коже были прикованы десяток эмблем цеха: скрещенных топоров и ножей. До сих пор не могу понять деликатности Игоря Николаевича, но он мне его дал. В общежитии я его, конечно, нацепил, кто-то тут же за него потянул и ветхая кожа, пережившая пятьсот лет, лопнула. Легко понять, как я себя чувствовал на следующий день, возвращая порванным редчайший пояс. Но Игорь Николаевич в ответ на мое извиняющееся молчание сказал: «Ничего страшного, эмблемы можно переставить на разрыв и ничего не будет видно».
Дважды Поповы приезжали в Киев, где жили моя мать и бабушка и где я бывал все чаще, поскольку в 1968 году был исключен из университета по требованию КГБ. Правда, мои киевские приятели и знакомые (и их коллекции) не произвели на Поповых большого впечатления. Виктор Платонович Некрасов в основном пил на Крещатике, большой холст Серебряковой и три пейзажа Бурлюка, купленные году в 1912-м его теткой и матерью Зинаидой Николаевной прямо на выставке, были им не интересны. Параджанов для Поповых был слишком экстравагантен, да и его фильмов они тогда, кажется, не видели. Коллекция Давида Сигалова (состоявшая в большинстве своем из художников «Мира искусства») была им скучна, хотя к Давиду Лазаревичу я их, конечно, привел, тем более что кроме Кустодиевых и Лансере у него был очень хороший Сарьян, вполне близкие Поповым Судейкины и, главное, – акварель Юбера Робера (я ее потом выменял), очень хорошее голландское «Катание на коньках» из Дрезденской галереи (значительная часть ее была присвоена и разделена между собой советскими офицерами) и небольшой холст Поттера из коллекции Безбородко в Нежине. Впрочем, первая, полностью разграбленная коллекция Давида Лазаревича, собранная до войны, была, по-видимому, более разнообразной. Больше шестидесяти лет он был лучшим детским врачом в Киеве, лечил еще до революции мою мать, потом меня и моего сына Тимошу, когда мы его привезли в Киев. Давид Лазаревич благодаря своему высокому официальному статусу (профессор, заведующий кафедрой педиатрии) был одним из немногих коллекционеров того времени, у кого не вызывали опасения и недоверия контакты с советскими музеями. Но иногда знакомства с официальными искусствоведами приводили к грустным результатам. В одном случае из-за их необоснованных сомнений в работе Кандинского «Портрет жены и дочери» (вероятно, 1917 года). Сигалов не купил его, и, конечно, не мог забыть совершенной ошибки. В другом случае известный коллекционер Григорий Блох, о котором много пишет Шустер, предложил ему, влюбленному в творчество всего семейства Бенуа – Лансере, большой картон Лансере с Петром Великим, идущим к верфи, но в отличие от подобной вещи в Третьяковской галерее вслед за Петром шагал Меньшиков. В ГТГ Давиду Лазаревичу категорически сказали, что никакого Меньшикова быть не может и это, бесспорно, подделка. Сигалов отказался от покупки, но находчивый Блох отрезал от картона кусок с Меньшиковым и кому-то удачно продал его уже без сомнительной части. А года через два другому коллекционеру продал и Меньшикова. Случилось так, что оба фрагмента из разных коллекций попали в Русский музей, где их объединили, а бедный Давид Лазаревич без тоски не мог приходить в Русский музей и с обидой рассказывал об искусствоведах ГТГ.
В 1968 году его пригласили на медицинскую конференцию в США. Но представление об окружающем мире даже у самых образованных людей в СССР было такое, что Давид Лазаревич сказал мне:
– Я очень боюсь бандитов. Я читал в «Мартине Челзвите» у Диккенса, какая там жизнь, а ведь во всем мире стало с тех пор гораздо хуже.
Первоклассное русское стекло у вдовы академика Бродского было, конечно, для Поповых много любопытнее. Но на их вариант «Пана» Татьяна Борисовна, прожившая много лет с картинами Врубеля, только усмехнулась и коротко заметила, что в те времена на фанере не писали. К Юрию Алексеевичу Ивакину я их не повел: Фальки и Богомазовы, не говоря уже о Тышлере, были им совершенно не интересны.
Зато однозначно прекрасен был еще не обезображенный Щербицким и всеми последующими вождями сам Киев с византийской «нерушимой» стеной Софийского собора, равной которой нет в мире, и уютной губернской русской застройкой, не претендовавшей тогда на столичный блеск. А были еще Ближние пещеры Киево-Печерской Лавры с их подземными церквами, замечательная, уютная и тогда более полная, чем теперь, коллекция Богдана и Ваврвары Ханенко – редчайший пример первоклассного частного собрания, почти сохранившегося, несмотря на революцию и советскую власть.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































