Текст книги "В предверии судьбы. Сопротивление интеллигенции"
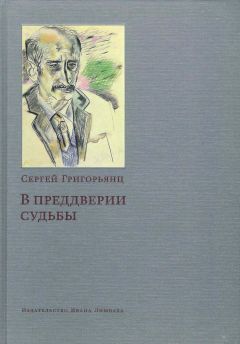
Автор книги: Сергей Григорьянц
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Георгий Николаевич в Москве смог поступить в институт только после того, как опубликовал в «Вечерке» объявление о том, что не поддерживает с матерью, Натальей Трифоновной, никаких отношений. Это, конечно, было неправдой, но никто из наших родных (и даже знакомых), кроме добрейшей моей матушки, с ним больше не здоровался. Это было молчаливое чувство собственного достоинства. Тем не менее Георгий Николаевич (Дегтярев) успешно выучился и стал крупным специалистом по мостам, автором учебника и, кажется, заведующим кафедрой в автодорожном институте. Но когда он познакомился со своей будущей женой Верой Анатольевной, работавшей переводчицей в Министерстве иностранных дел, его ждало новое испытание. Как он мне рассказал однажды, и его, и Веру Анатольевну поодиночке пригласили в спецотдел. Сказали, что ничего не имеют против их знакомства и возможного брака, но при этом каждому в подробностях было пересказано все, что они говорили друг другу наедине. Думайте, что хотите: то ли вы находитесь под постоянным наблюдением, то ли доносите друг на друга.
Георгий Николаевич в партию вступать отказывался, называя себя «недостойным», но страх въелся так глубоко, что когда я был у них в гостях осенью 1968 года, он всерьез пытался убедить меня в том, что летом, случайно оказавшись в туристической поездке в Праге, они с женой видели бесспорные приготовления западногерманских войск к вторжению в Чехословакию. Правда, жили они тогда в доме МИДа рядом с американским посольством и были уверены, что квартира их тоже прослушивается. Он единственный в нашей семье выполнял правила «советской» игры.
Возвращаясь назад, скажу, что молодая, красивая, в меру серьезная и в меру веселая пара – моя мать с ее первым мужем – прожила в Ленинграде лет восемь. И ее муж Алексей Питух в компании с веселыми приятелями, «мушкетерами», как они называли друг друга, и мама, в молодости особенно красивая и к тому же единственная студентка на курсе (а может быть, и во всем Кораблестроительном институте), оба работавшие даже во время учебы да еще получавшие помощь из Киева от родителей, вели достаточно беззаботную и, в общем, счастливую жизнь до тех пор, пока тяжело не заболел обожаемый ее отец, мой дед Сергей Павлович. Мама не только тут же бросилась в Киев ухаживать за отцом, но едва не сошла с ума от горя, когда после операции, проведенной в Москве двумя академиками – Бурденко и приглашенным им Борисом Егоровым, дед умер. Смотреть на ее фотографию на похоронах нельзя без боли, но уже через год, как она мне говорила, она «была рада, что папа умер»: по ночам арестовывали все новых и новых наших соседей. Мама сделала тогда то, что даже я, самый близкий ей человек, до конца не могу осознать. Дед, умирая, попросил маму, показывая на бабушку:
– Не оставляй ее.
Выполняя предсмертную просьбу отца, она бросила любимого мужа и прожила больше тридцати лет с нелюбимой и не любившей ее матерью – Елизаветой Константиновной.
Бабушка была человеком, бесспорно, очень хорошим, хорошим преподавателем математики, но после революции, после эмиграции Жекулиной в Прагу ее народнические убеждения и принципы оказались невостребованными в советской школе. При этом почти двадцать лет она прожила за спиной деда, как жена профессора Шенберга, в ректорской квартире, где жил когда-то Дмитрий Менделеев со своей дочерью, будущей женой Блока, и при этом достаточно изолированно от какого бы то ни было общения. Профессорская среда в провинциальных университетах и институтах была своеобразной, а уж среди жен профессоров и до революции, и тем более после нее бабушка и вовсе не могла найти себе кого-то близкого. Я думаю, она единственная среди профессорских жен имела высшее образование и заботилась о чем-то кроме нарядов. Русская женщина с высшим математическим образованием вообще была странностью для рубежа XIX–XX веков. Конечно, она, слава богу, не была Сусловой с ее двусмысленной репутацией, но все-таки их на всю Россию было человек сто.
Думаю, что дед в 1920-е годы достаточно открыто развлекался с балеринами оперного театра в Киеве, в небольшом тогда еще городе, где он был одной из самых заметных фигур. Но у бабушки было нечто совсем иное, пожалуй, не совсем народническое – чувство превосходства над окружающим миром. Помню ее дивной красоты среднерусский выговор с обилием энклитик и проклитик (переносом ударения с главного слова на предлог и наоборот), когда она вдруг в ответ на мой вопрос, почему у нее нет никаких украшений, кроме истончившегося за пятьдесят лет обручального кольца, сказала:
– Я же не прислуга, чтобы носить золотые вещи. Это горничной и Верочкиной бонне полагалось дарить на праздники золотой брас лет или какое-нибудь колечко.
А иногда (и нередко), когда была мной недовольна, спрашивала:
– Тебя что – на конюшне воспитывали?
С ее точки зрения я, маленький мальчик, веду себя как лакей, как крепостной, которого можно и нужно было сечь на конюшне.
Таким образом, дед, понимая свою вину, умирал, оставляя очень одинокого человека. И все-таки пожертвовать своей жизнью, выполняя просьбу умирающего отца, – совсем неординарный поступок. Тем не менее даже с дочерью, даже со мной, бесспорно, любимым внуком, бабушка до самой смерти чувствовала внутреннее одиночество и иногда – раз в неделю или месяц – внезапно громко вскрикивала: «Мама, мамочка!». Но, как правило, никакого продолжения не было.
До болезни Сергей Павлович, хотя и пытался поначалу уехать в эмиграцию, но потом как-то сумел приспособиться к советской власти. «Тихой сапой», как сказала однажды бабушка. С одной стороны, он был крупным ученым – одним из самых известных специалистов в очень востребованных тогда гидравлике и аэродинамике, автором проектов двух первых русских гидроэлектростанций – построенной по так называемому «ленинскому плану ГОЭЛРО» Свирской ГЭС и ГЭС на Десенке (проект не осуществлен). Но после двухтомной дореволюционной монографии «Гидромеханика вязкой жидкости и гидравлические фрикционные машины» в советское время он не вернулся к науке, ограничив себя преподавательской и прикладной технической деятельностью. По-видимому, он считал, что в Советской России нет академической среды, в которой он мог бы жить и работать. Конечно, он и не подумал вступить в партию, больше того, не стал академиком из-за того, что отказался читать лекции на украинском языке (в какой-то из периодов украинизации). Это было связано не с дурным отношением к украинцам, наоборот, от большого уважения к украинской культуре – у него было много друзей из старинных украинских фамилий, но по-украински не существовало научной терминологии, разработка ее, да еще во всех технических областях, была для него – серьезно и ответственно относившегося к науке человека – гигантской задачей и совершенно непосильной работой, а делать что бы то ни было кое-как он не хотел и не умел. Кроме того, он не писал доносов на своих коллег, чем, по изустным преданиям, отличались многие киевские ученые того времени. И наконец, благодаря его матери и австро-венгерским родственникам семья была откровенно германофильской – дед с ранней молодости переводил и издавал по-русски основополагающие немецкие работы по гидравлике и кораблестроению, у мамы с двух лет была не нянька, а выписанная из Риги бонна. В результате дед был почти единственным русским профессором, которого в 1920-е и даже в начале 1930-х годов не просто охотно приглашали в Германию, но он мог еще привозить с собой десятки наиболее способных своих учеников для стажировки. По-видимому, это тоже ценилось советскими властями.
В 1941 году расположившийся в нашей квартире немецкий командующий нашел мамину подругу, остававшуюся в Киеве Нину Алексеевну Ступину, и попросил оставить ему два голландских пейзажа XVII века и два немецких музыкальных ящика, один из которых играл «Майн либен Августин». Остальное после ухода немцев разграбили институтские дворники. Мама мне говорила, у кого из моих сверстников в отцовском шкафу книги с заказными переплетами и инициалами деда на корешках (как было принято до революции), но мне не хотелось проситься для этого в гости. В филармонии, когда я начал ходить на концерты, какие-то старушки говорили мне: «Ваш дедушка сидел на седьмом, а не на двенадцатом месте первого ряда, чтобы видеть руки пианиста».
Вообще, в атмосфере очень скучного советского Киева Сергей Павлович был, пожалуй, самой любопытной, почти экзотической, и, в общем, очень привлекательной фигурой. Он был очень толст и шил себе костюмы в Берлине у специального портного, усы носил чуть подкрученные вверх, как у Вильгельма II. На безымянном пальце – широкое золотое кольцо своей матери, с большой жемчужной в обрамлении мелких бриллиантов, что в конце 1920-х – начале 1930-х годов представить почти невозможно. Другое его кольцо – масонское – пропало перед самой революцией. Деда остановили грабители, потребовали у него деньги, которые он нес из банка для малоимущих студентов, украли часы, а кольцо Доры Акимовны уцелело лишь потому, что он снял перчатку вместе с кольцом – перчаток тогда еще не воровали.
Приближался год победы, когда жены новых киевских профессоров гордо приходили на концерты в Дом ученых в привезенных мужьями из Германии шелковых ночных рубашках, которые они считали роскошными вечерними платьями.
Еще стоял дом Перевозниковых в Святошино, откуда к Политехническому институту шел трамвай, и, когда Сергей Павлович выходил из дому, ему не надо было идти к остановке – он поднимал палку, и вагоновожатый останавливался и довозил его до института. Знали не только его, но даже нашу собаку Борейку (ожидали, что он будет Бореем, но не дорос). Пес тоже забирался в трамвай под последнюю лавку, доезжал до института, выскакивал, находил аудиторию, где в тот день читал Сергей Павлович, открывал дверь и гордо отправлялся в задний угол. Такое же место в жизни, какое имел Борейка в жизни деда, в жизни мамы имел Шарик, или Шурочка, спасший ей жизнь; а в моей – французский бульдог Арс.
Сергей Павлович, как мне рассказывали десятки профессоров, бывшие его учениками, готов был подменить любого заболевшего преподавателя, только спрашивал, какой он предмет читает и на чем он остановился, после чего продолжал лекцию. Рассказы о деде я слышал с детства, но когда на первой вводной лекции, где я в восемнадцать лет был одним из сотни только что принятых в институт мальчишек, а незнакомый мне лектор через тридцать лет после смерти деда стал рассказывать о нем анекдоты, я понял, что дед и впрямь чего-то стоил, а в скучном Киеве больше не о ком было говорить. Институтский профессор Холмский (из князей Холмских, что он тщательно скрывал) с видимым наслаждением рассказывал и мне, и всем знакомым о том, как добрейший Сергей Павлович, считавший, что если студент чего-то не знает, то виноват не он, а преподаватель, раз за разом ставил «двойку» в общем-то старательному ученику. В конце концов к деду подошел староста группы и спросил, почему он так сердится на студента, ведь тот старается, и ему обязательно надо сдать экзамен, иначе он не получит стипендию, а ему не на что жить.
– Как не на что? Пусть не ходит к балеринам.
– Ну, что вы, Сергей Павлович, он же подрабатывает в театре осветителем.
И экзамен был благополучно сдан.
Я уже забыл половину рассказов киевских профессоров, букинистов и даже филателистов (а у деда, среди прочих, была гигантская коллекция марок и билет Всероссийского союза филателистов номер один). Но один из них – старейшего тогда киевского филателиста Александрова – помню.
Сергей Павлович приехал в Монако, пошел в казино и все, что у него с собой было, проиграл. Оставались последние десять франков, с ними он пошел на почту и купил две пятифранковые марки. Тут надо сказать (не для филателистов), что пятифранковая, самая дорогая в первой серии марок Монако, к тому времени стала одной из самых известных и дорогих марок в Европе. Сейчас она стоит тысяч сто долларов, но и тогда была очень дорогой.
Думаю, рассказ этот выдуман, хотя такая марка у деда действительно была. Я никогда не слышал, чтобы он до революции или после нее был в Монако, а у бабушки этих баек не проверял. Но ведь рассказывалось это в мрачном советском Киеве среди арестов, голода, борьбы с лордом Керзоном и шахтинскими вредителями. Для сотен окружавших его людей это была весть из какого-то неведомого мира, где совсем другие люди, совсем другая жизнь. Казино, Монако… Он жил как человек из свободного мира в несвободной кровавой стране, что и я инстинктивно попробовал было делать, но для меня это в 1975 году плохо кончилось.
Поскольку я вырос с мамой и бабушкой, то из всех многочисленных родственных семейных связей отношения сохранялись только с Перевозниковыми. Как я уже писал, в Москве в Измайлово в деревянном двухэтажном бараке жили мои дважды двоюродные бабушка и дед – Константин Константинович Перевозников, брат моей бабушки, и Ариадна Павловна – сестра деда. Поскольку они были мужем и женой, получалось, что они для меня родня вдвойне. Константин Константинович был очень талантливым скрипачом, я до сих пор жалею, что тетка после его смерти кому-то подарила его скрипку, узнав, что она не работы Амати. Скрипка была действительно очень маленькой, конца XVII века, в драгоценном мозаичном футляре, но, как сказал знаменитый скрипичный мастер Глушков, это была ранняя тирольская, а не итальянская скрипка. Тем не менее дарить ее в качестве учебного инструмента для девочки, на мой взгляд, все же не стоило.
У Константина Константиновича было много изобретений и около десятка патентов, главным из которых было создание турбобура, совершенно необходимого в 1950-е годы для бурения нефтяных и всяких других скважин. Константин Константинович получил патент, были проведены промышленные испытания, после чего стало ясно, что он – бесспорный кандидат на Сталинскую премию. Его начальник тут же предложил ему соавторство, Константин Константинович отказался. Тогда испытания были прекращены, в проект внесены незначительные изменения, с которыми он и был заново запатентован, чтобы начальник Константина Константиновича получил премию первой степени и массу всяких преимуществ. А Перевозниковы продолжали жить в каморке в деревянном двухэтажном бараке, которыми в 1930-е годы было застроено Измайлово. Им предлагали еще и соседнюю комнату, но Ариадна Павловна, привыкшая к советской жизни, сказала: зачем нам вторая? Советский демагогический аскетизм для народа (вплоть до нищеты) успешно эксплуатировавший идеалы «Черного передела», был близок всем Перевозниковым.
Главным в их жизни были не комнаты и, может, даже не изобретения, главным была память о сыне – моем дяде Игоре, погибшем на фронте. По-моему, он был лет на десять моложе мамы, родился в 1918-м, а году в 1938-м был призван в армию. Попал в войска НКВД – выбирать тогда не приходилось – в конвоирование поездов с заключенными. Будучи интеллигентным мальчиком из народнической семьи, сразу же начал передавать письма зеков домой, кому-то отдавал свой паек и пытался как-то помочь. Довольно скоро его в этом изобличили. Но началась финская война, и он был отправлен на фронт, кажется, были еще не штрафные, но стрелковые ударные батальоны. На этой войне он несмотря ни на что выжил. Но вскоре началась большая война. В 1942 году он оказался в Севастополе по-прежнему в составе полуштрафного батальона. Кого-то из его товарищей ранили, еще была связь с большой землей и, попав в московский госпиталь, тот привез Ариадне Павловне письмо от Игоря. Он писал, что положение их безнадежно, все, кто могут, – бегут или прячутся в крымских пещерах. Ариадна Павловна успела ему ответить. Она мне показывала свое письмо – треугольник, где в первых же строках было написано: «Если ты побежишь – ты мне не сын». Из Севастополя, как известно, и обычные соединения большей частью вывезти не удалось, а уж о том, чтобы вывезти штрафников никто и не думал. Месяца через два Ариадна Павловна получила похоронку на сына, а еще через месяц вернулось так и не доставленное Игорю, но уже прошедшее военную цензуру ее письмо, где цензор красными чернилами подчеркнул эту фразу и написал размашисто: «Вот настоящая мать». После смерти Ариадны Павловны (я был в тюрьме) тетка уничтожила сотню приглашений на свадьбы и дни ангелов и все ее письма, зная, что то самое было среди них. Я думаю, она была неправа, но для нее это был тоже безвозвратно ушедший мир. У меня есть фотография: прижавшиеся друг к другу трое молодых людей – Игорь, тетка и мама. Уходящее молодое поколение русской интеллигенции (все – единственные, последние дети), объединенное сохраненной ими в кровавой советской жизни памятью отцов и чувством высокого достоинства.
Перед уходом в армию дядя женился. Елизавета Константиновна с ее властным характером никогда не признавала родства с семьей, кажется, буфетчицы, никогда с ними не общалась и, вероятно, сумела не только сестер, но и брата – отца Игоря, Константина Константиновича, убедить в обоснованности своего неприятия. Тем не менее там рос сын, Игорь-младший, немного старше меня. Не только я, но и Ариадна Павловна, пока был жив Константин Константинович, его никогда не видела. Но когда муж умер, она приехала в родной для нее Киев, где еще была жива ближайшая ее подруга, переводчица Елизавета Алексеевна (не помню ее фамилии), остановилась, мне кажется, у нее, а не у нас и, думаю, главным для нее было увидеть, наконец, внука. Что, к тихому возмущению моей бабушки, и произошло. В конце 1960-х – начале 1970-х годов, после смерти Елизаветы Константиновны, Игорь с женой пару раз были у нас с мамой. В последний раз после тридцатилетнего перерыва я видел его в 2008 году. Приехал в Киев со специальной задачей уже после смерти мамы – привести в порядок могилы деда, бабушки и Ариадны Павловны, умершей в Киеве – я перевез ее туда из Москвы. Случайно удалось обменять ее комнату в Москве на комнату в том же доме в институте, где жила мама. Бабушка Адя в Москве уже не выходила, тетка не могла справиться с работой, заботами о своей большой семье и о ней, попытка переехать в советский дом для престарелых оказалась неудачной – нянечки грубили, еда была отвратительной, а мама вполне была готова и способна помогать своей тете, они очень любили друг друга. Ариадна Павловна умерла вскоре после моего ареста, мама была в Москве и занималась моими делами. Хоронила ее, приехав из Москвы, тетка Татьяна Константиновна, но все документы были у мамы. На кладбище в Берковцах я без труда нашел могилы и бабушки, и Ариадны Павловны. На могиле у бабушки скромный памятник, поставленный мамой в 1968 году, был разбит и повален, вокруг стояли новые дорогие памятники людям, умершим на тридцать лет позже, – было очевидно, что они поставлены на месте чужих, вероятно, неухоженных могил. Стало ясно, что и с бабушкиной могилой вскоре произошло бы то же самое и что я хотя бы не опоздал. У Ариадны Павловны могила была цела, хотя памятника не было вовсе – только старая табличка, но было понятно, что кто-то здесь бывает. Я заказал и поставил одинаковые каменные кресты и у бабушки, и у Ариадны Павловны, такие же по рисунку, как в Москве на могилах у моего сына Тимофея, Зои Александровны – матери моей жены Томы, и моей мамы. Отличаются все пять памятников только сортом камня, а в результате – и цветом, и характером. После этого из Киева позвонила жена Игоря, которая узнала в конторе кладбища мой телефон, и начала спрашивать, не собираюсь ли я присвоить их место на кладбище. Я ответил, что никакой цели кроме установки памятника моей дважды двоюродной бабушки у меня нет, и в следующий мой приезд мы с Игорем и его женой коротко увиделись. Могилы Константина Константиновича и Софьи Константиновны в Москве пропали. Тетка была не в состоянии за ними следить, и теперь их уже не удается найти, хотя документы сохранились. Пережила Ариадну Павловну и Константина Константиновича уже упоминавшаяся мной их лучшая подруга Елизавета Алексеевна (кажется, у нее с Константином Константиновичем был длительный роман, не повредивший ни чьим отношениям друг с другом), но она в эти годы в Москву не приезжала.
Константин Константинович в последние годы писал записки: о Склифосовском, который лечил его от туберкулеза (наши семьи были дружны со Склифосовскими и Флоренскими еще по Тифлису), о Гражданской войне. Несколько лет назад от Флоренских я внезапно получил копию множества писем тифлисских лет другой сестры моей бабушки, Надежды Константиновны. Павел Васильевич Флоренский даже опубликовал эти письма в своих биографических книгах о молодости деда. Это идиллический дворянский мир с рассказами юных девушек друг другу о поездках, о прочитанных книгах, о природе, о братьях и сестрах[2]2
См.: П. В. Флоренский. Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы. М.: Прогресс-традиция. Т. 1 – 2001, т. 2 – 2015.
[Закрыть].
Люсичка, теперь у меня к вам есть просьба: к 15 июлю папа и Костя уедут в Кисловодск, у нас будет свободно, приезжайте, пожалуйста, к нам; Люсичка, я вас прошу! пожалуйста! К 20-му августа мы поедем в Тифлис, потому что Лиле нужно ехать в Петербург.
…Если же ваша мама боится вас пустить, напишите, пустит ли она вас к нам, тогда, может быть, кто-нибудь из нас поедет за вами. Люсичка, мама вас тоже просит. Ах, если вы приедете, как будет хорошо! Мы вместе будем писать французский, читать что-нибудь вместе, хоть Парашу-Сибирячку![3]3
Лупóлова Прасковья Григорьевна (около 1784–1809) – дочь ишимского ссыльного, прототип ряда художественных произведений западноевропейских и русских писателей XIX века.
[Закрыть] Будем ходить в рощу с книгой, читать вместе, я постараюсь через Гласко доставать книги в полковой библиотеке; Люся, приезжайте, пожалуйста!!! Наш адрес: Штаб-квартира, дача Солохина.
Люсичка, приезжайте! Надя
Лиля поедет только в конце августа.
Люся, напишите, пожалуйста, когда вы поедете в Тифлис. Я собиралась поехать к вам на той неделе, но потом узнала, что Костя должен был играть на концерте 6-го августа, и хотела подождать, но 5-го Косте сказали, что этот концерт не состоится, а он собирался вас благодарить за ноты: на бис он хотел играть «Simple à veno». Все это время он играл на скрипке и забыл, кажется, что у него переэкзаменовка – не занимался. Мама боится, как бы он не провалился. Я целыми днями лежу и читаю; прочла теперь исторические романы Соловьева. Надя.
А тут еще у Исаковых нашлись книги – соч. Боборыкина и Тек керея, и я целыми днями читаю. «Преступление и наказание» я прочла прошлый год летом: впечатление, конечно, очень сильное, но задумываться над тем для чего жить, я не стала, да и не стоит – все равно теперь не узнаем, а, может быть, как Женя[4]4
Е. В. Ельчанинова.
[Закрыть] говорит, «когда умрем, тогда узнаем». А ответов на этот вопрос много: вспомним второй или третий билет по З<акону> Б<ожьему> – иудейские секты: «садукеи цель жизни полагают»… и т. д. Я пошла стелить постель, укладывать Борю спать, заказывать обед и т. д.
Не нашлось у вас минутки зайти ко мне перед отъездом! Я уже совсем собралась идти к вам, да мама попросила купить клеенку на стол, а потом нужно было уложить платье, в дорожном же я не могла выйти на улицу. Выехали мы довольно поздно, часов около 6, а доехали до Манглиса засветло.
Я, как нарочно, ничего не взяла для занятий по математике, да и вообще ничего не взяла. Теперь я читаю Мордовцева, а потом постараюсь достать Апухтина у Тамилы, она даже уже предлагала. Из книг по психологии у меня ничего нет и, должно быть, не будет! Я прямо не знаю, что делать!
…Знаете, Люся, я уже второй день за хозяйку: в 4 часа утра (вчера) Леля ушла с пансионом гимназии на прогулку в Белый Ключ, и вчера же уехала мама в Тифлис; Леля придет только завтра вечером, ну, натерпелась же я страху за эту ночь! Наша дача крайняя на той улице, где мы жили прежде; за нами идет какой-то огород, а дальше – обжигают кирпичи и лазарет.
Сегодня попрошу Варвару спать с нами в комнате, а то я опять буду бояться заснуть.
В этих письмах вся семья Перевозниковых: Лиля – моя бабушка Елизавета Константиновна, Надя – ее сестра Надежда Константиновна, Костя – их брат Константин Константинович, папа – мой прадед Константин Иванович, мама – прабабка Любовь Ивановна, Боря – младший сын брата прадеда – Александра Ивановича.
Кажется, что всего этого не было на свете.
Однажды году в 1958-м мама мельком сказала мне:
– Дядя Костя хотел тебя усыновить, чтобы ты был Перевозниковым, – сам понимаешь, какое было время.
Я кивнул, хотя на самом деле ничего не понимал. За годы моего детства только однажды какой-то молодой учитель при перекличке, когда я сказал Сергей Иванович, довольно грубо заметил:
– Наверное, Абрамович, а не Иванович.
Никаких других проявлений антисемитизма я в те годы не встречал и о нем ничего не знал. Больше того, в самый разгар антисемитской компании в СССР мама в 1950 году защитила кандидатскую диссертацию, а в 1952 году, в самый разгар антисемитских гонений, ее диссертация была (кажется, не без труда, но при мне об этом никогда не говорили) утверждена в Москве ВАКом. Дело было в том, что ее руководителем был академик Сухомел, а оппонентами, все одобрившими, – еще два академика и два влиятельных профессора. Да и весь наш институтский «остров» не откликался на безумие, творившееся в стране.
Хотя через много лет я подумал, что мама просто не понимала, какую серьезную борьбу втайне от нее вел академический Киев, чтобы дать возможность дочери всеми любимого, а не только уважаемого Сергея Павловича защитить диссертацию в эти мрачные годы и выбраться из советской нищеты.
Близких знакомых среди еврейских институтских семей у нас не было, мама и бабушка, конечно, все понимали, но никогда об этом не говорили, обычных в еврейских семьях того времени разговоров о том, что я должен как-то особенно хорошо учиться, чтобы быть принятым в институт, я никогда не слышал. Учился неплохо, но не блестяще, тем более что из-за детского ревмокардита довольно редко ходил в школу. Поэтому, когда я не прошел по конкурсу в институт, винил скорее самого себя, хотя менее преуспевающие в занятиях приятели конкурс выдержали. Странно было лишь то, что среди моих сверстников не был принят Фред Валлернер, в отличие от меня учился он блестяще. Его отец, институтский профессор, пошел к директору Плыгунову (кажется, тоже ученику моего деда), и Фред был за числен на заочное отделение. Моя мать со свойственным ей достоинством ни к кому не пошла и никак это не комментировала. Я год проработал в институтской лаборатории, на следующий год сдавал вступительные экзамены сначала в Физико-технический институт, потом – на физический факультет Московского университета. По баллам никуда не прошел, но был принят по ведомости о полученных оценках на заочное отделение института.
Года через два в Риге я взял фамилию отца. Связано это было не столько со смутным ощущением, что еврейская фамилия мне чем-то мешает – при полном отсутствии интереса к еврейскому миру, – сколько с возникшим довольно зыбким интересом к миру армянскому. Я даже думал поступить в Ереванский университет, но мать легко охладила мое желание:
– Ты не понимаешь, как плохо относятся армяне к тем, кто не знает армянского языка. К кому и куда ты там приедешь, с кем будешь говорить?
Впрочем, однажды (то есть три или четыре упоминания за пятнадцать лет) я услышал от мамы еще одну относящуюся к еврейским проблемам реплику:
– Яновский предлагал мне тогда, то есть в 1952 году, выйти за него замуж, объясняя: вы должны понимать, на что я иду.
Я опять кивнул, хотя ничего не понимал. Яновский был довольно крупным (по комплекции) украинцем с плохой репутацией в институте (однажды студенты, скинувшись, заказали гроб, привезенный по его адресу, – вещь неслыханная в советское время). И маме, и бабушке было настолько отвратительно говорить о советском мире – да это было и опасно при ребенке, – что они считали, что я сам все пойму, а скорее – уже все понял. И это, конечно, было преувеличением.
В семнадцать лет я решил, что хочу поступить в Духовную семинарию и стать священником. Мама спросила только:
– Ты что, Сережа, хочешь, чтобы тебе старухи руки целовали?
Этой реплики хватило, чтобы отказаться от духовной карьеры, хотя я, будучи крещеным и помня об этом, раз пять, мало что понимая, заходил в киевские храмы. Библии у нас в доме не было, по тем временам это была дорогая, хотя и не запрещенная книга. Только у бабушки на белом грушевом комоде (вероятно, из училищ Константина Ивановича) стоял маленький образок Казанской Божьей матери, который она увезла с собой в эвакуацию. Он вернулся с ней в Киев, не был изъят при обысках по моей просьбе и из-за его незначительности и сейчас стоит у меня на столе.
Интереса к еврейской истории и культуре у меня не было никакого. Мне никогда не приходило в голову задать хоть кому-нибудь хоть какие-нибудь вопросы на эти темы, а мне никто и никогда ничего не говорил. Конечно, я мог найти какие-то книги, по тем временам редкие и дорогие, но я был вполне сложившимся книгоманом и, если бы захотел, что-то, несомненно, нашел. Но не было интереса, хотя никто у меня его и не отбивал.
«Остров»
Я практически не ходил в советскую школу – лет в тринадцать у меня нашли ревмокардит и предложили ходить на учебу или два дня в неделю, или каждый день, но по два урока. Понятно, как редко бывал я в школе. Правда, прекратились и уроки английского с отдельным преподавателем, и уроки игры на рояле. К нашим комнатам на первом этаже примыкала большая терраса, куда из маминой комнаты выходила высокая дверь, а вдоль террасы был небольшой палисадник, с еще, кажется, дореволюционным ветхим заборчиком. Однажды на веранду, а точнее – к моей маме прибрел беленький, беспородный, но гордо называвшийся метисом шпица маленький пес. Сперва его назвали Шариком, но мама, очень любившая собак, быстро его переименовала в Шурочку, и он стал неотделим от нашей семьи. Сам уходил погулять – летом через веранду, зимой через квартиру, – неизменно же возвращался. И, несмотря на бесспорное положение члена семьи, вел себя в комнатах очень аккуратно: спал только на своем коврике, никогда не залезал ни на мягкие кресла, ни на постели. Нарушилось это правило только однажды, когда я не жил в Киеве, знаю это по маминому рассказу. У мамы начался сердечный приступ, настолько острый, что она была не в состоянии позвонить по стоявшему рядом телефону и вызвать «скорую помощь». Каким-то образом пес это почувствовал, впервые заскочил к ней на постель, лег сначала с одного боку, как-то отогрел его, потом перебрался на другую сторону, отогрел маме вторую руку, и она смогла позвонить по телефону и вызвать врача. У мамы он прожил еще несколько лет, но понемногу слабел и однажды ушел умирать. Не зря мама в одном из писем ко мне в тюрьму, описывая столь же важного в нашей семье Арсика, вспоминает «о незабвенном Шурочке».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































