Текст книги "В предверии судьбы. Сопротивление интеллигенции"
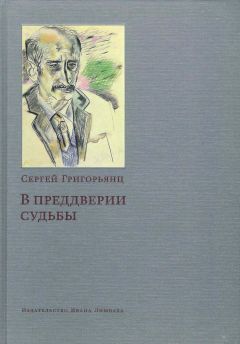
Автор книги: Сергей Григорьянц
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Вероятно, сейчас какой-нибудь заработок я забыл. Ах, да – лекции в обществе «Знание» и в Бюро пропаганды Союза писателей. Так или иначе, я обошел все редакции, где я печатался, и получил об этом справки. Думаю, что ни у одного преподавателя на нашем факультете не было такого послужного списка – ни студенты, ни преподаватели, за очень редким исключением, тогда не печатались. Теперь у меня было две пачки справок: о сдаче экзаменов и о явной профессиональной пригодности, но в деканате меня с ними не принимали. Тогда по моей просьбе Марья Васильевна Розанова (жена Андрея Донатовича Синявского, который в это время был в лагере) дала мне телефон Эрнста Когана – его адвоката, который сказал, что советские суды таких дел не рассматривают, но посоветовал обратиться в Комиссию по партсовконтролю:
– Там сидят старики, которые во всем копаются, может быть, они вам помогут.
К несчастью, в эти дни умерла моя бабушка Елизавета Константиновна, и я уехал в Киев проститься с ней. В Киеве дня через три-четыре рассказал маме обо всем, что происходит в Москве. Матушка, которая никогда никому не жаловалась, никого ни о чем не просила ни за себя, ни за меня, внезапно сказала:
– Я посоветуюсь с Иваном Трофимовичем.
Имелся в виду академик Щвец, который так же как Тамм, Делоне, Сухомел и Лившиц был учеником моего деда. Сын Ивана Трофимовича был маминым студентом, сам Швец был научным руководителем маминой диссертации, но кроме всего остального он был президентом Академии Наук Украины. Швец охотно согласился со мной поговорить, пригласил меня к себе, внимательно выслушал, посмотрел справки о сданных экзаменах и редакционные удостоверения, хмыкнул и сказал:
– Журналистика в Киевском университете на украинском языке, и тебе это, вероятно, не интересно. Но у меня есть приятель в Москве, замминистра высшего образования, возьми телефон и позвони ему – он тебя примет.
Действительно через неделю я входил в кабинет заместителя министра, который, кажется, до этого был ректором Московского университета. Был он высок, очень представителен и интеллигентен. Я был в столь официальном советском кабинете впервые и думал с некоторым недоумением: неужто отсюда могут исходить справедливость и здравый смысл.
Меня он внимательно выслушал, но сказал:
– Вы понимаете, я – заместитель министра по научной работе и к учебным заведениям отношения не имею. Я позвоню заведующей отделом ВУЗов Горчаковой, и вы ей все расскажите.
Еще дней через пять я все рассказывал немолодой крашеной блондинке с княжеской фамилией, которая никак не комментировала мой рассказ, взяла «для проверки» справки об экзаменах и бумаги из редакций и на прощание сказала:
– Приходите через десять дней, во вторник, в два часа, к этому времени я все выясню.
Естественно, во вторник в два часа я постучался в ее кабинет. Горчакова перебирала какие-то лежавшие перед ней бумаги, указала на стул рядом с ее столом и попросила немного подождать, пока она закончит предыдущее дело. Я терпеливо прождал минут пять и тут зазвонил стоящий перед ней телефон. Говорила она громко, четко и все было слышно.
– Да, да Горчакова. Да, я все понимаю. Григорьянц, да, понимаю. Да, да, КГБ, Григорьянц. Все понятно. Да, да, Григорьянц, КГБ. До свиданья.
Разговор по телефону явно носил декоративный и демонстративный характер и столь же явно был приурочен к моему приходу. Но, делая вид, что все это не имеет ко мне никакого отношения, Горчакова сказала:
– Мы тут во всем разобрались, экзамены вы сдали не вовремя и поэтому восстановлены в университете быть не можете. Годик поработайте, представьте хорошие характеристики, и тогда вопрос будет рассмотрен заново.
– Но я же имею право на заочном сдавать экзамены в течение года? К тому же отчислен я по последнему приказу за «профессиональную непригодность».
– Не затевайте бессмысленных споров, я вам все сказала.
– Тогда отдайте мне справки – я пойду в Комиссию партсовконтроля, – вспомнил я совет Эрнста Когана.
– Нет, я вам ничего не отдам: все бумаги останутся у меня – они подшиты к вашему делу.
Я вышел, не попрощавшись. Вернулся на дачу в Троице-Лыково, после рассказа жене у меня начались боли в желудке. Кто-то из знакомых объяснил, что в результате нервного напряжения может появиться язва. Тома начала поить меня куриными бульонами, на факультет – собирать справки заново – не отпустила. Да и преподаватели разъехались на каникулы. К тому же весь этот факультет советской журналистики, куда я попал случайно, настолько был мне внутренне чужд и не вызывал ничего, кроме омерзения, что бороться за него было просто противно. Да еще и декан Засурский предложил Томе фиктивное направление («но там нет мест!») в киевскую «Робитничу газету» – «ведь в Киеве живет мать вашего мужа». И мы решили уехать.
Первые встречи с однокурсниками после моего отчисления и нашего с Томой отъезда были опять в Москве, но больше, чем через год, и не у меня, а у Томы. Гораздо позднее она сказала, что меня, по ее мнению, так долго не выгоняли из университета, потому что ждали, когда закончит обучение наш курс – все же опасались какого-то коллективного протеста.
Для меня жизнь в Киеве не была такой уж тягостной. Тут же наладились приятельские отношения с Виктором Платоновичем Некрасовым, которого я знал еще в Москве, я познакомился с Сергеем Параджановым и часто с ним виделся. В Киеве были три-четыре довольно любопытных коллекции живописи, и это тоже меня занимало. Но не было совершенно никаких заработков – за самыми мелкими гонорарами приходилось ездить в Москву. Положение Томы было еще хуже: человек она менее общительный, поэтому знакомые ее не развлекали, в молодежном международном туристическом агентстве «Спутник» ей охотно предложили работу переводчика, но объяснили, что в отчетах она должна подробно излагать все, о чем будут говорить доверенные ей иностранцы. Декан филологического факультета Киевского университета вместо того, чтобы дать ей переводческую работу, познакомил ее с двумя сотрудниками КГБ, предложившими ей заниматься перлюстрацией писем иностранцев.
Доведенная до отчаяния Тома (а в семейных делах тоже не все было гладко) решила вернуться в Москву. Для начала однокурсники подбросили ей какие-то мелкие переводы для Института информатики – их надо было перепечатывать на машинке, и Олег Шибко тайком проводил ее к себе на работу в АПН, чтобы она могла это сделать. Юра Кирпичников, устроившись в советский отдел Управления международных выставок, смог временно устроить туда и Тому. Однокурсники продолжали помогать ей как могли, но все это было очень непрочно, пока за дело не взялась Наташа – дочь начальника управления и ее сослуживица, у которой обездоленная Тома даже прожила три недели. В конце концов Наташин отец «надел погоны» и получил у Промыслова (мэра Москвы) для своей сотрудницы право купить однокомнатную квартиру и быть в ней прописанной. Было, правда, условие: прописка давалась только Томе, но не мне, и мы действительно года два были разведены и женились вновь перед самым рождением Тимоши. К тому времени оказалось, что Наташин отец был в прошлом не просто генерал-лейтенантом КГБ, но начальником Первого Главного управления, ушедшим в знак протеста со своего поста, когда управление возглавил «непрофессионал» Семичастный. Почему Демьшину Семичастный нравился меньше, чем Шелепин, – не знаю. Впрочем, вероятно, ему не нравились оба комсомольца.
Новый вестник с факультета журналистики появился году в 1973-м. Мы с Томой безмятежно жили в однокомнатной квартирке на Ярославском шоссе, и вдруг однажды раздался звонок в дверь – на пороге стоял наш сверстник, которого я с трудом припомнил по факультету, фамилия его была Демуров. Он был армянин из Тбилиси. Не помню уж в качестве диплома или даже кандидатской диссертации Алик пытался представить сочиненную им повесть, которую безуспешно заставлял прочесть. По его абсолютно бессвязной и претенциозной речи было ясно, что повесть читать не стоит, и я успешно отбился.
Но теперь Алик радостно объявил, что снимает квартиру с женой как раз в нашем доме, в соседнем подъезде. На нем была самая роскошная дубленка, которую я в те годы видел (а далеко не все мои знакомые были бедными), да и квартиру, как выяснилось, он снимал трехкомнатную. Сперва Алик старался быть мне полезным, всучал какие-то меховые шкурки на воротник зимнего пальто для Томы (в магазинах ничего подобного не было), но потом решил, что можно перейти к делу и заговорил со мной о том, как много армян работает в КГБ. Личностный характер этого сообщения был вполне очевиден, но я, делая вид, что не понимаю, промямлил:
– Но ведь у армян такая характерная внешность – вероятно, это неудобно для тайной деятельности.
– А разве я похож на армянина? – возразил Алик. Он действительно был рыжий и походил скорее на татарина, – У меня дядя – начальник районного управления КГБ в Москве.
Но меня не заинтересовала его доверительность, и я прекратил разговор. Тем более что он самым отвратительным образом сочетался уже не с перлюстрацией, а просто с перехватом всех моих писем – я уже полгода не получал ни одного письма, а у дверей нашего подъезда в телефонной будке с утра до вечера стоял какой-нибудь хмырь, к ненависти жильцов всего нашего большого дома – в нем еще не было телефонов в квартирах, а телефонов-автоматов рядом было всего два. Разозлившись, я снял квартиру на другом конце города, у меня уже был «жигуленок», и КГБ никак не мог меня найти. Изредка меня находила «наружка» – то у старых знакомых, то на проводах за границу Некрасова, но снова теряла. Когда беременная Тома выходила гулять с Арсиком – нашим бульдогом, – она звонила мне из разных автоматов. Контролировать все телефоны-автоматы в округе для них было невозможно, подбежать и посмотреть какой она набирает номер – топтуны не успевали да, собственно, не так уж я был им нужен. Думаю, что тогда им хотелось только меня «пугнуть». В конце концов выяснилось, что единственной целью была вербовка. Если не получается добровольно – то загнать в угол. Правда, на нее было потрачено как-то слишком много усилий.
Памятным был новый 1975 год. 31-го к нам на праздник пришла однокурсница – Нонна Синявская. В комнате спал годовалый Тимоша, мы сидели на кухне за бутылкой вина и нехитрыми закусками. Перед каждым поставили по подсвечнику, зажгли свечу перед Нонной, перед Томой, я попробовал зажечь свою свечу – она погасла, попробовал опять – погасла снова, попробовал в третий раз – она погасла вновь. Больше я не пытался, и все мы сделали вид, что ничего особенного не произошло. До моего первого ареста оставалось два месяца.
Последним из однокурсников я встретил тогда Аркашу Кудрю. Он мне всегда нравился, но был интересен на расстоянии – мы никогда не были близко знакомы. Что-то мне рассказывали о нем – как он уехал на Дальний Восток, не стремясь ни к карьере, ни к какой выгодной службе в Москве – может быть, что-то рассказывали и ему обо мне. Я был рад его встретить, но тогда мне было не до разговоров. Было ясно, что я вот-вот буду арестован (уже были два бессмысленных обыска – в Москве и в Киеве у мамы) и что книгу о Боровиковском для ЖЗЛ я не успею закончить. Тома была вновь беременна и, собрав, сколько мог, денег и все, что мог, заложив в ломбард, я внес пай за квартиру побольше – было ясно, что вчетвером (двое детей, Тома, ее мать) даже без меня в однокомнатной квартире они не поместятся. И, действительно, когда через несколько дней я был арес тован, им отдали из моего бумажника единственные у меня тридцать рублей. Аркаша все это понял, хотя и не знал причины моего беспо койства, и мне было любопытно потом прочесть его воспоминания об этой встрече.

Вера Сергеевна, мама. Примерно 1975 г.
Вскоре после моего ареста, была одна встреча у Томы с очень близким приятелем – не могу называть его фамилии – потом, через много лет он просил прощения. Они почти столкнулись в холле Останкинского телецентра. И он, устроенный, благополучный тогда советский журналист, прошел мимо Томы, беременной и измученной, сделав вид, что ее не узнает. Сейчас он живет где-то в Южной Америке и торгует местами на кладбищах – в прямом, не в переносном смысле.
Но несколько однокурсников – точнее, однокурсниц, не так боялись. Люся Трофимова (до ее отъезда), Нонна Синявская, Лена Смирнова и, главное, Лена Щербакова, давно разошедшаяся с Кирпичниковым – все периодически бывали у Томы. К счастью, она с Зоей Александровной – моей тещей – и двумя детьми (12 августа в камере Матросской Тишины открылась кормушка – «Григорьянц, у вас родилась дочь») жили не так чудовищно плохо, ак я думал и чего боялся. Возможность продать хоть что-то из коллекций (киевскую часть конфисковали, сфабриковав новый суд, лишь через год после моего освобождения – всё надеялись договориться, пытались купить, додавить: «вы же видите, Григорьянц, как хорошо мы к вам относимся – ничего не забираем»), да к тому же патронаж Фонда Солженицына – все это как-то помогало. Но во все более и более дальние тюрьмы, куда меня переводили (Ярославль, Чистополь, Верхнеуральск) с мамой ездили не однокурсники, а начавший когда-то «Вечера забытой поэзии» с лекции о Мандельштаме Саша Морозов.

Зоя Александровна Кудричева, теща
За девять лет тюрем и лагерей и за три года принудительной жизни в Боровске – в ста километрах от Москвы – наших однокурсников я не встречал ни разу – они были в совсем другой части мира. И журналистская моя работа – подпольный «Бюллетень «В» – от них был бесконечно далек.
Но после второго освобождения, после начала издания журнала «Гласность», успеха его, переиздания номеров в разных странах, а, главное, с переменами, происходившими в стране, встречи сами собой возобновились. Первым из однокурсников, встретившимся мне, был Женя Грачев. Работая, кажется, на радио «Маяк», он тут же предложил сделать с ним интервью, что требовало некоторой смелости – в советской печати по моему адресу ничего кроме брани по-прежнему не появлялось. Более заметные изменения, как ни странно, стали происходить после февраля 1991 года, когда я, продолжая повторять, что КГБ идет к власти (при полном непонимании этого как в России, так и за рубежом) начал проводить одну за другой конференции «КГБ: вчера, сегодня, завтра». Конференций было девять, в каждой из них было по три-четыре панели: КГБ и медицина, КГБ и армия, КГБ и средства массовой информации, КГБ и экономика и т. д. Список выступающих был велик и очень разнообразен (от сотрудников КГБ, которые могли говорить все, что хотели, но обязаны были после этого отвечать на вопросы из зала, до академиков – Татьяны Заславской, Вячеслава Иванова и Александра Яковлева). Дважды по вопросам экономики замечательно выступал Слава Газанджиев, который продолжал преподавать на факультете журналистики, однажды – Юра Косов и чаще всех – Ясен Николаевич Засурский. Он всегда приходил минута в минуту, говорил очень дельно: Ясен Николаевич всегда умел играть по правилам.
Изредка я встречал Юру Кирпичникова, который, как и Засурский, оказался со своей обычной ласковостью в числе тех немногих журналистов, для кого все времена были хороши. В «Гласности» одно время работал Андрей – его старший сын, но Юра им не интересовался. Встречал я и Синявского (не диссидента, а однокурсника) в Институте им. Патриса Лумумбы, когда мы с академиком Игорем Блищенко проводили там конференции, стремясь добиться ратификации Россией устава Международного уголовного суда, а Синявский смешно рассказывал, что в каждой стране, куда его посылали, тут же рушились прокоммунистические режимы (Чили, Никарагуа, где-то еще).
Надо сказать, в те годы работа шла очень интенсивная: издавались «Бюллетень „В“», журнал «Гласность», делались попытки предупредить приход КГБ к власти, предупредить вторую чеченскую войну (трибунал по Чечне), включить Россию в механизм Международного уголовного суда. Но результаты оказались не так уж велики, а за то, что было сделано, я заплатил слишком многим.
Глава IV
Клавдия Николаевна Бугаева и наше неблизкое знакомство
С вдовой Андрея Белого, Клавдией Николаевной, меня познакомил поэт Борис Абрамович Слуцкий, человек внешне благополучной, но очень сложной, если не сказать трагической судьбы. В те годы все знали наизусть (и я помню до сих пор) его стихотворение «Бог»: «Мы все ходили под боком, у Бога под самым боком…».
Он считал необходимым вспомнить Андрея Белого, опубликовать его стихи, а я казался ему единственным, кто готов был это сделать. Борис Абрамович редактировал, кажется, второй из недавно появившихся ежегодников «День поэзии». Эти два ежегодника – московский и ленинградский – были важной приметой хрущевского либерализма, резко выросшей роли поэзии.
Мы как-то разговорились со Слуцким, ему понравилась моя заинтересованность литературой начала века. Он предложил сделать публикацию для «Дня поэзии» и сам договорился с Клавдией Николаевной. Клавдия Николаевна жила в теперь уже снесенном доме в Нащокинском переулке, где прожили последние годы и Андрей Белый, и Мандельштам, – в первом писательском кооперативе. На его стене красовались большие мемориальные доски Мате Залки и Дмитрию Фурманову.
Борис Абрамович, правда, не предупредил меня, что Клавдия Николаевна больна и не встает. Дверь мне открыла немолодая женщина, которая ожидала моего прихода, но не представилась, молча провела меня в комнату, посреди которой стояла большая кровать с белоснежными отглаженными подушками и широкой полосой загнутого наружу и покрытого такой же накрахмаленной, как будто никогда не тронутой простыней, одеяла.
Я сел на стул рядом с кроватью, и в нашем разговоре быстро возникли взаимопонимание и доверие, чему в большой степени помогала спокойная доброжелательность Клавдии Николаевны.
Я спросил, нет ли у нее для публикации не известных широкой публике стихов Андрея Белого (его поэзию я знал хуже, чем прозу; одна из первых моих статей была посвящена именно ритмической прозе Белого). По словам Клавдии Николаевны, в двадцатые годы Борис Николаевич заново отредактировал, практически переписал свои известные книги стихов «Золото в лазури», «Пепел» и «Урна», а Цезарь Вольпе в 1940 году, готовя последнее издание поэзии Белого, в Малой серии Библиотеки поэта включил туда только ранние редакции. Еще не зная текстов, из чисто академических соображений – последняя авторская редакция, да к тому же неизданная – я сразу же сказал, что буду готовить к печати, конечно, последние редакции. Клавдия Николаевна очень обрадовалась.
Кстати говоря, эта моя довольно обширная публикация лет на тридцать оставалась единственным изданием поздних редакций стихов Андрея Белого. Хотя через год-полтора вышел массивный том стихов Белого в Большой серии Библиотеки поэта, но и в нем Тамара Хмельницкая, как мне тогда казалось, под влиянием Владимира Орлова, напечатала в основном ранние, изданные еще в начале века варианты стихов. Все они – Цезарь Вольпе, Владимир Орлов, рассуждал я, – занимались историко-литературными антикварными разысканиями, пытались оставить Андрея Белого рядом с Блоком в числе «младших символистов», не понимая, что и в гениальном пророческом романе «Петербург», и в дальнейшей прозе, и в новых редакциях стихов Андрей Белый далеко вырвался вперед, ощутив наступающее и наступившее время, вероятно, с гораздо большей точностью и полнотой, чем даже Александр Блок. Не зря его считали своим учителем Марина Цветаева, русские футуристы, а потом – обэриуты. Его творчество часто и справедливо сопоставляется с европейским модернистским искусством, например, Николай Бердяев в статье «Астральный роман» (о романе «Петербург») говорит «о кубизме в художественной прозе», подобном живописи Пабло Пикассо.
Но в большом письме ко мне от 2 октября 1967 года Владимир Орлов пишет, что ничего не зная о моей работе он для комментирования мемуаров Белого предложил «ленинградских исследовательниц Банк и Захарченко, которые готовили стихи Белого для «Библиотеки поэта». «Но должен сказать, что эти молодые особы «не оправдали надежд» – в их работе обнаружились, как Вы это знаете, досадные деффекты». То есть я ошибался, считая, что переиздание ранних вариантов стихов Белого – инициатива Владимира Орлова. Он предлагал «не мешкая подавать свою заявку в гослитиздат… Я лично буду за то, чтобы поручить издание Вам». Орлов советовал мне через год подать заявку на «избранный том прозы Ремизова» и обещал сразу же известить, если том Ходасевича будет включен в план издательства «и Вы подадите заявку». Таким образом, издание стихов и прозы Андрея Белого могло бы происходить в СССР гораздо успешнее, если бы мной не начал всерьез заниматься КГБ. Сперва была слежка и полная блокада переписки, потом исключение из университета и вынужденный переезд в Киев, куда письма тоже почти не доходили, а через несколько лет – расправа с ближайшими знакомыми (арест Параджанова, обыск и принудительный отъезд Некрасова) и мой арест.
В результате остались нереализованными подготовленные для «Вопросов литературы» первые в СССР публикации Алексея Ремизова (Кодрянская прислала мне отрывки из его дневников, не печатавшиеся даже в Париже – «не вошедшие в мою книгу по небрежности типографии – Алексей Ремизов, 1969 г.», – пишет Наталья Владимировна. Прегель прислала главу «Москва», в 1949 году опубликованную в ее – ныне очень редком – журнале «Новоселье». Характерно в этом отношении письмо – все же дошедшее – Нины Николаевны Берберовой:
«Милый Сергей Иванович, спасибо за письмо. Человек (Вильям Дербишайр, славист, лингвист, ученик проф. Ахмановой) написавший Вам, был в Киеве и поехал к Вам, но не нашел Вашего дома. Никто не мог ему объяснить, где он находится, и даже такси, которое он взял, после получаса кружения по улицам, сказал, что дома не существует. Тогда он, зная от меня, как Вам нужна книга, пошел в музей и передал ее не самому Горбачеву, который был в отпуске, а его секретарше. Теперь надо думать книга в Ваших руках.
Я пишу и не знаю, дойдет ли до Вас это письмо. Вы пишете, что вероятно будете в Ленинграде, а московского адреса не даете, хотя и пишете мне «Измайловский проспект» по моим соображениям должен находиться в Ленинграде. Если «вероятно», то куда же писать? И где живет бабушка – тоже непонятно. Поэтому пишу в Киев в надежде, что письмо мое или вернется, или его перешлют Вам. Вильям тоже тщательно искал Тому в списке работающих на выставке, как Вы мне писали, но и ее не нашел – ее там никто не знал. Как все это понимать – не знаю. Даже как-то странно, что несмотря на все данные о человеке, его в нужный момент найти нельзя. Объясните, пожалуйста, все эти недоразумения.
Привет.
Н. Берберова».
Это письмо до меня дошло и даже уцелело после многочисленных обысков и изъятий, как, впрочем, и еще два предыдущих. Одно от 3 февраля 1970 года о том, как ее радует реализованные в СССР публикации (новые тома «Библиотеки поэта» и книга Берковского «Литература и театр» и о переключении Джона Малмстада с Андрея Белого на творчество Кузмина. Второе – о присылке книг. Видимо, речь идет о Гертруде Стайн для диссертации Томы.
Моих писем в архиве Берберовой, как сказал мне один из исследователей, сохранилось больше. Видимо, есть ответ и на цитируемое мной недоуменное письмо. Но я и сейчас помню, как на него отвечал. Наш киевский адрес – один из профессорских домов в усадьбе Политехнического института. Но на Брест-Литовское шоссе выходил километровый его парк, а дома находились за ним. Не зная этого, их, действительно, трудно было найти. Но в Киев письма доходили плохо, да и мне то и дело приходилось жить и бывать в Москве, поэтому я дал адрес моей дважды двоюродной бабки – Ариадны Павловны Перевозниковой, жившей на Измайловском бульваре (а не на проспекте). И в письме я напоминаю, что Измайлово при Петре – деревенька под Москвой, а теперь ее район. Тому, вынужденную из-за отсутствия работы уехать из Киева, возможно, искали на ВДНХ, а Управление международных выставок, хотя там и располагалось, было совсем отдельной организацией. А может быть Тома там и работала сперва внештатно. Не знаю. Во всяком случае заниматься академической. Литературоведческой работой в таких советских условиях не просто. Что-то объяснить – еще труднее.
Поразительно интересно единственное уцелевшее письмо Резниковой (чудом дошедшее в Троице-Лыково), о собранном ею однотомнике Ремизова, который она все понимая, кто есть кто в СССР послала Федину и Лидину. Но все, что она пишет о самом Ремизове, к несчастью не сохранились (а может быть не дошли) посланные мне ее воспоминания.
Тоже очень любопытное (и единственное уцелевшее) письмо Нины Ивановны Гаген-Торн уже с благодарностью мне за помощь в публикации воспоминаний о Вольфиле и просьба помочь с публикацией в «Юности» статьи (этнографической) о Болгарии.
Четыре письма С. Ю. Прегель о «незавидной судьбе» Ремизова в России, судьбе, которую «он предчувствовал» для меня, как и письма Кодрянской тогда были очень важны.
Кажется, в 1966 году в журнале «Москва» был опубликован роман Булгакова «Мастер и Маргарита», его перепечатывали на пишущих машинках, перепродавали номера журнала за большие деньги, в общем, вся «передовая» Москва, а собственно говоря, и весь Советский Союз испытывали восторг перед этой книгой, впрочем, давно известной по самиздатовским копиям. А в журнале для роста подписки дали половину текста в ноябрьском номере, а вторую анонсировали (и напечатали) в январе следующего года. Не помню, как развивался наш разговор, но Клавдия Николаевна осторожно упомянула о книге, и, к явному ее удивлению, а потом оказалось – и удовольствию, я с решительностью, которая в молодости была мне свойственна, сказал, что роман мне скорее неприятен, что Булгаков – «самый большой маленький писатель», используя при этом формулу из «Одноэтажной Америки» Ильфа и Петрова, но оговорившись, что сами эти писатели с их «Золотым теленком» (который тогда в СССР все знали наизусть, цитатами из которого любили говорить друг с другом, повторяя рассуждения внутренне близкого советским людям Остапа Бендера) мне кажутся на редкость отвратительными. На этом мы сошлись потом и с Аркадием Викторовичем Белинковым.
Но для Клавдии Николаевны я, как мне казалось, убедительно мотивировал свое отношение к «Мастеру и Маргарите»: совершенно неприемлем булгаковский Христос (даже если он называет его Иешуа). Спаситель, олицетворяющий для нас всю полноту европейского сознания, нравственности, истории, оказывается просто симпатичным соседом по коммунальной квартире – доброжелательным, вежливым, но не более.
Не помню, тогда или позже в тюрьме я сформулировал для себя разницу между большим и маленьким писателем, сравнивая их с пирамидами разных видов. Большой писатель, создавая перевернутую пирамиду, берет малую точку – скажем, провинциального мальчика Алешу Карамазова из Старой Руссы, – но все связанные с ним ассоциации превращают художественный образ в один из символов окружающего нас мира. А маленький писатель (Булгаков, Мережковский с его «Наполеоном» или Ренан) выбирает крупное или даже нечто гигантское, с уже сложившимся значением в истории и в человеческом сознании, и сперва использует этот задел, а потом сужает, в меру своего ограниченного таланта и понимания. Я к тому времени уже читал статью Розанова о религиозной живописи, где он пишет о незначительной фигуре Христа в «Явлении Христа народу» Александра Иванова, и к тому же был хорошо знаком со Львом Федоровичем Жегиным и его поразительными композициями «Семья» и «Ряды апостолов».
Не знаю, были ли значимы для Клавдии Николаевны мои рассуждения, но то, что для меня был много важнее Христос, чем нечистая сила, которая нравилась большинству знакомых, было ей откровенно приятно, и у нас установились очень добрые отношения, пусть встречи наши были не так часты.
Примерно через год вышел том стихов Андрея Белого, и Клавдия Николаевна нашла меня, чтобы его подарить с трогательной дарственной надписью: «На добрую память молодому другу, Сергею Григорьянцу, с надеждой в будущем увидеть его самостоятельную работу о значении и формах слова в произведениях Андрея Белого. К. Бугаева, 1 августа 1966», а под ней – четверостишие Белого:
Киркою рудокопный гном
Согласных хрусты рушит в томы…
Я – стилистический прием,
Языковые идиомы!
(«Первое свидание»)
Немного позже я зашел к Клавдии Николаевне, чтобы возвратить папку с ее воспоминаниями, о которых она мне рассказала, но изучить которые я сразу не мог, потому что рукописи не было у нее дома – она дала воспоминания Александре Давыдовне Богословской, которая жила в соседнем подъезде. и тут же получил в подарок сборник Андрея Белого «Пепел» в переиздании «Никитинских субботников», где Клавдия Николаевна написала: «С большой благодарностью от всего сердца молодому доброму моему другу Сергею Григорьянцу. К. Бугаева, 11 марта 1967… А „автограф“ – см. дальше». И действительно, на обороте фотографии Белого была его дарственная надпись:
!Милой Лидии Васильевне
Каликиной —
– эти отзвуки
далекого прош=
лого с сердеч=
ной
лю=
бо=
вью.
От Автора
Борис Бугаев.Москва. 1932 года февраля 7-го».
Ну, и чтобы уже больше не вспоминать о подарках и автографах – однажды я принес показать Клавдии Николаевне подаренное мне Синявским издание «Котика Летаева» с авторскими правками и новым, правда машинописным, предисловием, то есть книгу, подготовленную к несостоявшемуся переизданию. Вероятно, от коллекционной жадности или чтобы сгладить неудобство от того, что не хочу ее дарить, я упомянул о том, что у меня есть и первая книга Василия Розанова с дополнениями к несостоявшемуся второму изданию, и неизданные статьи Павла Флоренского, и вообще в нашем доме очень разнообразные коллекции. Большое предисловие Белого Клавдия Николаевна знала (потом я нашел его в архиве Белого в ЦГАЛИ), и вообще книга, которой я очень гордился, ее как-то мало заинтересовала, но, когда я уходил, она сказала: «Ну, если для вас это важно, я к следующему разу подготовлю подарок – у меня кое-что случайно осталось». До этого из материалов самого Белого Клавдия Николаевна мне показывала только любопытный альбом, в который были вклеены большей частью кленовые листья в их бесконечном осеннем многоцветии, и объяснила, что Борис Николаевич всегда собирал осенние листья и их сочетания использовал в своих книгах, описывая пейзажи и делая цветовые зарисовки.
В следующий раз я пришел не так уж скоро и опять посоветоваться – готовил доклад о мемуарной прозе Белого для второй Блоковской конференции в Тарту. О чем был мой доклад, сейчас уже не припомню – не перечитывал с тех пор, но выступление с ним (хоть он и понравился Клавдии Николаевне) было чистейшим позором. Я написал довольно большую статью, примерно 2–2,5 печатных листа, то есть страниц 40 машинописных, а для доклада отводилось максимум 20 минут, но на чтение страницы уходит три минуты. Естественно, мне хватило времени на четверть или даже шестую часть текста. Мне продлевали время, я пропускал по десять страниц, из-за чего понять смысл было невозможно. Хотя все меня подбадривали, огорченный, я даже не оставил текст Заре Григорьевне Минц – жене Ю. М. Лотмана. Серьезным утешением было только то, что, уходя от Клавдии Николаевны, я получил почти без объяснений – «у меня еще где-то нашлось» – целую папку черновиков рукописей и пару рисунков Андрея Белого. Вероятно тогда же Анне Давыдовне Богословской был отдан портфель и несколько личных вещей Бориса Николаевича. Еще раньше Дмитрию Евгеньевичу Максимову была подарена посмертная маска Белого, снятая Меркуровым.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































