Текст книги "Страница номер шесть (сборник)"
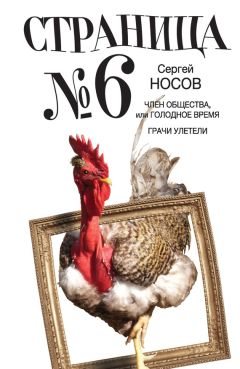
Автор книги: Сергей Носов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ,
практически эпилог
1Это все отсюда, из детства, из отрочества, из окна рейсового автобуса, когда взгляд становится цепче, а мир объемней, особенно если только что прошел дождь.
Сезонное обострение восприятия новизны по возвращении домой после летних каникул – ничего не изменилось, но все другое – даже облака, даже городские деревья. Свежие афиши на старых щитах.
С возрастом притупляется – не ждешь от прежнего ничего. Во всяком случае, ничего нового.
И все равно – ощущение возвращения всегда окрашено в цвета осени – куда бы ни было и когда.
2Сон был нехороший, пьяный сон. Будто Щукин должен похоронить у себя на охраняемом участке складной велосипед, который никакой не велосипед вовсе, а Дядя Тепа. Щукин осознает преждевременность похорон – велосипед небезнадежен, можно починить. И вот пытается натянуть на шестеренку цепь, вращая заднее колесо. Звонок на руле – сам по себе – словно от боли – издает пронзительный звук.
Разбуженная звонком голова Щукина обнаруживает себя на столе, дома, на кухне – щека прилипла к клеенке. Звонок был резок, но еще в большей степени была тяжела голова, потому и не взметнулась она над столом, потому и не подскочил Щукин. Нет, не будильник. Вечер, не утро.
Спал он недолго, минуты, быть может, четыре; краткосрочные сны зрелищными бывают (Щукину часто снится механика: шестеренки, подшипники, цепи).
Встал по второму звонку, пошел в прихожую, дверь открыл.
Небритый, в очках с разбитым стеклом, в мятом расстегнутом пиджаке – без галстука! Тоже хорош, стоял Чибирев.
– Извини. Прямо с вокзала. Домой не могу. Никуда не могу. Некуда мне идти. Все, конец одиссеи. Я у тебя переночую. Не возражаешь?
– Х-х-х-х-х, – выдыхал Щукин; Борис Петрович полагал «х-х-х-хорошо» услышать, но выдохнулось про похороны: – Х-х-х-хоронить?
– Может, впустишь?.. – спросил. – Кого хоронить?
Сторонясь, Щукин сказал:
– Завтра.
– Кого?
То ли он бормотал слишком невнятно, то ли Бориса Петровича мозг работал в дискретном режиме, только воспринималась нелепица:
– В пятницу... приказал...
– Кто приказал? Что в пятницу?
– Долго жить в пятницу. Блядь, ты глухой? Дядька Тепа в пятницу! Не знаешь?
Чибирев ткнул Щукина в плечо кулаком: трезвей, гад. Старый боксер держит удар.
– Господи, как мне плохо, – простонал Щукин.
Е-е-е, – заеекалось у Бориса Петровича, уже много лет он не позволял себе этого; сам прервал себя, сам себя испугавшись; рот скривило ему.
– Что ты, Щука? Зачем ему в пятницу? А?
– Скоротечка... как спичка... за два месяца... точка...
– Блядь, Щука, не шути. Какая течка, на хуй? Какая точка? Это у собак течка! Ты брось, точка! Я его месяц назад видел!
– А я в четверг!.. И в пятницу!.. И в среду!.. – выкрикивал Щукин; он был похож на сумасшедшего. Я сам похож на сумасшедшего, подумал Чибирев.
– Щука, он был здоров. Месяц назад. Что ты несешь, придурок? Ты сколько водки выжрал?
– Завтра. Я завтра... – К себе уходил в комнату.
Борис Петрович последовал за ним, споткнулся о пишущую машинку, ушиб ногу (и без того ушибленную), обложил Щукина матом; Щукин грохнулся на тахту, так что загудели пружины.
– Кресло-кровать... мать... Сам разбери.
И – отключился.
Да ничего Борис Петрович не собирается разбирать – ни кресло, ни кровать. Да пошел он на хуй, кресло-кровать! Что это за, еб твою мать, кресло-кровать? Блядь, кресло-кровать! Генерал-майор! Слесарь-монтажник! Массовик-затейник, блядь! Шкаф-купе, роман-блядь-газета! На хер надо кому? Чей это голос, спрашивается? Кто это спрашивает, спрашивается? Где я?» – У него онемела нога.
Не мог Дядя Тепа, не мог.
Попробовал успокоиться. Первое и главное доказательство того, что Щукин лажу нес, – немыслимость совпадения. Прямо с поезда – и хоронить. Крайне маловероятная ситуация. Борис Петрович уважал теорию вероятности. Закон больших чисел. Гауссово распределение. Линейную корреляцию. Что там еще?.. Так только один Одиссей мог вернуться в Итаку – прямо на свадьбу жены... Но довольно, довольно: конец одиссеи. Приплыл.
Из Тавриды.
В гипербореев страну.
Борис Петрович вышел на кухню, воду включил, чайник набрал, поставил на плиту, но забыл зажечь газ. Шаркая шлепанцами, вошла Антонина Евгеньевна.
Узнала:
– Боренька, здравствуй.
Боренька вежливо спросил о здоровье, хотя и помнил, что об этом нельзя – будет подробный рассказ.
Вдруг:
– Ты в Крыму был?
Знает, однако.
– Хорошо ли в Крыму?
– Очень, – сказал Чибирев. – Солнце. Воздух. Вода.
«А женщины?» Но нет – в иной формулировке:
– Со Светочкой ездил?
– Светочка – это кто, Антонина Евгеньевна?
– У тебя ж Светлана жена?
– Леночка. Лена. Да, с Еленой Григорьевной. (Не пускаться же в объяснения.) Это у Тепина была Света жена, – сказал громко Борис Петрович. – У Леонида. (Cледил за реакцией.)
– Ах да, я же помню, Света... Светлана. Тепина Светочка. В зоопарке работала. Ведь они развелись... Знаете, Боря, вы моложе меня, послушайте, что я вам скажу, избегайте, избегайте пищевых добавок, вот у меня тут записано... – Она достала листок из кармана халата. – Е двести одиннадцать...
Чибирев – аккуратно:
– Антонина Евгеньевна, вы когда Тепина видели... последний раз?
– Да вот приходил. Е двести двадцать семь...
– Когда приходил? Давно?
– Е двести сорок четыре... Давно ли? Вчера, кажется... Е триста одиннадцать...
– Точно вчера?
– Ну, может, позавчера. Для меня теперь, что вчера, что позавчера – все один день. Е...
– Е-е-е, – подхватил Борис Петрович нечаянно.
Он вернулся в комнату. Щукин спал, открыв рот и уронив руку с тахты. Его мобильник лежал на полу. Мобильник у Бориса Петровича украли еще в Феодосии. Чибирев наклонился, поднял, набрал номер Тепина. «Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Борис Петрович положил мобильник на стол.
3«Это не он».
Так утром и скажет, увидев: «Это не он».
* * *
Да и морг был тоже неправильный. Странный какой-то, неестественный морг. Относился ли морг или нет к больнице Коняшина, был ли сам по себе, было трудно сказать, потому что больница имени того Коняшина уже давно закрыта была, упразднена, расформирована, брошена, умерщвлена. Мертвые корпуса; из них лишь один был действующим, рабочим, живым, если так можно о морге. Если так можно о морге, морг доживал последние дни; скоро закроют его холодильники. Но пока еще привозили. Морг был задвинут в глубину полудвора-полусада. Идти вдоль кирпичной стены, завалившейся набок. Чибирев немного прихрамывал (на станции Жлобино он повредил ногу). Щукин, зная, куда вести Чибирева, вел туда Чибирева. Уже то Борису Петровичу подозрительным было, что мертвецкий покой, где лежат, то есть морг, и склад олифы, охраняемый Щукиным, если и не похожие друг на друга объекты, то в плане топографическом чрезвычайно близкие – располагались они от Московских триумфальных ворот примерно на одном расстоянии, только по разные стороны Московского проспекта. Та же эстетика захолустья, которую он, Чибирев, высоко ценил, но куда ни пойди, куда ни двинься – щукинские все места, не слишком ли близко одно от другого?.. Оттого, что смотрел Чибирев только вперед, он уверенным не был в себе. Недоверие и растерянность в равной мере отражались на лице Чибирева, попиравшего ногой хрустящее Просьба подождите. Гардеробщик вышел. Мало ли что может лежать на асфальте. Очки с битым стеклом Борис Петрович убрал в карман пиджака и теперь, идя, подслеповато щурился, но, в отличие от Щукина, упрямо не глядел под ноги, словно отказывался признавать реальность тем, чем она, по-видимому, все же в известной мере являлась, – ну хотя бы совокупностью зримых предметов или, во всяком случае, тех, о которые можно споткнуться.
Возможно, больница не исчезла совсем, просто переместилась куда-то, как юридическое лицо, как коллектив персонала, как совокупность методик – наконец, как идея того, чем была, как идея «Коняшина», – переименовавшись в пути; одни лишь стены остались. Был ли Коняшин врачом? Нет, не был. Он был трамвайщиком, революционером. Близрасположенный трамвайный парк – тоже Коняшина. А что до этого места, оно теперь не называлось никак.
Несколько человек стояли на воздухе, курили, Борис Петрович не вникал, кто такие. В морге он увидел Катрин в черном платье и, к своему удивлению, Свету – не потому «к удивлению», что жена она бывшая и недолгая, а потому, что не далее как вчера о ней говорил с Антониной Евгеньевной. Щукин, который как-то участвовал в организации похорон, чувствовал себя свободнее, увереннее, чем Чибирев, – обнял Свету, обнял Катрин; Чибирев, со своей стороны лепеча невнятные соболезнования, рыскал взглядом по гробам, не задерживаясь ни на одном (в морге было четыре гроба, открытые): где? – Да вот же, рядом стоят. – Этот? – Этот. Щукин взялся за край (жест прощания). «Это не он», – тихо сказал Борис Петрович, подойдя вплотную к их гробу, к его.
Чибирев знал, как меняются лица умерших, но в этом, в этом лице ничего характерного тепинского он не мог разглядеть, совсем ничего. Все принадлежало другому: нос, подбородок, форма лица, впалые виски, тонкие редкие рыжеватые волосы – или их осветлили? Зачем?.. Другой. Этот был меньше, худощавее и, главное, старше, почти старичок. Не может человек так стремительно измениться. Дядя Тепа не носит костюмов, у него нет пиджака. Зачем черный костюм на нем? «Дурят меня, что ли?» – отчетливо произнес (про себя) Чибирев.
Когда вышли на воздух, Щукин сказал, что Катрин предпочла бы кремацию. «За деревом стоит», – подумал Борис Петрович, не умея позволить себе не понять, что нигде не стоит здесь живой Дядя Тепа – ни за деревом, ни за углом котельной.
То же было в автобусе – ощущение фокуса, обмана.
Только на кладбище Борис Петрович почувствовал, как он устал, как сильно не выспался. Он даже был вынужден побороть легкий приступ зевоты, что было им тут же самим и воспринято как очередной аргумент не в пользу подлинности похорон, ибо позывы зевоты невозможны у края могилы, тем более когда опускают на ремнях гроб с телом друга. Сказал бы кто-нибудь сейчас: «Ну, хватит, ребята, пошутили, расходимся», – он бы простил им розыгрыш – казалось, что так. Но: «Землю бросайте», – и он взял глины кусок, бросил, как все.
Рядом с родителями, на Смоленском.
Композитор Ляпин открывал бутылку.
Из художников, из актуальных, не было никого. Никого, кроме Щукина и Чибирева.
* * *
– Света на поминки зовет, к ней домой, я сказал, что помянем с Катрин в персональном порядке.
(Щукин сказал.)
Хорошо.
На такси в арт-клуб, что на Литейном в подвале. Таксист включил «Русский шансон», Щукин попросил выключить. Всю дорогу молчали. Борис Петрович не мог освободиться от ощущения, что и таксист в сговоре с Катрин и Щукиным.
В сводчатом подвальном помещении заняли один из шести столиков. Вообще-то сегодня закрыто, «нет света» (авария), не работает холодильник, не тот день, короче, нельзя, но Катрин, принадлежащая к узкому артистическому кругу избранных, знала волшебное слово, возможно, пароль – их не только впустили, но дозволили сесть со своим, потому что поминки – это святое. Хозяйка принесла хлеб и рыбный салат, достала три стопки. Ушла. За отсутствием завсегдатаев не предвиделось ни дискуссий, ни горячечных монологов. Изначально Первый Гражданин Владимир Рекшан, тоже будучи исключением, медитировал здесь над чашечкой кофе, один, но Первый Гражданин был непьющ; он готовился отметить десятилетие своей абсолютной и бесповоротной трезвости; для сейчас пьющих его сейчас почти что и не было.
Правда, в первый момент, узнав его, Борис Петрович забеспокоился, не узнает ли Первый Гражданин Бориса Петровича, не подойдет ли, не спросит ли, в каком состоянии гражданский брак, не предложит ли гражданский развод. Но тот скоро ушел, так и не узнав Бориса Петровича, света не было, – был вторник, гражданский вторник, и Первый Гражданин отправлялся выполнять свой гражданский долг на Пушкинскую, 10, вход с Литовского, 53, – раздавать гражданство и заключать гражданские браки.
– Я скажу немного слов, – сказала Катрин.
Тепин. Тепин – художник. Его влияние на Катрин. В этом не стыдно признаться. Жизнь как перформанс, как непрерывная художественная жестикуляция. Жизнь как востребованный материал. Многие относятся к жизни как к художественному произведению. Дядя Тепа пошел дальше других. Его материал – собственная судьба.
– Судьба, – повторила Катрин.
Потом Щукин сказал о дружбе, о поисках смысла. Чибирев потом тоже сказал – о доброте.
Катрин брала на кладбище холщовую сумку, в ней лежал еженедельник. Сейчас Катрин достала еженедельник из сумки. «Пока светло». Это был толстый еженедельник большого формата, рассчитанный на три года – прошлый, этот и будущий. На первой странице адреса региональных офисов какой-то иностранной фирмы, но это не относится к делу. К делу относится то, что «там рука Дяди Тепы».
Чибирев подумал: наверно, дневник. Нет, рисунки. Много рисунков. На создание каждого уходило не больше двадцати секунд. Заданный принцип. Листали: каракули, все рисунки были каракулями, особого освещения не надо, чтобы понять. Так трехлетние дети истребляют книги, журналы, тетради, если им попадается в руки что-нибудь пишущее. Когда ломался карандаш, Дядя Тепа хватался за шариковую ручку, за фломастер. Двести рисунков за час. Его рука. Через час работы рука у него едва шевелилась.
Катрин сказала: «Поехали», – и вырвала из еженедельника сразу с десяток страниц. Хотела больше, но сил у нее не хватило. Щукин стал помогать. Он вырвал все страницы за четыре приема. Катрин отбирала рисунки. Лучшие. По принципу «что лучше вырвалось». Впрочем, неважно. Для их проекта это неважно.
– Борис, извини, я забыла тебе рассказать про твою фамилию! – переключилась на другую тему Катрин.
Вот что: Дядя Тепа просил передать Чибиреву. Он просил передать Чибиреву, что разузнал о происхождении фамилии Чибирев. Фамилия Чибирев происходит от слова, которое раньше означало «стакан».
– Видишь, – Щукин сказал с мрачноватой веселостью, – а ты не мог докопаться.
Борис Петрович молчал. Он знал, откуда ноги растут. Из словаря Даля. Дядя Тепа, судя по всему, заглянул в словарь Даля и обнаружил там слово «чабарка» с вариантами «чебарка», «чабарушка», «чебарушка». Но, во-первых, означает это слово не «стакан», а «чашку», а во-вторых, он, Чибирев, пишется через «и». Ничего нового. Спасибо, но мимо. Странно было Чибиреву и немного обидно, что это последнее, что хотел ему передать Дядя Тепа.
Появилась хозяйка, напомнила, что «мы уже скоро». Ушла на кухню.
Дверь в помещение, называемое «мраморным залом», была в форме гармошки; там, за дверью, было темнее, чем здесь; там, за дверью, ничего не было, перерыв был между двумя выставками. Старую демонтировали вчера, завтра будут оформлять новую.
Мысли Бориса Петровича занялись им самим, и то, что Катрин замыслила что-то, упустилось из вида Бориса Петровича. Между тем Катрин исчезла за дверью-гармошкой, следом Щукин ушел помогать. Борис Петрович увлекся рисованием невидимых восьмерок на столе пальцем. Оставаясь где был, за столом, он был должен, по замыслу Катрин, имитировать общее их здесь же присутствие, но интересоваться, куда они и зачем удалились, было некому тут, даже ему.
Борис Петрович предоставил самим себе восьмерок-невидимок и огляделся. Сумрачность и сводчатость могли бы навеять думу о склепе, но Чибирев давно потерял мысль. Очертания предметов размывались. Белеющее в глубине, потеряв родовое сходство с Вольтером, было бюстом и только, просто гипсовым бюстом кого-то, не более чем никого.
Дверь-гармошка сложилась, высунулся Щукин:
– Иди сюда.
Борис Петрович восстал тяжело, к ним перешел – в «мраморный зал». У Катрин, оказывается, был фонарик. Откуда? Как она могла предусмотреть? Или она всегда ходит с фонариком? Водила лучом по стенам – показывала. Вот они, каракули Дядины Тепины, вот: прикрепили скотчем на стены. Борис Петрович глядел.
– Выставка-паразит, – сказала Катрин.
– Поразит? – переспросил Чибирев, не будучи посвященным в суть проекта. – Кого поразит?
Более осведомленный Щукин сказал:
– Несанкционированная. Его идея.
Борис Петрович молчал. Трамвай шел за окном, рельсы были на уровне шеи.
– А ведь я сегодня дежурю, – вспомнил Щукин. – С утра. Может, еще не всю олифу украли. Надо съездить, хотя бы отметиться. Надо побыть.
– Надо побыть, – отозвалась Катрин.
Она села на пол в углу, выключила фонарик.
– Что же... ты здесь побудешь? Здесь нельзя. Пойдем, – позвал Щукин.
Твердо сказала:
– Идите.
– Тебя увидят.
– Нет, я не увижусь, – отвечала Катрин уверенно.
– Может, предупредить? Ты бы предупредила хотя бы, – беспокоился Щукин, – а то глупо получится... Вы же знакомы... Тебе разрешат...
– Уходите. Ты ничего не понял.
...Хозяйка, вернувшись, расставляла за стойкой посуду. Увидев двоих, проходящих из темного зала в менее темное помещение кафе, решила, что бродят в поисках выхода наверх.
– Направо. Идемте со мной. А ваша подруга?
Щукин пожал плечами, Чибирев руками развел (говорили жестами – сами с собой, – можно сказать, думали); Чибирев еще наступил на кота – кот сидел на ступеньке.
– Совсем ушла? Я не видела. – Дверь закрывала за ними. – Приходите на выставку финских художников. Не лезь! Не лезь, тебе говорят.
Кот, однако, – во двор, хвост трубой, и помчался к секс-шопу (был в подворотне секс-шоп).
– Стой, развратник! Назад!
Во дворе было светлее, чем в подвале, а на Литейном светлее, чем во дворе. Еще не вечер. Водка сегодня не действует. Так сказал Чибирев. Щукин согласился – на полчаса раньше, на полчаса позже он придет на работу...
В «Пышечной» взяли еще по сто грамм.
– Понимаешь, – говорил Щукин, – она хочет, чтобы мы поехали в Германию. Чтобы в Рейн поссали с моста. В день его рождения... Как тогда, здесь. Это должно быть приурочено к началу конференции... Там тема – связь двух городов, двух рек...
– Не хочу, – сказал Чибирев.
– Я тоже не хочу. Когда втроем предлагали, помнишь?.. я наотрез отказывался. А теперь... теперь не знаю. Ему бы понравилось, нет?
Чибирев сказал:
– Я к этому не готов психологически.
– Но ведь ты уже не директор школы? Или как?
– Не знаю. Надо подумать, – сказал Борис Петрович, – надо подумать.
Борис Петрович вспомнил фильм «Шоу Трумана»: не подстроен ли для него одного, как и там, весь этот мир?
Сто грамм они выпили в два приема. Щукин нашел минуту обойти фотографии, украшавшие стены. Бокс. Человеки в боксерских перчатках. «Пышечная» принадлежала, надо думать, спортсмену. Помимо бутылок на витрине стояли спортивные кубки-призы.
Они заказали еще. Борис Петрович поплыл. Он стал говорить, что недостоин. Он не говорил, чего недостоин, получалось, что недостоин всего.
– Ты не знаешь, кто я. Никто не знает меня. Я... я...
– Без художеств, – попросил Щукин, поморщившись. – Не твой день.
– Я зашел слишком далеко. Да меня, может, надо... Почему я хожу по земле?
– Не по тебе поминки, идиот! Заткнись! При чем тут ты?
– В рыло!.. Хотя бы в рыло мне кто-нибудь даст?
Щукин увидел, как взлетел чибиревский ботинок под потолок, кувыркаясь в воздухе, как спортивные кубки-призы дружно подпрыгнули, гораздо проворнее, чем бутылки, выставленные на той же витрине, – и лишь тогда понял, что выполнил просьбу друга.
Хук справа. Из положения сидя. Нестандарт.
Он уже много лет не бил никого. Он уже думал, что разучился бить. Что никогда не ударит.
Щукин встал из-за стола, отрезвев, и направился к Чибиреву, тоже быстро трезвеющему. В зале, наверное, решили, что он будет добивать лежащего на полу товарища; пронзительно завизжала буфетчица.
Борис Петрович шевелился. Челюсть вроде была на месте.
Повскакивали с мест некоторые посетители.
– Я заслужил!.. Я заслужил!.. – бормотал Чибирев, приходя в себя.
Щукин протянул руку:
– Прости, брат. Вставай, вставай, не лежи.
– Я заслужил.
– Прости, как-то само... Не хотел... Не знаю, как это...
– За дело. За дело, – повторял Чибирев.
– Сильно задело, – сказал кто-то.
Принесли ботинок. Вспомнили о милиции. Появилась посудомойка с бейсбольной битой в руках (вряд ли так, но Щукину так запомнилось).
– Убирайтесь на улицу, здесь не место!
Недоуменными взглядами посетители «Пышечной» провожали этих странных двоих, уходящих в обнимку.
На улице Щукин вытирал Чибиреву носовым платком разбитую губу, говорил, что не должен был бить, не имел права. Борис Петрович умилялся: «Спасибо, спасибо!» Говорил, что право Щукин имел.
Потом они долго стояли обнявшись. Хлопали ладошами друг друга по спине.
Потом дальше пошли.
* * *
Возле церковной ограды занимались маркетингом бизнесмены бомжеватого вида – кто-то продавал старые потрепанные журналы, кто-то резиновые сапоги, кто-то ржавые гвозди в металлической баночке из-под монпансье.
Оба сразу узнали, он их тоже узнал. Шевеля островыпуклым кадыком, он приветствовал их:
– Сеньор Сервантес! Господин Мусоргский! Да никак вы знакомы?!
Рамки. Деревянные. Можно для фотографий, можно для акварели.
– Как труды? – спросил Щукин.
То т ответил загадочно:
– Туды-сюды мои труды.
– Как пишущая поживает?
– Живет, но с другим. Ушла.
– Что значит – ушла?
– К другому ушла. С вами не бывало такого?
– Как же так? Я бы купил. Антиквариат. Я ж говорил, я ж ремонтировал... Я бы заплатил, эх вы...
– Купите рамки, недорого, червонец штука, впрочем, нет, вам бесплатно, берите...
– Почему ж, я заплачу, – Щукин достал десятку.
– Бесплатно, сказал!
– Да нет, возьмите деньги...
– Бесплатно, сказал! Не то не дам! – Он обратился персонально к Борису Петровичу. – Берите, берите, старая рамочка, заслуженная...
– Из-под Рембрандта? Или Малевича? – поинтересовался Чибирев, зло оскалясь.
– А я в командировке, знаете ли, был, – отвечал ему продавец рамок, потупив взор. – Меня не было. Теперь я Безбородко.
Раздвоенной бородки действительно не было: сбрил?.. заставили сбрить?.. – Отсюда и кадык. Как на ладони.
Кадык, кадык. Бороде кирдык.
Обрели по рамке. Борис Петрович вспомнил, как заходил еще до Крыма в магазин «Багет»; выставлялись рамки, не оскверненные картинами; просто висели на стенах. Что-то в том было, подумал сейчас. Было в том то, что ничего не было.
Щукин продел руку в рамку до самого плеча.
Рамка была небольшая, ее хватало лишь на плечо Щукина, а не на всего Щукина, и тем не менее он был в рамке; он сказал:
– Я весь в рамке.
– Содержательно, – сказал продавец.
Щукин в рамке и Чибирев перешли Кузнечный, остановились около памятника автору «Идиота». Перед пьедесталом почивал бомж, свернувшись калачиком. Здесь можно. Несколько человек пили пиво из горлышка. Здесь всегда пьют. Здесь можно и нужно. Борис Петрович знал еще два монумента в городе, обладавших тем же удивительным свойством – концентрировать вокруг себя нетрезвый люд. Это – классная голова лысого Маяковского на улице Маяковского и классический Пушкин на Пушкинской, рядом с последним, опекушинским, помнится, сиживал он с Дядей Тепой. Писателей любят у нас, они не мешают. И не мешаются.
– А еще мы с ним улицу твоим именем назвали, – сказал Щукин. – Там у меня закоулок между складами. Ты как только сбежал в свой Крым, мы там и написали на заборе: «Ул. Чибирева». А кто тебя знает, будут застраивать, может, и приживется.
– Чибирев-штрассе, – безрадостно сказал Чибирев.
– Ну, штрассе не штрассе, а все же проезд. Почти не тупик даже. Поехали, покажу.
– В другой раз, не сегодня.
– Мне все равно отметиться надо. Поехали. Там и ночуешь.
– Нет, я пойду. Я сегодня нет. Нет.
– Сдаваться пойдешь?
– Куда-нибудь.
Щукин постарался войти в положение друга:
– Можно информацию дать в газеты: «На улице Чибирева предотвращена попытка ограбления склада дверей». Жена прочтет. Вспомнит... Тебе же надо заново легитимизироваться.
– Нет, нет, я как-нибудь сам. Я еще не решил, как я буду. Еще не знаю, куда мне. Куда-нибудь. Как-нибудь сам. Сам.
Бывший каторжник, изнутри пророчествами распираемый, обреченно крючился на пьедестале. Знатоки не любят памятник, а Борису Петровичу он нравился как раз неказистостью. Ни один монумент не умеет так мерзнуть, как этот, – в стужу или во время дождя больно смотреть. Еще он способен (редчайшее качество) глядеть на свою тень. Раз в день (при наличии солнца). В печальный день девятого февраля по старому стилю, в момент, когда тень видима им самим, разве может он видеть ее просто так, без помысла и значения? Разве не примечается место внимательным взглядом? Там и надо копать, где тень головы. И копают, каждый год там копают. Но еще не нашли.
Щукин потянул Бориса Петровича за пуговицу, словно хотел поведать важное напоследок.
– Катрин рассказала, как все началось. Только сегодня рассказала, когда мы развешивали...
– Началось – что?
– Началось.
Щукин глядел в глаза Борису Петровичу. Щукин говорил:
– Они тогда были в деревне. Он лежал, загорал на надувном матрасе, рядом курицы ходили, сад, огород. У него на боку родинка. Курица подошла и клюнула. Подумала, что это зерно. Сгорел за два месяца. Вот.
– Молчи! – Сказал Чибирев.
Борис Петрович протянул Щукину руку, пожал и, не сказав больше ни слова, пошел к входу в метро. Он не хотел верить в такое, не хотел думать об этом. Возле турникета стоял мент, Борис Петрович шел прямо: лучше, конечно, не встречаться глазами, но он не боится, он все равно никого не боится. Щель для жетона оказалась уже обычного, не попадало. Пришлось – и тоже не с первого раза, потому что правая рука была занята метрожетоном, а в левой рамка была, – достать кожаный чехол из кармана пиджака, расчехлить очки, разбитые в драке под Феодосией, и надеть, как получится, на нос. Он ощущал себя под прицелом милицейского взгляда. Щель для жетонов наконец приняла необходимую жертву, добро пожаловать в подземное царство. Ночь, улица, фонарь, АПТЕКА... Все для человека! – выплывало из глубины – с указанием аптечного адреса. Должно быть, ночная. Сочинить про фонарь и аптеку, чтобы через сто лет отозвалось – буквально из-под земли – загробным призывом воспользоваться услугой... Актуальный образ бессмертия. Бориса Петровича словно водой окатило. Поравнявшийся только что с ним и теперь ускользающий наверх, был Дядя Тепа. Он вез гладильную доску.
– Тепин! Тепин! – закричал Борис Петрович, опомнившись. Обернулись женщина и старик. – Тепин, стой! – кинулся наверх, влекомый вниз, и – задохнулся.
Самое глубокое метро на планете.
Вниз побежал. Перебежал на другой эскалатор.
Он торопился передвигать ногами, насколько позволяла дыхалка, а эскалатор не торопился его поднимать. Это походило на сон. Это уже давно походило на сон.
Дяди Тепы на поверхности не было – ни с гладильной доской, ни без. Щукин тоже ушел. Даже место г-на Безбородко у церковной ограды занимал кто-то другой. У Бориса Петровича не было ни жетона, ни денег. Мимо Бориса Петровича сновал незнакомый народ. Из тех, кого знал Чибирев, был только один – памятник автору «Идиота».
– Спокойно.
Борис Петрович не успел обернуться: двое подхватили его под руки и повели к машине.
– Я сам! Сам! Я сам собирался с повинной!
Дальнейшее – скороговоркой:
– Это я убил Викторию Викторовну Бланк, выпускницу педагогического университета имени Герцена, расчленил ее и закопал на горе к западу от Феодосии!
Дверь захлопнулась.
– Пых.
Кто-то сказал:
– Приехал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































