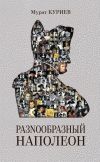Текст книги "Бородино"
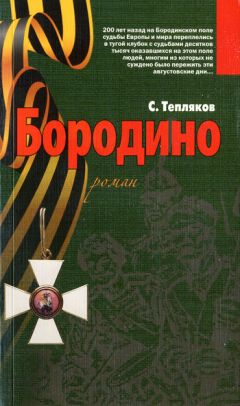
Автор книги: Сергей Тепляков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Глава пятнадцатая
Шульманова батарея оказалась последним трофеем французов, но оказалось, что обладание ею не даёт ничего. Однако поначалу Наполеон ещё не понял этого. Наоборот, он предполагал, что всё снова, как и утром, пошло хорошо: русский центр прорван, остаётся их только добить. Жаль только было беднягу Коленкура. Наполеон поморщился, представляя, каково сейчас его брату, Арману, но по привычке легко относиться к смерти, так и не смог представить. Наполеон спросил Армана Коленкура, хочет ли тот уйти? Коленкур сказал, что останется. Наполеон понимал его – от мыслей не убежать, и в палатке Коленкуру был бы так же плохо, как и на командном пункте.
Ночная простуда вроде бы прошла, вернее, Наполеон старался думать, что она прошла. Но теперь болел бок, как бывает, когда из почек просятся камни. Наполеон пытался засунуть эту боль в какой-нибудь дальний ящик своего сознания, но это получалось не всегда. Наполеон не знал, как бы устроиться – пытался ходить, стоять, сидеть согнувшись. Иногда становилось легче, почти хорошо, но потом боль накатывала так, что взгляд его обессмысливался.
Ему передали, что на редуте взят в плен русский генерал. Наполеон обрадовался – в такой битве должны же были кого-нибудь взять. Скоро привели Лихачёва. Ничего особо героического не было в этом обычном лице с мягкими губами, между тем Наполеону сказали, что при захвате батареи этот генерал со шпагой в руках пошёл навстречу французам и только чудом остался жив. Это, впрочем, было заметно: из восьми ран у Лихачёва сочилась кровь, пропитавшая зелёный мундир так, что он казался чёрным.
– Принесите мне его шпагу… – сказал Наполеон адъютантам, предвкушая момент: он решил вернуть оружие герою. С таких эпизодов обычно писались картины и Наполеон уже подумал, что надо будет заказать её Давиду: «И назвать её «После победы в битве у ворот Москвы император возвращает шпагу русскому герою» – примерно так!».
Однако со шпагой вышло нехорошо: русский отказался её брать. (По ошибке Наполеону принесли не ту шпагу и Лихачёв, когда Наполеон принялся её ему вручать, не понял, почему вдруг французский император даёт ему чужое оружие. «На службу что ли к себе зовёт?!» – подумал Лихачёв). Картина не получилась, заказывать Давиду было нечего. Наполеон обиделся – обычно все считали большой честью, когда столь великий воин, как он, возвращал шпагу в знак признания за своими противниками мужества и геройства. Русский же отказался, будто говоря, что в признании Наполеона не нуждается. «Он глупец!» – сказал Наполеон свите и некоторое время дулся как дитя. Но потом любопытство взяло своё: он начал расспрашивать Лихачёва о том, правда ли русские заключили с турками мир и есть ли вероятность, что войска, воевавшие с турками, будут теперь выведены к этому театру военных действий.
Эта беседа не так уж и занимала Наполеона – на самом деле он напряжённо ждал новостей с поля боя и разговором просто хотел скрыть свое напряжение. Он надеялся, что вот-вот приедет чей-нибудь – Мюрата или Нея – адъютант, который ещё издалека будет кричать: «Сир, они бегут! Они бегут!» Так часто бывало, почему бы так не быть и сейчас? Но адъютант всё не приезжал.
Да к тому же и штаб его, Наполеон чувствовал это, всё сильнее наполнялся недовольством. Наполеон понимал, чего от него ждут – гвардию. Призывы пустить гвардию в дело поступали ему весь день: сначала это предложил Мюрат, и Наполеон уже было согласился, но Бессьер, начальник гвардейской кавалерии, куда-то пропал, и пока его искали, решимость императора прошла. Потом о гвардии молил Ней, опрокинувший русских к Семёновскому оврагу, но уже не имевший сил, чтобы перейти его. Потом снова от Мюрата приехал генерал Бельяр, начальник его штаба.
– Сир, с нашей позиции мы видим дорогу на Можайск – по ней толпою идут беглецы и едут повозки с ранеными! Русские бегут, сир! – убеждал его Бельяр. – Достаточно одной атаки, одного приступа, чтобы решить судьбу армии и всей войны!
Бельяр ждал, что после этих его слов Наполеон сверкнёт глазами и скажет: «Гвардию в огонь!». Все вокруг ждали этого. Но приезд Бельяра как раз пришёлся на приступ боли в почках. Наполеон странно посмотрел на Бельяра и сказал:
– Ещё ничего не выяснилось. Прежде чем принять решение, я должен видеть расположение фигур на шахматной доске…
Бельяра поразили тусклые глаза императора, его тихий, без обычной энергии, голос, и страдальческое выражение лица. Вернувшись к Мюрату, Бельяр сказал, что гвардии не будет и император не похож сам на себя. Узнавший об этом Ней проскрежетал: «Что он делает в тылу? Оттуда он не видит наших побед, ему докладывают только о поражениях. Если он больше не генерал, а только император, если он устал, пусть едет в Париж, мы справимся без него!»…
Потом императору стало легче. Поняв, что гонец с известием о бегстве русских не приедет, Наполеон решил, наконец, покинуть Шевардино и подъехать ближе к полю боя. Он поехал вдоль всей линии – от флешей к кургану, откуда видны были русские войска и последнее остававшееся у них укрепление – редут у деревни Горки. Императору так хотелось подъехать поближе к русским боевым порядкам, что один из генералов в конце концов просто взял его за руку и утащил из передовых стрелковых цепей.
Лошади императорской свиты пробирались через горы мертвецов. Наполеон иногда замечал кого-то из них. Вот русский знаменосец, завернувшийся в знамя и вроде бы ещё живой. Император приказал поднять его, чтобы спасти храбреца, но в тот самый момент, как к нему прикоснулись, он выдохнул в последний раз и умолк навсегда. Мёртвые и раненые лежали так тесно, что лошадям при всей их осторожности было трудно выбирать путь. Когда чья-то свитская лошадь наступила на ещё живого солдата и тот закричал, Наполеон вышел из себя.
– Кто там ездит по людям? – прокричал он.
– Сир, лошадь оступилась, но это всего лишь русский… – отвечал ему один из штабных.
Наполеон вскипел:
– Русский или француз, я хочу, чтобы с поля вынесли всех раненых! – прокричал он.
Штабные недоуменно переглянулись – что с ним? А с ним и правда творилось неладное. Наполеон вдруг понял, что не победил, а значит с этой битвой не кончилось ничего, а как бы даже не заново началось. Не приходится ждать наутро парламентёров с предложением мира – как бы вместо этого не начался завтра новый бой.
– Вы предлагаете мне пустить в дело гвардию? – спросил Наполеон, глядя на Бертье, хотя как раз он-то ничего не предлагал. – Но с чем тогда я буду сражаться завтра?!
Бертье подумал, что его повелитель не в себе и промолчал.
Глава шестнадцатая
Николай Муравьёв медленно ехал по полю боя, вглядываясь в лица лежавших повсюду мёртвых и живых. Час назад приехал в Горки, где Муравьёв состоял при Главной квартире, адъютант Беннигсена Голицын по прозвищу Рыжий и, показывая на кровь на своей бурке, сказал, что это кровь Михайлы Муравьёва, который рядом с ним был сбит ядром с лошади. Николай, хоть и удержался на ногах, но понял, как женщины на балу лишаются чувств.
Александр Муравьёв, состоявший при Барклае, был тут же. Оба сразу отпросились у своих начальников и поехали искать брата. Это был как раз тот момент, когда после захвата Шульмановой батареи потоки французской конницы вырвались на простор и столкнулись с русской гвардейской кавалерией. Николай оказался как раз на середине поля, на которое с одной стороны въезжали русские, с другой французы. Но настолько ему безразлично было всё, кроме жизни брата, что он даже не почувствовал страха. Тысячи людей рубили друг друга вокруг него, а он лишь смотрел на них с недоумением – чем они занимаются? Он и правда вдруг перестал понимать этот мир.
После он поехал на русский левый фланг и ходил там по полю, заглядывая в лица мёртвым и раненым. Он видел издалека каре Храповицкого, а французские кирасиры ехали мимо, удивлённо глядя на русского офицера – и снова ему даже в голову не пришло, что он может быть убит или взят в плен. И здесь он не нашёл Михаила. Тогда он отправился в Татарки, на перевязочный пункт, и там искал его, снова заглядывая в лица и пытаясь узнать родной голос в стонах и криках. В Татарках встретился он с Александром, который тоже нигде Михайлу не отыскал.
– Что же мы отцу-то скажем? – проговорил Николай. Александр не ответил ничего. Оба вернулись в Горки. Глядя на их лица, никто не решился спрашивать, чем кончились поиски – и так было всё ясно.
Невидящими глазами Муравьев 2-й смотрел на поле битвы. Рядом с ним смеялись люди – «как можно смеяться сейчас?» – подумал Муравьев и повернулся посмотреть, над чем смеются. В кругу офицеров стоял молодой человек с модно причесаными золотыми волосами и в очках, в чёрном мундире с золотыми эполетами и аксельбантом, и с высокой медвежьей шапкой в руках.
– Эта шапка чуть не стоила мне жизни! – взахлёб рассказывал молодой человек. – Утром подъехал ко мне офицер и говорит, что только что остановил казака, который уже разогнался на меня с пикой! «Ишь, – говорит, – куда врезался проклятый француз!». А потом, уже после того, как по всей армии известили, что в плен взят Мюрат, ехал я с Бибиковым, а навстречу нам офицер, и спрашивает Бибикова: «Слышал ты, что взят в плен Мюрат?». Тот говорит: «Слышал». А он: «А это ты кого ведёшь?». Он решил, что я француз!..
Все захохотали. Хохотали тем громче, что понимали, что имеют право на этот хохот: день кончался, а русская армия была жива, она выстояла, и хохочущие над рассказом Вяземского (а это был он) офицеры, и сам Вяземский понимали, что вот так и ведут себя в конце такого страшного дня непобедимые герои: шутят и хохочут. Они хотели бы, чтобы их хохот донесся сейчас до Наполеона, потому что знали, что он прозвучит для него пострашнее орудийной канонады. «Мы живы! – говорили эти люди самим себе и всему миру вокруг. – Мы живы, Господи!»…
Вяземский, улыбавшийся всем сквозь очки, думал сейчас, как же это он остался жив весь этот день? Под ним были ранены две лошади, и после того, как пуля попала в первую, он испытал вдруг какую-то радость: как же – вот и он теперь обстрелянный офицер! Правда, тут же он спохватился и сказал себе, что ранена-то лошадь, а не он, но сразу и утешил себя тем, что и он был в опасности, и он мог быть ранен. «Даже и пусть бы меня ранило! – подумал Вяземский, но тут же ему стало боязно, и он прибавил: – Только уж как-нибудь так, в руку или ногу, навылет, не тяжело, а только чтобы закалилась на мне память о Бородинской битве».
Ему, однако, повезло – за весь день его не ранило ни разу. (А вот тот самый Бибиков, который дал ему вторую лошадь и о котором он сейчас рассказывал, был потом послан с приказом к принцу Евгению Виртембергскому и там потерял руку: показывал принцу направление атаки рукой, которую тут же оторвало ядром. Бибиков, клонясь с лошади, снова показал принцу, куда идти – только уже другой рукой. Вяземский про это несчастье товарища ещё не знал).
Муравьёв смотрел на Вяземского и завидовал ему. Он тоже хотел бы так стоять сейчас и рассказывать истории о своих подвигах, пусть и привирать – на то и война. Но мысли о брате Михайле не отпускали его. «Зачем же ты напросился с нами? – думал Николай. – И зачем мы взяли тебя?»… Сбоку вдруг произошло движение. Николай повернулся и увидел Кутузова и вокруг него почти всех генералов, в том числе и Барклая. Все то и дело смотрели в зрительные трубки вдаль. Тут Муравьёв подумал, что уже давно не атакуют французы, а только палят из пушек. Иссякла, стало быть их сила?
Кутузов подозвал к себе адъютанта и стал диктовать ему, громко, так, чтобы слышали все вокруг:
– Пиши Дохтурову приказ: «Я из всех неприятельских движений вижу, что он не менее нас ослабел в сие сражение, и потому, завязавши уже дело с ним, решился я сегодня все войска устроить в порядок, снабдив артиллерию новыми зарядами, завтра возобновить сражение с неприятелем!»…
При последних словах штабные загудели радостно. Муравьёв тоже почувствовал какое-то удовольствие – а обломал Наполеон зубы об русскую армию, и об него, Николая Муравьёва, тоже выходит, обломал. И об брата Михайлу – тоже… «Надо будет вечером, пока видно, поехать его снова искать. Иначе завтра будет битва – затопчут совсем»…
Глава семнадцатая
Михаил Муравьёв в этот момент лежал в телеге, которая по Новой Смоленской дороге везла его в Можайск. Он был так слаб, что даже когда увидел знакомых ему слуг, не смог подать голос.
Его ранило ещё днём, когда Беннигсен, в свите которого состоял Михаил, приехал на Шульманову батарею. Батарею и подступы к ней занимала дивизия Лихачёва, погибавшая под огнём. Беннигсен сумрачно смотрел на всё вокруг: ядра сыпались на русскую пехоту даже без секундного перерыва. Беннигсен со своим штабом остановился перед войсками и стал заниматься пустяками – смотрел в трубу на французскую сторону, что-то выглядывал по карте. Все знали, что это пустяки, и он знал, и офицеры, и солдаты. И все понимали, почему он это делает – чтобы показать, что в этом месте можно жить.
Денис Давыдов, видевший Беннигсена в сражении при Прейсиш-Эйлау, записал: «Среди бури ревущих ядер и лопавшихся гранат, посреди упадших и падавших людей и лошадей, окружённый сумятицею боя и облаками дыма, возвышался огромный Беннигсен, как знамя чести». Ледяное хладнокровие было у Беннигсена от природы, да ещё и вытренировано за долгие годы службы, начавшейся ещё в Семилетнюю войну, когда Беннигсену было 14 лет. Беннигсен держался так, будто ничего этого – непрерывно сыплющихся вокруг ядер, взрывов, криков раненых и погибавших, запаха пороха и особенно густых паров крови – нет вокруг. Только взгляд у него стал жутким – это были те же глаза, в которых император Павел прочёл когда-то свой приговор. Внешне же он вёл себя так, как вёл бы себя на берегу тихой реки, любуясь на закат.
Поэтому когда в его свиту ухнуло ядро, разорвавшись где-то за спиной Беннигсена, он только медленно повернулся и глянул назад краем глаза, будто и неважно было, кто уцелел, а кто нет.
Именно это ядро попало в грудь лошади Михаила, и пробив всю тушу, выскочило через левый бок, ободрав мясо с бедра Михаила так, что видна была кость. Муравьёв отлетел с падавшей лошади в сторону. От всего – от раны и удара об землю – он впал в беспамятство. Придя в себя, Михаил долго не мог понять, где он и что за люди лежат вокруг.
«Да это мертвецы! – подумал он, он совершенно не помня того мгновения, когда под ним убило лошадь и ещё не чувствуя боли. – Но я-то почему среди мертвецов? Я-то живой! И что с моей лошадью?»..
Он с удивлением посмотрел на свою лошадь, лежавшую неподалеку, не понимая, почему она лежит и что с ней. Тут Муравьёв попытался встать и сразу же страшная боль ослепила его и повалила на землю. «Так я ранен… – подумал Михаил. – Слава Богу!». Он увидел свою ногу в крови, разглядел даже белеющую кость, но даже это совершенно не напугало его. Вместо ужаса он вдруг почувствовал странное удовольствие: у него теперь был законный повод оставить армию. «Неужели всё это наконец-то кончится для меня? – думал Муравьёв, не веря своему счастью. – Да даже если и помру – лишь бы кончилось. Нет сил, нет сил».
Он поднял голову от земли. Неподалёку от него сидел на лошади Беннигсен.
– Ваше высокопревосходительство! Ваше высокопревосходительство! – как мог «закричал» Муравьёв.
Беннигсен по счастью услышал эти странные звуки, несшиеся откуда-то снизу и удивленно посмотрел туда. Он встретился глазами с Муравьёвым и Муравьёв вдруг неожиданно для себя разглядел в глазах старого генерала жалость и сочувствие. Беннигсен из седла наклонился к своему офицеру.
– Господин генерал, прикажите вынести меня… – проговорил Муравьёв.
Беннигсен огляделся по сторонам и махнул рукой стоявшим рядом солдатам. Четверо из них подошли, положили Муравьёва на шинель и понесли его. Муравьёв в этот момент мало что видел и уже мало что понимал. Он только знал, что в этих солдатах его спасение и решил дать им свой последний золотой, чтобы они не бросили его где-нибудь, а все-таки донесли до Татарок – там и лазарет, там и овин, куда вечером наверняка вернутся братья.
Однако едва они вышли из огня, солдаты положили его на землю и собрались уходить. Муравьёв достал свой золотой и проговорил: «Братцы, не оставляйте меня»… Солдаты мрачно смотрели на него. За то время, пока они находились под огнём, поначалу они одурели от постоянного страха смерти, на подавление которого приходилось отыскивать всё больше сил. Потом все чувства – страх, желание жить, – притупились, и сейчас даже сочувствия к этому мальчику не было: умрёт одним больше – ну и что? Даже золото не действовало на них. Им тоже хотелось, чтобы всё поскорее кончилось. Без слов трое пошли прочь. Муравьёв видел, как они бросили ружья и понял, что этим уже всё равно – не все могли заставить себя снова вернуться в пекло. Один из солдат взял червонец и всё же остался.
– Сейчас, барин… – сказал он и куда-то ушёл. Муравьёв, приподнявшись на локтях, смотрел на поле боя. Его поразило, что над правым флангом сияло солнце, в то время как центр и левый фланг были накрыты черными тучами порохового дыма, и там было темно, как ночью, разве что в центре горело Бородино. Эта картина казалась Муравьёву именно картиной, будто он не лежал сейчас в самом её центре с разбитой ногой, а смотрел на всё это в зале галереи.
Тут пришёл солдат, тащивший на себе крестьянскую телегу. Он кое-как поднял на неё Муравьёва и повёз, впрягшись в оглобли. Добравшись до Новой Смоленской дороги, солдат без слов ушёл, оставив в телеге и своё ружьё. Михаил с трудом приподнялся. Мимо шли люди. Лица у них были усталые и потерянные. Они вряд ли знали, куда именно идут – лишь бы подальше от мясорубки. (Именно эту картину видел издалека просивший у Наполеона гвардию генерал Бельяр). Михаил пытался просить о помощи, но река людского отчаяния текла мимо. Вдруг Муравьёв увидел в толпе едущую коляску и в ней человека в фартуке, ещё утром, видимо, белом, а теперь пропитанном кровью. Муравьёв понял, что это один из лекарей.
– Помогите! Помогите! Ради Христа! – закричал он, приподнимаясь. Лекарь то ли услышал, то ли увидел его, он смотрел на Муравьёва, но будто мимо.
– Я адъютант генерала Беннигсена! – прохрипел Муравьёв, и эти слова, сказанные им неизвестно для чего, вдруг подействовали – что-то проснулось в лекаре и он велел кучеру остановить.
– Что у вас? – спросил лекарь, подойдя и заглянув внутрь телеги. Муравьёв пытливо смотрел на его лицо, пытаясь прочитать на нём свой приговор. Лекарь поморщился, вынул из кармана какую-то тряпку и перемотал ею рану Муравьёва. После этого лекарь, не сказав больше ничего, ушёл. Михаил из последних сил удерживался на бортике телеги, надеясь, что или он заметит знакомых, или они – его. Вместо этого его голову заприметил какой-то поручик.
– Вы только представьте, наш полк отбил сегодня три атаки французской кавалерии! – заговорил он, подходя в Муравьёву. Муравьёв почувствовал запах вина и понял, что поручик пьян. – Как они шли на нас! И как потом улепётывали!
Поручик с размаху сел на телегу, придавив Михаилу раненую ногу. Михаил взвыл, но поручик не обратил на это внимания.
– Что вы делаете! – проговорил Муравьёв сквозь стиснутые зубы.
– А что ж! – отвечал поручик, не понимая вопроса. – Я такое же право имею на эту телегу, что и вы! Да вот – выпейте за здоровье моего полка! Или за упокой – уж не знаю, сколько там нас осталось!
Тут поручик хмельно заплакал. Муравьёв, которому было уже всё равно, отпил из предложенной бутылки и от раны, от усталости, от голода, мгновенно захмелел. Как в тумане он слышал какие-то рассказы поручика. Как в тумане видел, что поручик, разглядев, наконец, что его собеседник ранен, вдруг вскочил, начал шарахаться по дороге, потом остановил телегу с ранеными и заставил привязать к ней оглобли муравьёвской телеги. Составив этот поезд, поручик посчитал свой долг человеколюбия выполненным и махал Муравьёву вслед рукой с бутылкой.
Через какое-то время Муравьёв увидел знакомых ему людей, но от слабости и опьянения не смог ни окликнуть их, ни попросить, чтобы его телегу отвязали. Так он приехал в Можайск. Там его вытащили из телеги и положили на дороге, как тысячи других раненых. По дороге то и дело ездила артиллерия и другие повозки, и Михаил, иногда приходя в себя, думал, что надо бы отодвинуться, иначе задавят – и не отодвигался. Вечером какой-то ополченец, разглядев его юное лицо, пожалел Муравьёва, затащил в какую-то избу и подложил ему под голову пучок соломы. В избу то и дело кто-то заглядывал, но стоило Михаилу подать голос и попросить помощи, так человек сразу исчезал. Михаил понял, что уже скоро в эту избу придёт за ним смерть. «Да всё равно… – подумал он. – Всё равно». Мрачное торжество наполнило его – он умирает в бою. «Об этом и мечтали»… – вдруг подумал он, хотя и понимал, что в мечтах смерть была наряднее – не в грязной избе, не на полу среди тараканов.
Спасло Михаила одно из тех чудес, которые часто бывают на войне: одним из тех, кто заглянул в его избу, был знакомый человек, урядник лейб-казачьего полка Андрианов. Он накормил Муравьёва и по его просьбе написал на дверях избы «Михайла Муравьёв» – так Михайла надеялся дать знать о себе другим знакомым. Расчёт не подвёл: один из товарищей его брата Александра увидел надпись, отыскал подводу и отправил Михаила в Москву. Трясясь в телеге посреди широкой обозной реки, Муравьёв все вглядывался в лица, и вдруг увидел среди них знакомое.
– Хомутов! Хомутов! – захрипел он. Подпоручик Хомутов подъехал, будто не узнавая Михаила.
– Хомутов, это я, Михайла Муравьёв! – проговорил Михаил, во все глаза глядя на Хомутова, который, казалось Михаилу, был не в себе. – Скажи братьям, что я живой. Меня везут в Москву. Скажешь?!
– Скажу, – вроде бы ясно и осмысленно ответил Хомутов. – А что с тобой?
– Ранен, как видишь, – ответил Михаил, облегчённо падая на дно телеги. Он думал, что теперь всё будет хорошо. Но его лицо и вид его изувеченной ноги почти сразу потерялись в памяти Хомутова среди тысяч других страшных картинок, виденных им за эти два дня. Только 28-го августа, встретив Александра Муравьёва, Хомутов вдруг вспомнил, что у него к нему есть дело.
– А ведь я видел вашего брата, он живой, его везли в Москву… – проговорил Хомутов. Александр, который все эти дни вместе с Николаем искал младшего брата сначала на Бородинском поле, а потом – в обозах отступавшей армии, по крестьянским избам, на дороге в Можайске среди раздавленных телегами и пушками раненых, в стогах, где раненые пытались согреться и умирали, ослабев, от ночного холода, а то и сгорали, не в силах выбраться, видевший за эти дни смерть в самых разных и страшных её видах, смотрел на Хомутова и молчал. Он не знал, что говорить, не понимал, как Хомутов, виденный им за эти дни несколько раз, мог забыть такое, и одновременно понимал прекрасно – сколько всего и он сам забыл из того, что, казалось, не забудется никогда.
– Хомутов, если вы ещё раз увидите где Михайлу, отрежьте себе что-нибудь, вот хоть палец – тогда-то вы вряд ли забудете мне о нём рассказать! – в сердцах сказал Александр.
– Бросьте, Муравьёв, я так устал, что даже если мне отрежут все пальцы, я всё равно не вспомню, по какому это было поводу… – усмехнулся Хомутов. – Не гневайтесь. Главное, что он жив и на Бородинском поле кавалерией, как другие, не затоптан. Уверен, вы его найдёте…
– Непременно найдём… – отвечал Александр, чувствуя, как ему впервые за эти дни становится легче. Он даже улыбнулся. – Если из такой битвы спас его Господь, так не для того же, чтобы он умер на дороге. Ведь так, Хомутов?
Хомутов, хотя и были у него на этот счёт свои мысли, кивнул. Если людям хочется верить в чудо, не надо им мешать…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.