Текст книги "Ритуалы"
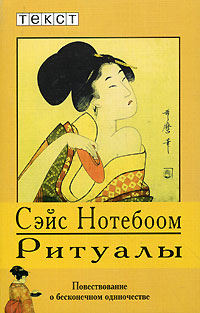
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
9
Как-то раз, через пять лет после первой встречи с Филипом Таадсом, ему позвонил Ризенкамп. За эти пять лет они тоже неоднократно виделись, и частенько предметом их разговоров был Таадс.
– Господин Винтроп, – сказал по телефону Ризенкамп, – думаю, время пришло. На аукционе у Друо я недорого приобрел кое-что особенное для нашего друга Таадса, хотя и сомневаюсь, по карману ли ему это. Он сейчас придет ко мне посмотреть, может быть, и вы хотите присутствовать?
– Чаван! – спросил Инни. Он свой урок затвердил.
– Классический акараку. Чудо.
– Иду, – сказал Инни.
Вечный повтор событий. Он шел от Принсенграхт и с моста, пересекавшего Спихелграхт, сразу увидел Таадса – сиротливую фигуру под дождем. Огромная печаль охватила Инни, но он решил ни в коем случае не показывать виду. Как бы там ни было, они все же подошли к финалу этой дурацкой истории. Осенний ветер гнал по тротуару лохмотья рыжих и бурых листьев, и казалось, будто Таадс, несмотря на дождь, стоит в зыбком, подвижном пламени. Впрочем, дождь ли, пламя ли – его это не трогало. Он стоял точно изваяние, не сводя глаз с чашки в витрине. Инни стал рядом, но не сказал ни слова. Чашка была цвета палых листьев, всех палых листьев разом, а блеском напоминала засахаренный имбирь, сладкий и горький, резкий и мягкий, – роскошный пожар минувшего. Широкая, едва ли не грубая, она казалась нерукотворной, просто возникшей в незапамятной древности. От черной чашки веяло угрозой, в этой ничего подобного не было и в помине, не было здесь и мысли о том, что вещи способны существовать, только если их видят люди, – коли для вещей возможна нирвана, то эта чашка раку погрузилась в нее многие зоны назад. Инни догадался, что Таадс робеет войти внутрь. Искоса глянул ему в лицо: еще более восточное и замкнутое, чем когда-либо, но в глазах пугающий огонь. Отведя взгляд в сторону, Инни увидел антиквара, который из магазина смотрел на Таадса, как Таадс на чашку, – точь-в-точь как на старинных чертежах, поясняющих принцип перспективы, он мог провести линию от себя к Ризенкампу, от Ризенкампа к Таадсу и от Таадса к чашке.
Кто-то должен был разрушить эти чары. Инни легонько тронул Филипа Таадса за плечо:
– Давай зайдем.
Таадс не посмотрел на него, но покорно пошел следом.
– Ну, господин Таадс, – сказал Ризенкамп, – я ведь нисколько не преувеличил, верно?
– Мне бы хотелось взять ее в руки. Крупная фигура антиквара наклонилась над витриной и бесконечно бережно извлекла оттуда чашку.
– Та-ак, я поставлю ее на столик, там самое выгодное освещение.
Когда чашка водворилась на столике, Таадс шагнул ближе. Инни ждал, что он возьмет ее в руки, но до этого было еще далеко. Таадс смотрел, что-то бормотал, обошел вокруг столика, так что Инни и антиквару пришлось посторониться. В нем есть что-то и от охотника, и от зверя, на которого идет охота, подумал Инни, он сразу и охотник, и жертва. Вот, все-таки протягивает руку. Палец легонько коснулся наружной поверхности и очень медленно, будто страшась совершить святотатство, исчез внутри. Никто не проронил ни слова. Затем Филип Таадс неожиданно схватил чашку обеими руками и поднял вверх, как для причастия. Поднес основание к самым глазам и открыл рот, точно собираясь что-то сказать, но промолчал. И осторожно поставил чашку на столик.
– Ну, так что же? – спросил Ризенкамп.
– Думаю, Раку Девятый.
– Почему?
– Потому что чашка довольно светлая, – сказал Таадс. – Хотя для вас это, конечно, не новость. Она не из числа его шедевров, ибо, насколько мне известно, они все черные. И штемпель круглый, стало быть, вероятно, это один из двухсот чаванов, которые он создал по случаю смерти первого Раку, Чодзиро.
Он взглянул на Ризенкампа – тот едва заметно кивнул.
– Чодзиро, – продолжал Таадс, теперь больше обращаясь к Инни, – перенял свое искусство у Рикъю, величайшего чайного гения всех времен. Видишь ли, цвет чашки должен был оттенять странную зелень японского чая… и касательно формы тоже действуют законы, установленные Рикъю, – как чашка ложится в руку, соразмерность, ощущение на губах, – он поднес чашку ко рту с видом человека, примеряющего обувь, – и, разумеется, температура: напиток в чашке должен казаться руке не слишком горячим и не слишком холодным, в точности таким, каким его хочется пить… Я выдержал экзамен? – неожиданно добавил он.
– Все, что вы говорите о происхождении, у меня вот здесь. – Ризенкамп помахал конвертом. – Вам бы следовало стать антикваром, вы подкованы гораздо лучше меня.
Таадс не ответил. Обхватил чашку узкими ладонями.
– Я хочу иметь ее, – сказал он.
Инни понял, что сейчас речь неминуемо пойдет о деньгах, и отвернулся от этих двоих. Таадс с Ризенкампом исчезли в конторе. Ненадолго. Когда они вышли, лицо у Таадса было пустое, потерянное. Он получил то, что хотел, подумал Инни, по опыту зная, что это не всегда приятно. Таадс начал заворачивать чашку в принесенную из конторы тончайшую бумагу. И ничего не говорил.
– Ради такого торжественного случая я положил в морозильник бутылочку шампанского, господин Таадс, – сказал Ризенкамп.
– Очень мило с вашей стороны, господин Ризенкамп, но от меня сегодня проку мало. Однако ж буду очень рад, если вы разопьете шампанское вдвоем. В скором времени я приглашу вас к себе, выпить чаю из этой чашки. Надеюсь, вы оба придете. – Он церемонно с легким поклоном пожал каждому руку и исчез. Сквозь стекло витрины они видели, как он идет – индонезиец-прохожий с коробкой.
– Забрал свое чадо, – сказал Ризенкамп. – Вы знаете, я почему-то совсем не рад. Сколько лет он приходил сюда – и вот свершилось, так быстро, в сущности, даже уныло, нет, не по душе мне это. Может, воспитание виновато, но я чувствую себя Иудой.
– Иудой?
– Да ладно, чепуха. Но мне будет его не хватать.
– Так он, наверно, еще заглянет.
– Вряд ли. Все эти годы он желал только одного – и получил. Теперь ему желать нечего. По крайней мере от меня.
– Кстати, об Иуде… сколько стоила эта чашка?
– Цифра с четырьмя нулями. Он, как говорится, всю жизнь копил на нее. И принес деньги с собой.
– Точную сумму? Он же не видел чашки? Не знаю, было ли у него что-то сверх этой суммы, но отсчитал он ровно столько, сколько я запросил.
Четыре нуля, подумал Инни. От десяти тысяч до девяноста. Конкретную цену Ризенкамп не говорит, а расспрашивать незачем. Всегда найдется кто-нибудь, кому известно, за какие деньги чашка была продана у Друо, остальное нетрудно вычислить – это и есть Иудина доля.
– Я не откажусь от бокальчика шампанского, – сказал он.
– Любопытно, когда нас пригласят на чайную церемонию, – заметил Ризенкамп, наполнив первый бокал. – Вы как будто бы уже раз в ней участвовали?
Инни отрицательно покачал головой.
– Не так уж оно и сложно, – сказал антиквар, – если помнить, что это означает для японцев. Ясное дело, все до крайности ритуализировано.
– И очень утомительно. Если не ошибаюсь, нужно все время сидеть на пятках?
– В конце концов об этом забываешь. Но для западника поза, конечно, нелепая. И надеюсь, сия чаша, вернее, чашка нас минует. Учитывая, что он изучил все до тонкости, наш одинокий друг.
Инни думал о Таадсе, который вместе с чашкой уединился в своем высокогорье, и попытался представить себе, о чем он размышляет, но безуспешно.
10
Через неделю-другую пришло приглашение. Коротенькая записка гласила, что Инни и Ризенкамп приглашены на чай и что, коль скоро с их стороны не последует никаких известий, он ждет их в такую-то ноябрьскую субботу, которая выдалась крайне ненастной, со штормовым ветром и градом, но даже природа, казалось, была не властна над владениями Филипа Таадса, ибо тишина у него на верхотуре более чем успешно спорила с ветром, который бился в окна. Что-то в комнате изменилось. Произошли какие-то незаметные передвижки, и, если приглядеться, помещение от этого стало асимметричным. Какемоно с цветами исчезло, зато вместо нарисованных были теперь живые цветы, хризантемы, темно-лиловая и золотистая – краски осени и предрождественской поры. Церемония состоится не посередине комнаты, а правее, в углу, где на маленькой конфорке кипел бронзовый чайник. На месте какемоно с цветами висел теперь свиток поменьше, украшенный каллиграфическими иероглифами. Глядя на них, Инни невольно подумал о проворном лыжнике, запечатленном в головокружительном спуске по снежному склону.
Таадс, оставивший дверь приоткрытой, явно был где-то за ширмами. Ризенкамп внимательно посмотрел на каллиграфический свиток, потом опустился коленями на циновку перед конфоркой – там лежали наготове две маленькие подушечки. Жестом он предложил Инни последовать его примеру.
– Дело принимает нешуточный/оборот, – сказал Инни. – И долго ли нам этак сидеть?
Антиквар не ответил и закрыл глаза. О, если б сейчас кто-нибудь их увидел! Ризенкамп был на сей раз в костюме из исчерна-серой фланели. Большие руки спокойно вытянуты на коленях, так что из рукавов чуть высовывались манжеты, застегнутые довольно крупными золотыми запонками в стиле модерн, с темно-синими вставками полированного лазурита. Тот же цвет повторялся на шелковом галстуке, составляя резкий контраст с блекло-розовой сорочкой. Джермин-стрит, на глаз прикинул Инни. А туфли от Эйджи. В Лондоне много аукционных фирм. Сам он на всякий случай облачился в просторные вельветовые брюки и бежевую кашемировую водолазку, купленную в Берлинггонском пассаже. Двое англичан в Японии, ожидающие, что будет. Коленопреклоненные! Как же часто доводилось ему в жизни преклонять колени! На твердых скамейках, на каменных плитах, на холодных алтарных ступенях, на мраморе, на шитых золотом подушках, подле кровати в интернатском дортуаре, в темной клетке исповедальни, в углу трапезной, когда все сидели за столом, а он был наказан. Перед Непорочной Девой, перед Сердцем Христовым, перед Святым причастием, перед крестильными купелями и гробами – вечно эта надломленная поза, неестественный излом тела, знак униженности и благоговения. Он огляделся. Где еще увидишь такое – мужчины средних лет в коленопреклоненной позе перед горящей конфоркой в осажденной зимними ветрами мансарде, в амстердамском квартале Пейп? Вошел Таадс, точнее, появился из-за какой-то призрачной ширмы. Сегодня он был одет наподобие нобелевского лауреата в исчезнувшей книге – короткое кимоно поверх длинного одеяния цвета ржавчины, риза поверх альбы. Он принес чайник, где, как выяснилось позднее, была вода. Коротко поклонился – они в ответ тоже поклонились, – исчез и появился вновь, теперь с высокой цилиндрической шкатулкой черного лака. Сквозь блестящую черноту просвечивали тонкие золотые нити. Затем поочередно были принесены поднос с маленькими пирожками, осенний пожар чашки раку, какая-то длинная узкая деревянная вещица, без всяких затей вырезанная из бамбука, с чуть согнутым кончиком, будто у очень длинного пальца согнута лишь верхняя фаланга. Потом что-то вроде бритвенного помазка, сделанного из очень тонкого бамбукового побега и украшенного ажурной резьбой, а под конец широкая, несколько деревенского вида чашка и небольшой деревянный кубок на высокой ножке. Все это Таадс расставил подле себя, без сомнения на вполне определенных местах. Движения его напоминали медлительный танец, но были предельно точны. По-прежнему царила бездонная тишина. Шорох ткани, шум кипящей воды, вой ветра, и все же власть безмолвия была столь велика, что казалось, будто и предметы, назначения которых Инни не ведал, содействовали тишине, сами молчали, однако совершенством своей формы свидетельствовали, что эта тишина имеет цель. Он посмотрел на Ризенкампа, но тот и бровью не повел. Сидел совершенно неподвижно, не отрывая глаз от сухощавой, неспешно двигающейся фигуры Таадса, который сидел напротив. Шелковой салфеткой Филип Таадс протер бамбуковую палочку, у которой на сгибе была выемка, и ложку из кубка. Снял крышку с тяжелого бронзового чайника, зачерпнул немного воды, плеснул в чашку раку, обмыл там бамбуковую кисточку, или веничек, или как он там называется. Потом медленно перелил воду в более широкую и грубую чашку и простым ситцевым лоскутом насухо вытер чашку раку. Инни заметил, что он как-то по-особенному брал вещицы в руки, отводил от себя, ставил, но как именно и зачем, понять не мог, потому что при всей неторопливости все совершалось быстро и казалось одним плавным движением по длинной, причудливой трассе ритуальных препятствий, причем руки временами делали жесты балийских танцовщиц, во всяком случае, выглядели чуждыми, неевропейскими. Дважды длинная тонкая палочка нырнула в лаковую шкатулку. Инни увидел, как зеленый чайный порошок тенью дождя стек в имбирный огонь чашки раку. Затем Таадс глубокой деревянной ложкой зачерпнул кипятку, вылил в чашку и быстрыми, порывистыми движениями кисточки перемешал смесь – нет, «перемешал», пожалуй, не то слово, скорее мягко и быстро взбил. На дне чашки, которая приобрела теперь более красный оттенок, возникло пенное бледно-зеленое озерцо. И тотчас всякое движение замерло. Тишина не могла стать глубже, чем уже была, и все-таки она будто еще сгустилась, а может быть, это их погрузили в стихию более опасной, более плотной консистенции. Затем странным жестом правой руки Таадс чуть повернул чашку, которая покоилась в его левой ладони, подвинул ее Ризенкампу и поклонился. Ризенкамп тоже поклонился. Инни затаил дыхание. Антиквар дважды (дважды? или больше? Впоследствии он не сможет вспомнить, как и вообще не сможет распутать этот клубок действий) повернул чашку, поднес ко рту, сделал один глоток, другой, третий, причем с легким шумом, потом, приподняв чашку, внимательно осмотрел ее со всех сторон, таким же странным жестом, спокойно держа ее в левой ладони, вернул в определенную или воображаемую позицию и подвинул по циновке к хозяину.
Как часто, думал Инни, сам он выливал воду из церковного сосуда в золотой кубок, после чего рука священника совершала несколько легких круговых движений, и разбавленная водою кровь в золотом сиянии плясала по кругу, а затем патер одним мощным глотком всасывал ее в себя, осушая кубок. На этой тайной вечере было точно так же. Свежая вода из чайника, очищение чашки, те же манипуляции, тот же поклон, и вот уже Инни держит в руке хрупкую пламенную форму и пьет с закрытыми глазами, один глоток, другой и вот уже на третьем открывает глаза и высасывает последние зеленые капли из призрачной, красной, замкнутой бездны. Сие творите в Мое воспоминание. Как Ризенкамп, он осмотрел чашку со всех сторон, точно желая навеки запечатлеть ее форму в своей душе, потом повернул ее так, как ему показалось правильным, и подвинул Таадсу, едва ли не поспешно, будто избавляясь от некой опасности. Проделывая все это, он заметил, что Таадс не сводит с него глаз, но не знал, видит ли тот его. Лицо Таадса светилось непостижимым восторгом, словно он пребывал в еще более далеком и странном месте, нежели то, где преклоняли колени его гости.
Они поклонились. Таадс встал, как всегда, одним текучим движением, и взял ложку, крышку от чайника и чашку для грязной воды. Потом вернулся за лаковой шкатулкой и чашкой раку, а под конец за водой. Ризенкамп тоже встал, Инни последовал его примеру, с трудом, потому что затекли ноги. У него вдруг закружилась голова. Таадс подошел к ним и едва ли не оттеснил к двери.
– Спасибо, господин Таадс, это было нечто особенное, – сказал Ризенкамп.
Таадс поклонился, но не ответил. На его лице возникла улыбка, странная и далекая, словно бы подчеркнувшая все восточное в этом лице. Он больше не умеет говорить по-нидерландски, подумал Инни. Или не хочет. Ни один из них не проронил более ни слова. Таадс еще раз поклонился, на прощание. Они тоже поклонились. Дверь за ними закрылась, мягко и решительно.
11
Молча, как два вора после крупного грабежа, они спустились по длинной лестнице. Снаружи ветер встретил их шквалом града. Стиснув губы, они поспешили сквозь бурю к магазину Ризенкампа. Антиквар вывесил табличку «ЗАКРЫТО», опустил жалюзи на входной двери и налил два больших стакана ячменного виски – дым и лесной орех.
– Найдите как-нибудь время, – сказал он, и в голосе его звучала та же усталость, какую ощущал Инни, – и я подробно расскажу вам о чайной церемонии. Все эти вещи имеют свою историю и значение, их можно изучать долгие годы. – Он неопределенным жестом показал на шкаф у себя за спиной, где за стеклом виднелись ряды книг,
Инни покачал головой:
– Пока не стоит. Хорошего понемножку.
Они выпили. На улице ветер жалобно стонал в голых ветвях, град выбивал ямки в могильно-черной воде канала.
– Это была заупокойная месса с тремя участниками, – сказал Инни.
Ризенкамп посмотрел на него:
– Может быть, зря я продал ему эту чашку.
– Чепуха. – Инни пожал плечами. Его охватила безысходная печаль. О Таадсах, о судьбе, что идет своим путем, о пропащих годах и невыносимости нынешнего мира. Он взглянул на часы. Половина второго. – Пойду посмотрю, как там сегодня на бирже.
Ризенкамп засмеялся.
– Это я могу сказать вам с закрытыми глазами. – Он медленно повел рукой вниз. – Sauve qui peut (Спасайся, кто может (фр.) ).
Уноси ноги, подумал Инни и попрощался.
12
В последующие дни Инни временами одолевала охота зайти к Таадсу, но для этого тогдашнее прощание было чересчур бесповоротным. Спустя три недели ему позвонили, и он в свою очередь позвонил Ризенкампу.
– Мне звонила квартирная хозяйка Таадса. Сказала, что уже несколько дней не видела его, но особого значения этому не придавала, он вечно украдкой шастал туда-сюда, так она выразилась.
– И что же?
– Сегодня от него пришло письмо, и там было написано, что она должна позвонить мне.
– Зачем?
– Там сказано только: должна позвонить. И больше ни слова. Она спросила, не зайду ли я.
– Зачем?
Догадаться нетрудно, подумал Инни, но вслух не сказал. В трубке послышался тяжелый вздох.
– Вы пойдете туда? – спросил Ризенкамп.
– Да, прямо сейчас. А вы?
– Ладно. – Удивительно, как иные люди способны двумя слогами выразить самоуверенность целого общественного класса.. Они встретились у двери Таадса и позвонили хозяйке. Та дала Ризенкампу ключ.
– Я с вами не пойду, – сказала она, – боязно как-то.
Если у Ризенкампа и было предчувствие, виду он не подал. Решительно повернул ключ в замке и открыл дверь. Пусто, подвесные ширмы подняты, никого не видно. Лишь посреди комнаты, распавшаяся на множество кусков, лежала вдребезги разбитая чашка раку. На золотистой циновке черепки казались сгустками свернувшейся, высохшей крови.
– Здесь нам больше нечего делать, – сказал антиквар и осторожно закрыл дверь.
13
Через несколько дней после того, как они заявили об исчезновении Филипа Таадса, их вызвали в полицейский участок Аймаудена опознать труп, схожий с предоставленным описанием. Секунду-другую оба молча всматривались в синее чудовище на белой простыне, потом подтвердили: да, это Филип Таадс.
На сей раз кремировали не замерзшего, а утопленника. Вместе с Инни и Ризенкампом приехал и Бернар Роозенбоом, хотя толком никто не знал почему.
– Скажем так: отчасти я за это в ответе, поскольку послал тебя к Ризенкампу. Если я правильно понимаю, этот чаевник все равно бы покончил с собой, но по крайней мере ты не имел бы к этому касательства.
Кремация происходила в до ужаса неприглядном месте на окраине Амстердама, где ни один из троих никогда не бывал. Бернаров «лендровер» долго ехал по безлюдным серым предместьям среди больниц и фабрик.
– Не больно-то похоже на дорогу в рай, – заметил Бернар.
Кроме них, провожающих не было. Гроб стоял на возвышении, под серым покровом, с четырьмя букетами цветов – один, астры, из конторы Таадса.
– И службы нет, – пробормотал Бернар, а Инни вдруг вспомнился единственный раз, когда он видел Бернара Роозенбоома удрученным. Было это во Флоренции, много лет назад. Они плотно позавтракали у Доуни и без всякой цели бродили по городу. И совершенно неожиданно очутились возле внушительного, не слишком большого здания. «Смотри, синагога», – сказал Бернар, и они вошли внутрь. После безудержной роскоши флорентийских церквей строгость здешнего убранства радовала глаз. Пусто, всего один человек сидел поодаль, молча глядя в пространство перед собой. Ровно в пять, когда пробили часы ближней церкви, вошел еще один, в полном облачении, сел. Он тоже смотрел в пространство перед собой. «Господи, – пробормотал Бернар. – Сегодня же шаббат, а службы нет». Инни вопросительно посмотрел на него, и он объяснил: «Если не придут десять взрослых мужчин, хаззан не может начать». Повисла мертвая тишина. «И долго они так будут сидеть?» – спросил Инни и услышал в ответ: «Час». В течение этого часа его не оставляло впечатление, будто Бернар Роозенбоом прямо на глазах становится меньше ростом. В синагогу зашли было двое туристов, но, оробев, немедля удалились. Через час хаззан встал и ушел, они тоже вышли на улицу. Бернар позднее никогда не говорил об этом, Инни тоже, но он просто не знал, что сказать.
К Ризенкампу подошел человек в черном костюме, о чем-то спросил. Тот покачал головой: нет, говорить никто не будет. Щелчок – магнитофон заиграл арию из Третьей сюиты Баха. Гроб ушел вниз еще прежде, чем она закончилась. Вся церемония, если она заслуживает такого названия, продолжалась пять минут. Мир рассчитался с Филипом Таадсом. В тот миг, когда они выходили на улицу, покойный серым, мокрым снегом опустился на плечи их пальто. Единственное, чего недоставало, был голубь.
В эту ночь Инни приснились оба Таадса. Замерзший и утопленник – так они явились у окна его спальни, в приступе бессмысленного, варварского веселья, обнявшись, беззвучно крича во все горло. Инни встал, подошел к окну, за которым метались на ветру костлявые, обледенелые ветки. Стало быть, вне всякого сомнения, есть два мира – в одном Таадсы существуют, а в другом нет, и, к счастью, сам он еще находится в последнем.
On the day destined for his self-immolation, Rikyu invited his chief disciples to a last teaceremony. One by one they advance and take their places. In the tokonoma hangs a kakemono, – a wonderful writing by an ancient monk dealing with the evanescence of all earthly things. The singing kettle, as it boils over the brazier, sounds like some cicada pouring forth his woes to departing summer. Soon the host enters the room. Each in turn is served with tea, and each in turn silently drains his cup. According to established etiquette, the chief guest now asks permission to examine the tea-equipage. Rikyu places the various articles before them with the kakemono. After all have expressed admiration of their beauty, Rikyu presents one of them to the assembled company as a souvenir. The bowl alone he keeps. «Never again shall this cup, polluted by the lips of misfortune, be used by man». He speaks, and breaks the vessel into fragments.
Okakura Kakuzo, The Book of Tea
В день, предназначенный для самопожертвования, Рикъю пригласил старших своих учеников на последнюю чайную церемонию. Один за другим входят они и занимают свои места. В токонома [44]44
Специальная ниша, где выставляют произведения искусства, в главном помещении японского дома.
[Закрыть] висит какемоно – дивная работа давнего монаха-каллиграфа, гласящая о бренности всего земного. Песня чайника, кипящего на жаровне, звучит как жалоба цикады, которая скорбит по уходящему лету. Вскоре в комнату входит хозяин. Каждому по очереди он подает чай, и каждый по очереди безмолвно осушает свою чашку. В согласии с установленным этикетом старший из гостей просит затем позволения полюбоваться чайными принадлежностями. Рикъю раскладывает перед ними разнообразные предметы вместе с какемоно. После того как все выразили свое восхищение их красотой, Рикъю преподносит каждому из собравшихся в подарок один из этих предметов. Себе он оставляет только чашку. «Никогда более человек не воспользуется этой чашкой, оскверненной губами злосчастья», – говорит он и разбивает ее вдребезги.Окакура Какудзо. Книга Чая
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































