Текст книги "Запах высоты"
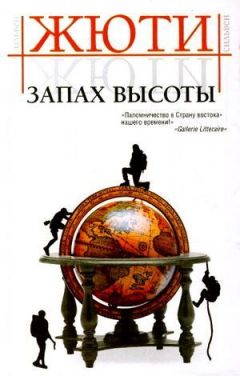
Автор книги: Сильвен Жюти
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
…Ожидание может принести успокоение и отдых.
Отдых, да. Успокоение. Уго задремал.
Это прежнее чувство – ничто никогда не сможет вернуть его; он понимает, что с каждой покоренной вершиной страстно жаждет возврата именно этого былого чувства, он ждет и будет ждать его, пока смерть не погасит эту жажду, и что, куда бы он ни поднимался – от Эвереста и до самой скромной альпийской горушки, – в глубинах его души, на самом дне его сердца всегда подспудно жила глухая надежда, что оно наконец вернется. Ощущение высоты – это не запах, нет; это – детские воспоминания, жгучая бесконечная ностальгия – тоска по простору, гармонии, разнообразию огромного мира, жить в котором, просто жить, было бы слишком мало.
Утром все так же сыплет снег. Уго пьет чай. Ничего не поделаешь: больше заняться нечем. Уго спит и мечтает, стараясь не слишком задумываться. Но на него неотрывно смотрят пустые глаза двоих мертвецов.
Двоих мужчин, появившихся на свет задолго до рожденья его отца: он никогда не знал их, и однако, теперь он может видеть их лица, прикоснуться к их ледяной коже.
Прошла еще одна ночь, и погода опять улучшилась. Сейчас Уго в состоянии спуститься. Но оттого, что навалило столько свежего снега, Гургл, должно быть, изменился и уже готов разродиться лавиной. Вместо того чтобы ждать дальше, Уго предпочитает изменить решение и попробовать другой маршрут, разведанный им в бинокль еще в базовом лагере: спуск по второму коридору – очень крутому, поэтому там не могло скопиться столько снега; он заканчивается на половине высоты Гургла. На гребне Уго заметил характерный «жандарм», отмечающий верхнюю часть кулуара. Отличная скала: с широкими гладкими стенами, скальные плиты вставлены в оправу блестящего льда. Есть где установить страховку, не рискуя вызвать камнепад. Надежный и быстрый спуск.
Уго подтягивает страховочную веревку. При каждом рывке в спокойном чистом воздухе танцуют облака холодной снежной пыли – взмывают вверх и водопадом обрушиваются на скалу. Кружение снега. Неслышные смерчи падают вниз и превращаются в невесомый, нереальный ручеек, стремительно исчезающий в бездне краевой трещины.
Уго нелегко идти по ребру, заваленному свежим снегом. Он держится за крючья, вбитые по самое кольцо, и старательно переставляет ноги, уминая глубокий сыпучий снег – до тех пор, пока не почувствует, что он становится более плотным. От этого рыхлый снег слегка проседает: кажется, будто снежный склон под ним прогибается, а потом вновь обретает неизменную форму. Он без труда находит верх своего кулуара благодаря характерной глыбе замеченной им скалы. Скала надежна, тут легко закрепить страховку. Скат такой отвесный, что снег здесь не удерживается – нигде, кроме шероховатого гранита. Скала – негатив, цвета на ее поверхности – перевернуты: лед выглядит темным по контрасту с блестящими гранитными стенами, искрящимися от инея и холодной снежной пыли. Гургл лежит внизу и пока не виден, скрытый за скальным выступом.
Да, если подумать, Гургл – превосходный и самый удобный путь в верхний бассейн. Доступный даже неофиту. В пургу все, конечно, наоборот. В метель прохождение любой горы, да еще на такой высоте, требует опыта. Или удачи. Или – того и другого.
Но не время предаваться бессмысленным размышлениям. Уго закрепляет страховку на косом срезе скалы: два хороших крюка, вбитых в горизонтальную трещину, бухта веревки – он уже использовал пятьдесят метров; при следующем подъеме надо будет взять новый моток; двойной рыбацкий узел. Своим молотком-ледорубом Уго тщательно отбивает все острые выступы гребня, которые могли бы перетереть веревку. Он не уверен, что веревка достаточно длинна, чтобы спуститься до самого Гургла, – а где она кончается, за выступом не видно. На всякий случай он проверяет готовность своих самоблокирующихся зажимов, чтобы иметь возможность переустановить страховку.
Несколько метров благополучного спуска – и Уго висит в пустоте. Куски льда – два-три сталактита – срываются и летят мимо него. Vites, tombe, mites, monte, рассеянно думает он. Он чиркает ногой и отбивает еще несколько кусков, которые с грохотом рушатся вниз, скатываясь в воронку узкого желоба. Ниже его «кошки» снова находят опору. Теперь он понимает, разглядев легко различимое на снегу оранжевое пятно оставленной им внизу страховочной веревки, что его страховки до дна Гургла не хватит. Ему нужно еще метров десять.
К счастью, внизу, за выступом, у подножия ледяной колонны, он, кажется, видит полочку – будто она его тут дожидается. Уго старается не прислоняться к сталактиту: столб такой тонкий, он боится, как бы тот не обрушился. В поисках надежной стены, где можно было бы закрепить вторую веревку, он осторожно протискивается за колонну – внутрь, туда, куда вдается свод скалы. И вот так сюрприз – там обнаруживается небольшая пещерка. Структура кулуара нарушена: желоб сильно прогибается внутрь, образуя глубокую слепую впадину.
Уго не удается найти подходящей щели. Он бросает взгляд вниз и решает, что здесь страховка уже не нужна: тут он может без риска спуститься до самого Гургла. Склон – не крутой. Он стягивает веревку. Сворачивая моток и собираясь уходить, он в последнюю минуту засомневался: что-то внутри привлекло его внимание. Он расстегивает карман рюкзака, вынимает налобный фонарь и прикрепляет его к каске.
В пещере полно сталактитов. Tites ei mites. В глубине у самой дальней стены – ледяная колонна, принявшая форму забавного утолщения. Она похожа на лингам[94]94
Лингам или линга (санскр.) – священный фаллический символ индийского бога Шивы.
[Закрыть] Шивы, осыпаемый дарами стекающихся в Амарнат[95]95
Амарнат – святыня индуизма: пещера, внутри которой находится ледяной сталагмит – лингам Шивы.
[Закрыть] паломников.
Уго встретился со своей второй женой, немкой, в Катманду. Она собиралась стать индуисткой. Их свадебное путешествие прошло в паломничествах по священным местам: долина Ганготри и возвышающийся над ней пик Шивалинг,[96]96
Долина Ганготри и гора Шивалинг (буквально: лингам, то есть фаллос, Шивы) находятся у священных истоков Ганга; это место паломничества индуистов.
[Закрыть] фаллос Шивы (Лену смутило, что он туда поднимался), священная пещера Амарнат с ее лингамом, оттаивающим и плачущим ледяными каплями семени, Ямунотри,[97]97
Ямунотри – одна из четырех главных святынь Гималаев. Здесь – истоки реки Ямуна, одной из самых священных рек Индии. Храм Ямуны (сестры бога смерти Ямы) стоит на высоте 3235 м.
[Закрыть] озера Гомукх…[98]98
Река Ганг берет свое «земное начало» в Ганготри (3140 м), а ее «небесный исток» – озера ледника Гомукх (4200 м); от Ганготри до ледника – 24 км; ледник окружен горами-шеститысячниками, один из которых – Шивалинг (6543 м); по легенде, Ганг стекает на Землю из макушки Шивы.
[Закрыть]
Уго подходит ближе. Лед совершенно прозрачен. Сквозь него Уго видит гротескно искаженное рефракцией лицо Клауса: тот сидит согнувшись или, скорее, скорчившись; даже без спальника. Он умер здесь, убитый холодом. Потом сюда просочилась вода, и его тело медленно оделось льдом.
Уго охватил ужас. Неужели ему предстоит найти всех погибших той экспедиции – мумифицированные, музеифицированные трупы? Какие ужасные открытия его еще ожидают?
Затем его взяло сомнение. Возможно ли это? Если Клаус замерз, он должен был бы потом оттаять, и так – много раз, год за годом. И значит – гнить то есть, – жить той жизнью, какой живут мертвые, а не застывать раз и навсегда в этом нелепом вечном бессмертии.
Уго видит в этом знак, посланный ему свыше.
Он уже собирался оставить Клауса, не оскверняя его могилы. Но неожиданно он понимает эту странную позу: Клаус умер, пока он что-то писал. Уго достает свой молоток-ледоруб и ледовые клинья и осторожно, как скульптор, начинает скалывать лед. В руках Клауса зажат небольшой блокнотик; когда Уго тянет его на себя, он отрывается вместе с кожей пальцев Клауса, которая прилипает к обледенелой бумаге. Уго все время дует на блокнот и левой рукой, которой он действует ловчее, как можно более бережно освобождает бумагу.
Буквы стерты; страницы слиплись и смерзлись. Он осматривает пещерку, ища другие следы, чтобы понять, что же тут случилось. Рядом с Клаусом лежит полотняный рюкзак; в нем – алюминиевая фляга, кое-какие припасы. Уго посещает нелепая мысль, что они, наверно, еще съедобны.
Он бросает последний взгляд – потрясенный; и – очень профессиональный: тут можно было бы сделать редчайшие снимки. Уго мог бы продать их в журналы по всему миру: само собой разумеется, сначала в «National Geographic», потому что он платит лучше всех, потом – в остальные. Сложнее всего, как всегда, было бы торговаться из-за прав на эксклюзивность: каждый журнал считает, что имеет исключительные права, и оспаривает их другу друга.
Вот вам пример двойного подхода, вечный спор журналистов: публика имеет право знать все – да, но только в моем журнале.
Интерес Уго, понятно, лежит в прямо противоположной плоскости: ему нужно как можно более широкое распространение. Чтобы его имя – его торговая марка, как сказал бы Мершан, – разошлось бы по всему миру.
Конечно, Уго ни о чем не жалеет. Клаус умер здесь – что ж, пусть так. Но публикация его фото означала бы наглое вторжение, воровство и насилие над его смертью.
Воровство: да, потому что он собрал бы богатый урожай с его смерти. Насилие и предательство: потому что он выставил бы на всеобщее обозрение эту исключительно личную трагедию…
Решительно, Уго чувствует огромное облегчение оттого, что не взял камеру. Если бы она была с ним, уверен ли он, что у него хватило бы сил сопротивляться искушению?
Нет. Он знает, что нет. Если бы у него был с собой фотоаппарат, он сделал бы снимки. В таких обстоятельствах их сделал бы кто угодно. Не вспоминая о воровстве и насилии, какие влечет за собой этот поступок.
Уго снова начинает спуск. Теперь ему надо пересечь Гургл, где навалило гораздо больше снега, чем он ожидал. Правда, накануне и в самом деле выпало невероятное количество снега, точнее, невероятное для тех Гималаев, которые он так хорошо знал. А сейчас он находился в восточной части этой горной цепи – гораздо менее посещаемой и орошаемой гораздо более обильными осадками.
Снег – невесомый, нереальный, бесшумный – беспрерывно течет по узкой ложбине, прорезанной посередине кулуара, как мука по мельничному желобу. К счастью, желоб не широк, так что Уго без труда удается перешагивать через неслышный поток. Он проходит кулуар наилучшим образом: использует скальные стены, тщательно страхуется после смены основного крепежа, теперь это два крюка, вбитых в лингам Шивы рядом с вечным саркофагом славы Клауса.
На другом краю Гургла он, к своему облегчению, обнаруживает страховку, установленную им при подъеме.
Добравшись до краевой трещины, Уго испытывает удовлетворение: какие бы сюрпризы ни приготовила ему потом гора, он знает, что сможет вырваться из Кара. Но он ощущает и беспокойство перед неизвестностью, которую воплощает для него труп Клауса – там, где он никак не ожидал его встретить, в стороне от маршрута экспедиции 1913 года.
Уго возвращается в базовый лагерь. Нет, Карим, not finished. Summit not conquered. I found something about the 1913 expedition.[99]99
«…не кончено. Гора не побеждена. Я нашел кое-что, касающееся экспедиции 1913 года» (англ.
[Закрыть]
Пока Карим готовит еду, блокнот оттаивает, отпотевает, с него начинает капать вода. Уго подсушивает его у огня, стараясь аккуратно разделять страницы. Но на них почти ничего не осталось, уцелели только обрывки фраз.
Несмотря на усталость, Уго всю ночь пытается разбирать слова. Он пробует отгадывать их по очертаниям, на ощупь, свет его фонарика бродит по бумаге. В некоторых местах Клаус надавливал на карандаш сильнее, но на влажной бумаге не осталось ни одного связного предложения. То, что удается расшифровать, не представляет никакого интереса. С большим трудом он восстанавливает два отрывка, принесшие ему смутный, очень смутный свет. На середине блокнота: «Мершан… ушел… не вернулся…»; и – почти понятно, возможно, это – последние слова, написанные Клаусом: Клаус, которого Мершан считал атеистом, вывел своими негнущимися от холода пальцами:…
Смилуйся надо мною, Господи! —
воскликнул Корнелиус, с превеликими тяготами и страданиями добравшийся до означенного монастыря с Золотой крышей, на самую вершину горы Серто, и вот теперь он не знал, что делать. И погрузился в молитвы, прежде всего возблагодарив Господа Нашего, попустившего его смутиться суеверием сих лам. Ибо не обнаружил он ничего иного, кроме груды блестящих камней, самый вид коих не мог даже отдаленно сравниться ни с Храмом, ни с Дворцом, подобным тем, что рисовали ему гилонги.
И потому Корнелиус, видя, что он один, всеми оставленный и лишенный помощи и совета человеческих, кроме тех, что дарует нам наша Святая Религия, пожелал доказать гилонгам, сколь лживо их учение и что знаменитый их золотой храм – просто жалкая пустая скала, одетая снегом; но эти безумцы продолжали горестно причитать, жалея его и не желая ничего понимать, и уверяли, что там стоит великолепный дворец, перед коим они простирались ниц и молились, без устали завывая свои псалмы, невзирая на необычайную тонкость этого воздуха, от чего они, похоже, нимало не страдали. Корнелиус же был измучен до крайности и сильно боялся умереть от изнеможения. Искусанный морозом, исхлестанный ветром, умирающий от усталости, он счел за лучшее не сердить лам, испробовавших уже все свое колдовство, на какое они были способны, и начал усиленно таращить глаза, надеясь вместо голой скалы и снега увидеть чудесный храм – такой, каким живописали его гилонги, ибо разве храм этот не был плодом чародейского наваждения? – я так он чаял обрести в сем храме пристанище и защиту от дурного воздуха, совсем забыв о том, как таковое желание оскорбляет Господа, – настолько утомление притупило уже в нем все чувства. Но не достиг ничего, кроме усилившейся горячки, тогда как гилонги продолжали свои выходки и, похоже, меньше всего на свете страдали от сурового мороза на гребне горы, спасаясь при помощи своей магии, называемой ими туммо.
Корнелиус же был уже в столь плачевном состоянии, что стал сокрушаться, не умея помочь себе этим дьявольским действом. Совсем растерявшись и не зная, как ему дальше быть, ибо он не в силах найти убежище во дворце, которого нет, и напуганный страшной высотой, на какой он оказался, он принужден был набраться терпения и ожидать, пока монахи насмотрятся на свое видение, и вновь обратил молитвы к Господу Нашему, прося не оставить его в его несчастии, но на этот раз – не напрасно; так как внезапно, едва он закончил молиться, как ощутил в себе новые силы и упрекнул себя за то, что возжелал поддаться подлым выдумкам сих гилонгов, вместо того, чтобы хранить веру в Нашу Святую Церковь, и решил один пойти к вершине горы, дабы показать этим мерзким гилонгам всю лживость их измышлений. Пройдя скалу, перед коей гилонги длили свои выступления, он двинулся вверх по крутому заснеженному хребту, с обеих сторон коего зияли ужасные бездны, так что ему пришлось оседлать его и пробираться ползком до самой вершины, каковая, по правде сказать, была просто суровым обрывистым гребнем, увенчанным острой иглой; но ни чудес, ни сокровищ он там не увидел.
Пожалуй, только вначале, взбираясь по скале, называемой ими дворцом, святой отец ощутил вдруг разлитую в воздухе необычайную сладость и удивительную радость и легкость во всех членах и во всех своих органах; отчего Корнелиус понял, что теперь он добрался до третьего неба, лежащего выше метеоров, коего достигают одни только высочайшие горы. И тотчас нашел на него такой восторг пред этой чистотой, что ему пригрезилось, будто он летел над снегами на самый верх, до вершины, и вся его усталость куда-то схлынула; и он восхитился открывшейся там чудесной картиной, ибо внизу под ним насколько хватал глаз простирались вдаль бесконечные горы. Замерев от изумления, он погрузился в созерцание сей красоты, явленной ему, дабы показать, сколь Творение Создателя превосходит величие дел человеческих; и возблагодарил Господа Нашего, и так надолго задумался, размышляя об этих тайнах, что забыл самого себя и отрешился от всех чувств – так, что внезапно ему показалось, что он задремал посреди снегов. Но прежде чем он решил, что засыпает, ему привиделся удивительный сон. Увидел он, как его будто по волшебству перенесло в некую страну, лежащую на круче высокой горы, и воздух там был напоен мягкостью и благоуханием, вода – сладка и вкусна, а жили там светлокожие люди в мире и радости, и были, они приятны на вид, и хотя блюли обычай Адама, но были все же обходительны и стыдливы. В лугах там росло множество цветов, особенно роз и лилий, на всех деревьях, кроме тех, что стояли в цвету, наливались прекраснейшие на свете плоды, и царила вечная весна. Язык их был ему неведом, и однако, Корнелиус понимал их без труда, и вскоре его попросили служить там мессы и крестить приходящих к нему людей, стекавшихся в недавно построенную им по их дозволению церковь. Святому отцу так полюбилась сия Земля Обетованная, что он совсем позабыл и цель свою в королевстве Тебет, и бедного своего товарища, мнившего его уже мертвым.
Корнелиусу казалось, что в оном месте провел он три года. По прошествии же трех лет он обратил в пашу веру весь народ сей страны и даже высших ее сановников и решил, что пора возвращаться за гору, так как твердо замыслил продолжить нашу миссию и мечтал в своем сне достигнуть другой страны, чтобы и ее обратить в нашу веру. Но люди эти сказали ему, что это невозможно и что кому бы ни выпало счастье попасть в это царство, тот не должен питать надежду его покинуть прежде того времени, когда придется ему открыться, чему суждено случиться только в конце великих потрясений. Но святой отец спешил поведать о своем успехе и подговорил втайне некоторых из тех, кто прислуживал ему во время молебнов и был всецело ему предан, убедив их, что ему надо уйти. Сначала, едва он сказал о своем желании, эти люди наотрез отказались: не столько потому, что не соглашались из любви к нему нарушить свои законы, но, объяснили они святому отцу, оттого, что после его ухода они никогда более не услышат мессы и попадут прямиком в ад – так, как учил их отец Корнелиус; слова эти привели святого отца в величайшее замешательство, выйти из коего он сумел, только призвав одного из них и обучив его перед своим отбытием начаткам литургии.
Успокоившись, что по-прежнему смогут исповедовать истинную веру, они наконец согласились тайно провести Корнелиуса через горы по известному только им одним труднодоступному и опасному проходу. И немедля повели его к какой-то теснине или мрачному ущелью, куда они шли всю ночь; и Корнелиус с таким тяжким трудом поднимался и спускался по снегам и скалам, что, утомившись, будто бы заснул в каком-то месте, когда те люди стали убеждать его, что двигаться дальше ему не по силам; и Корнелиус был потрясен, пробудившись рядом с теми же монахами и в той же пещере, где мы тогда ночевали. Уже тогда он должен был убедиться, что все то было пустой химерой, ибо те три года обернулись всего лишь тремя днями, которые он пролежал в беспамятстве, пока гилолги спускали его с вершины, где он лишился чувств от жестокого холода, и сидели подле него в оной пещере, пока он бредил во сне, а они лечили его, отпаивая травяными отварами, чтобы поставить его на ноги. А так как святому отцу трудно было стереть из памяти такую историю, ему пришлось убедить себя, что он пал жертвой какой-то их хитрой игры, каковой они отомстили ему за то что не сумели вовлечь в свои ничтожные выдумки; и он горько упрекнул их, жалуясь на такую насмешку. На что они живо возразили ему, говоря, что без их помощи и этих настоев Корнелиус не смог бы ни спуститься с горы, ни выжить столь долгое время в снегах; и что одно только снисхождение их величайшего идола Угуена да их порошки и лекарства позволили сохранить ему жизнь. Видя, что они упорно стоят на своем, Корнелиус перекрестился и немедля начал спускаться к монастырю, изумляясь, что не чувствует более никакой усталости в своих членах, и сильно опасаясь, что меня там уже не найти. После первой радости нашей встречи и счастливых объятий я рассудил, что Корнелиус стал жертвой их магов, и, так как мы уже многажды наблюдали, как творят они свои колдовские пляски и заклинания, я решил убедить его, что все это ему пригрезилось и что он даже не поднимался на вершину; тогда он показал мне терма – магический талисман, данный ему оными людьми перед вершиной и подобранный, по их словам, у врат знаменитого монастыря Серто; но сия реликвия, каковую они почитали так сильно, показалась мне просто крошечным осколком камня и, говоря по правде, на удивление ничтожной крупинкой, кою они, однако, ценили на вес золота (хотя никакого золота там не было, как я убедился посредством химических операций) и говорили, что он был спрятан там, в скале, их великим магом Угуеном ради утверждения их Веры.
Я посмотрел на него с ужасом, ибо то, несомненно, было…
…Дело рук дьявола —
только он мог бы меня спасти, решил я, вспоминая подробности падения; ну, может быть, еще – милосердие Божие, подумал я со страхом, поняв, что заблудился. Вот так за несколько часов я уже дважды переживал приближение смерти и в совершенно противоположных обстоятельствах. Но тогда я еще не знал, что на следующий день мне придется приобрести еще один, третий, смертельный опыт – также не похожий на предыдущие. Словно бы так было нужно, чтобы я, выживший, продолжал подвергаться тем же испытаниям, какие выпали на долю моих товарищей, но не знал, чем они закончились, и был лишен воспоминаний об этом, а следовательно, и искупления моей вины.
С тех пор я часто раздумывал о странностях случая: о своем трижды чудесном спасении и о жестокой гибели моих товарищей, ставших пленниками этой горы. Я не мог отделаться от неуместной мысли: как знать, если мое спасение было таким удивительным чудом, возможно, их агония оказалась такой же невероятной; и наоборот, если их смерть была случайной, тогда мое спасение тоже можно считать случайностью. Но, вероятно, все дело в том, что мы придавали слишком много значения тому, что было просто грудой камней.
У меня пропало желание покорять горы, я больше не хотел стать сильнее горы, мне не нужна была победа. Неожиданно я понял, каким безумием была наша попытка завоевания этой вершины, и потому она была обречена на провал: масштаб задачи превосходил наши силы. Конечно, человек способен превзойти себе подобных, он может покорять людей, горы и даже «законы природы». И я уверен, что однажды, когда-нибудь, вслед за следами Германа на вершине Сертог появятся другие следы. Но на самом деле все наши достижения, бесчисленные слепые усилия, тысячи жертв борьба, в которой жизнь человеческая ничего не стоит, так похожи на суету мурашей в муравейнике… Каждый пытается чего-то достичь, и потом в случае удачи – только удачи – победителей назовут гениями, героями, великими людьми, а огромное большинство, все остальные муравьи, останутся побежденными и будут забыты. Но первый муравей – тот, кто после тысячи безуспешных попыток преодолеет все препятствия и заберется на травинку, – только этот безумец получит имя гения или героя.
Нас же гора победила. Чтобы выжить, я должен найти другой путь: принять свою уязвимость, признать хрупкость человеческой жизни и отказаться от героических подвигов – ловушки, приведшей нас к катастрофе. Я доверился горе, принеся ей в дар себя – единственную жертву, которая была в моем распоряжении. Я надвинул на голову капюшон своей куртки и погрузился в ожидание.
Несмотря на нелепость такого чувства – смешно, в самом деле, у наделять гору душой, – мне до сих пор хочется верить, что она отблагодарила меня за мой дар и спасла мне жизнь. Буря внезапно улеглась, снежная круговерть прекратилась, туман рассеялся: палатка была рядом, в двух-трех метрах.
К утру ветер стих. Я покинул второй лагерь, взяв с собой только самое необходимое. Я подозревал, что там, наверху, положение было, наверное, еще хуже, если только можно представить себе худшую ситуацию. Но я ничего не мог сделать, мне оставалось только одно – бегство. Остаться здесь значило бы съесть припасы, которые пригодятся им, чтобы выжить, если им, по счастью, удастся сюда спуститься.
По склонам горы со всех сторон в пугающей тишине неслышно стекали потоки снега. Гора жила – безгласная, но живая. Я поднял глаза к отрогу: отсюда нельзя было разглядеть ребро Шу-Флер; ниже я тоже не заметил ни одного следа. В любом случае они не могли спускаться сегодня, им надо было выждать, пока не подмерзнет и не уплотнится снег.
Когда я собрался уходить, было уже поздно. У меня не было шансов добраться до базового лагеря в одиночку – но что мне было делать? – я должен попытаться.
С первых шагов я понял, насколько безнадежно мое положение – рельеф Лабиринта изменился, склоны завалило снегом. Я проваливался по пояс и продвигался чрезвычайно медленно. Сигнальные флажки замело бурей, засыпало сугробами. Я пробирался наугад, ежесекундно опасаясь свалиться в скрытую под снегом бездну. Я не достиг еще середины Лабиринта, как путь мне преградила широкая трещина, над которой висел хрупкий снежный мост. Единственным решением было попробовать перейти по нему или снова подняться наверх и постараться поискать другую дорогу, но на это у меня не хватало сил.
Едва я шагнул на мост, как снежный свод расступился и поглотил меня с головой. Все исчезло, меня обступило белое ничто – чистая округлость провала, едва заметное вращение пространства, зацепка в пустоте. Меня окружали бесконечные, немного выгнутые стены – тишина, умиротворение, покой. Дул ветер, поднимая снежную пыль, занося следы, стирая легкий изъян совершенной дуги, заметая ее последний разрыв; но не было никого, кто стал бы на это смотреть, – никто этого не увидел, никто никогда этого не видел. Никто. Здесь никогда никого не было. Ледник – пуст, никто никогда не приходил сюда. Там, вверху, незнакомые миру склоны Сертог, как обычно, сотрясал гул лавин. Там, вверху, среди зубцов сераков вилась невидимая дорожка, следы которой быстро заметал милосердный снег.
Меня принял уступ, припорошенный мягким снегом, поглотившим шум падения.
Я знал, что погиб, и тем не менее испытывал к этой трещине, куда я упал, какое-то нежное чувство, почти любовь. Я был внутри горы, вероятно, я умирал, но я привык к смерти – как солдаты, которые, как говорят, становятся совершенно равнодушны к жестокостям войны. Достаточно было не двигаться, стоило только замереть, чтобы гора навсегда поглотила меня, а затем – выплюнула мои останки, перемешав их с камнями морен. Странная мысль пришла мне в голову: если бы не голод, жажда и холод (но я вовсе не чувствовал холода), которые неизбежно приведут меня к смерти, я мог бы прекрасно и очень долго жить здесь, мне было хорошо в этой трещине, мне нравилось ощущение неспешного течения мыслей, чувств, медлительности действий. Дома, в Париже, мне раз или два удавалось поймать тот удивительный образ мыслей, когда человек пребывает в полусне – в тот самый миг, когда он засыпает или еще не проснулся, – то, что психологи называют гипнотической галлюцинацией; сейчас мой ум находился в таком же состоянии, и я мог пользоваться всеми преимуществами этого положения, которые я, как мне казалось, отлично понимал.
В этом призрачном мире снег, заполнявший расселину, был таким рыхлым и невесомым, что я мог двигать руками так же легко, как в воздухе, – у меня остались одни только чувства; я был духом, чистым разумом, а тело исчезло.
Сколько времени прошло так, в забытьи? Пытаясь впоследствии установить, сколько дней я провел на дне трещины, я решил, что оставался там сорок восемь часов. Конечно, это кажется невероятным, если только не предположить, что я впал в какое-то – неизвестное медицине – подобие зимней спячки. Но как бы долго ни длилось это странное состояние, в конце концов я вышел из оцепенения. Рука, медленно взбивая снег, случайно наткнулась на ледоруб, взятый мной во втором лагере; это было воспоминание о забытом мире, и удивление от находки меня разбудило – это было первое сильное чувство в невозмутимой, бесстрастной вселенной, в которую я погрузился. Я наконец проснулся, моя неподвижность кончилась: надо было действовать.
Без ледоруба мне никогда не удалось бы оттуда выбраться. Правая стена казалась не совсем отвесной, по этому наклону можно было попробовать подняться на верхний край трещины. Не знаю, откуда у меня взялись силы вырубить здесь ступени, но я высекал их, останавливался и снова брался за работу много часов. Была ночь, светила полная луна, Это позволяло мне не слишком мерзнуть.
Едва выбравшись наружу, я тут же продолжил спуск – словно лунатик, который ничего не боится, – уверенный, что со мной уже ничего не случится.
В базовом лагере наш связной, предоставленный самому себе вот уже вторую неделю и не знающий, ждать ли ему еще или уже пора уходить, завидев меня, встретил мое появление как приход Спасителя. Я поспешил отослать его в монастырь и попытался заняться своим лечением. Однако сначала ему пришлось помочь мне с обмороженными ногами: надо было сдирать омертвевшую кожу вокруг твердых, черных, холодных как лед ногтей.
Но это меня уже не трогало, так как, пока мы занимались моими ногтями (во время этой процедуры я думал сначала только о том, как спасти свои ноги), на меня обрушилась очевидность случившегося несчастья: я больше не сомневался, что никогда не увижу никого из моих спутников, которые навсегда остались на этой горе. Они стали ее пленниками по моей вине. И все же острее всего я чувствовал облегчение: не от того, что остался в живых, а потому что там, на вершине, по-прежнему сияла девственно чистая, не покорившаяся человеку «Золота Крыша». Что до неразрывно связанного с ней запаха высоты, бессмысленно говорить, что я никогда больше его не чувствовал.
На следующий день, захватив из монастыря носильщиков и носилки, ко мне пришел Поль. Остальное – как я вернулся в Европу и прочее – не имеет значения. Просто жить дальше: таким для меня отныне будет…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































