Текст книги "Нерчинская каторга. Земной ад глазами проповедника"
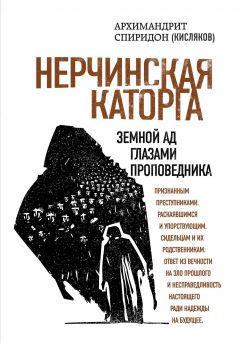
Автор книги: Спиридон Кисляков
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Не успел я появиться в тюрьме, как все арестанты с радостью начали подходить ко мне, обнимать и целовать меня. Зрелище было умилительное!
– Мы все только о вас и говорим! – сказал мне один старый арестант.
Другой арестант, подойдя ко мне, сквозь слезы промолвил:
– Спаситель наш, батюшка ты наш, опять мы тебя увидели! Ох, какая нам радость!
Я был очень тронут их любовью ко мне.
На следующий день, в десять часов утра, я произнес перед ними следующую проповедь на тему:
«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мк. 13:30).
– Возлюбленные мои узники! Христос, засвидетельствованный Самим Отцом небесным, Своими чудесами, Своим преславным воскресением и вознесением на небо, засвидетельствованный Своим всетворческим всемогуществом, Своею святейшею богочеловеческой жизнью, засвидетельствованный собственною нашей сущностью и самой человеко-вселенской историей, что Он есть во истину Сын Божий, воплощенный Бог Слово, Вторая Ипостась Святой Троицы, как действительно Сущий Бог и как Таковый, Он говорит Сам о Себе, что небо пройдет и земля тоже, но Его слова не пройдут без того, чтобы они во всей своей полноте не исполнились на самом деле. Что же это значит? Это значит, что бытие всего мира и, в частности, наше с вами находятся непосредственно в воле Христа. Воля же Христа обращена к нам такою стороною, которая вся представляет из себя превожделеннейшее хотение Господа, дабы мы были только Христовы и только принадлежали Ему Единому. Быть же Христовыми и принадлежать только Ему Одному – для этого с нашей с вами стороны нужно пока только одно искреннейшее покаяние. Когда мы на первых порах соединим себя со Христом вервией покаяния, то это наше покаяние выявит из себя уже для нас новую силу, которая с невообразимой быстротой повлечет нас ко Христу и раз и навсегда сделает нас исключительно принадлежащими Ему Одному. А уж если мы будем принадлежать Ему, то, милые мои узники, какие неизреченные и непостижимые потоки любви Христовой тогда вторгнутся в нас! Тогда ты весь будешь соткан из чистой свободы, хотя будешь и находиться здесь в кандалах. Тогда вся внутренность твоя превратится в какой-то чудесный свет! Тогда все твои мысли, чувства и стремления будут в тебе по своей святости, безгрешности поистине подобны солнечным лучам! Тогда совесть твоя, точно миндаль, пышно расцветет в тебе, тогда даже и вся физическая в тебе структура будет уже претворяться в бессмертную Христову Плоть и Кровь! По мере твоего внутреннего уподобления Христу, даже сама мировая действительность, как покорная раба, будет подчиняться тебе во всем! (см.: Ин. 14:12). Тогда, чего ни попросишь у Бога, Он даст тебе, чтобы через тебя прославился Сам Отец Небесный в Своем Сыне (Ин. 14:13). О, Боже Великий! На какую же степень богосыновней высоты возводит кающегося грешника любовь Христова! Узник и мои! На сею высоту богосыновности путем покаяния поднялись и твердо пребывают, увенчанные апостольскою славою, апостол Петр и апостол Павел. На этой же высоте богосыновности пребывают и Благоразумный Разбойник, и Мария Магдалина, и Мария Египетская, и множество-премножество святых Божиих человеков.
О, как бы хотел Сам Христос, чтобы и вы на крыльях вашего покаяния перед Ним высоко-высоко поднялись, на самую высоту богосыновности поднялись бы, мои возлюбленные, и там облеклись бы славою святых.
– Господи, помоги мне покаяться! – вдруг послышался голос из толпы арестантов.
Все побледнели и сразу зарыдали. Я продолжил:
– Ибо самая причина пришествия Христа в мир – Его крайняя жалость ко грешнику. Он Сам об этом говорит: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Мф. 9:13). А в другом месте Он того больше говорит: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15:7). Слова эти, как и все слова Господа, абсолютно верны: «Скорее небо и земля прейдут, но слова Господа, как Он сказал, не прейдут».
Братья мои! Покаемся, возлюбленные мои, обратимся все ко Христу и от всего сердца повернем себя самих к стопам Его, откроем пред Ним двери души нашей и скажем Ему: «Господи, я не прошу у Тебя, чтобы Ты изливал на меня Твои святые дары, я не молю Тебя причислить меня к лику Твоих святых, одного у Тебя прошу, об одном Тебя молю: в качестве блудного сына прими меня, в качестве мытаря оправдай меня и в качестве кающегося грешника прости мне вольные и невольные мои прегрешения. О, Царь мой Христос! Никто так не согрешил пред Тобою, как я грешный! Господи, я в одной моей личности представляю из себя и Иуду Искариотского, и Синедрион, предавший Тебя Пилату, представляю из себя и Анну, и Каиафу, и самого Пилата и Ирода, и воинов, распявших Тебя, и терновый венец, и трость, и копье, коими Тебя венчали, били по голове и прободали в бок Твой – все это я представляю из себя самого. Но, Господи, Господи, как бы я ни был грешен и преступен перед Тобою, я, все же, надеясь на безграничное Твое милосердие к кающимся грешникам, повергаю себя в бездну милости Твоей и со слезами взываю к Тебе: каюсь, прости мне, Господи, все грехи мои, больше я этого делать не буду.
Арестанты все стали на колени и сильно плачут.
Я уже закончил и уже хотел сойти с амвона, как один арестант стал предо мной на колени и, рыдая, говорит:
– Я убийца, я сверхестественными грехами заражен, я с родною матерью падал в грех, есть ли мне прощение грехов?
– Есть, сын мой, есть, только согласно твоим тяжким грехам и принеси большое покаяние, – ответил я.
– Я согласен, о, я готов весь в слезы превратиться, лишь бы только Христос простил мне мои грехи! – рыдая, вопил каторжанин.
Через полчаса в церкви водворилась тишина. После этого, вечером того же дня, я произнес для них еще одну проповедь, а утром обошел все палаты и одиночные камеры, беседуя с арестантами. Эти дни были для них днями радости. Каждый из них один перед другим наперебой спешили переброситься со мною хоть самым кратким словом. Мне было очень радостно. Один из них подошел ко мне и говорит:
– Вот, друг наш, где материал непочатый для Вас! Умелая рука из этого сырого материала все может лепить!
Я поблагодарил его за светлую мысль. На следующий день утром я вернулся в город Читу.
Дорогой я все время думал о каторге. Мне было до глубины души жаль арестантов; жаль по многим причинам. Жаль было их, как продукт наследственности, среды, времени, русского хронического невежества и т. п. Каторжане, думал я, все же это не казенные вещи, а личности, люди, и вот эти личности, люди – одни закованы в кандалы, другие десятки лет, точно кроты, копают руду, третьи целыми месяцами сидят в одиночных камерах. Все они озлоблены душой и телом замучены, оторваны от родных, совершенно обезличены, являются в глазах общества жалкими отбросами, им никто ничего не доверяет, их все боятся, как каторжников. Они не менее сего переживают всегда угрызения и мучения совести, глубокое раскаяние в своих преступлениях, часто смертельной волной захлебывает их ужасное отчаяние, никакого и ни от кого сострадания и милосердия они не получают, да и не ждут для себя. Радость давным-давно их оставила, утешения они никакого не знают. Начальство для них всегда – смертельный страх, друг друга они боятся и один другому не доверяют, да и доверять опасно, потому что часто вместо своего брата попадаются наемные шпионы, иногда и с синяками под глазами, значит нужно всегда быть молчаливым, скрытным и ушедшим в себя самого. Иногда хотелось бы поделиться и мыслями, и своим горем с кем-нибудь из своих, да ведь и тот, с кем бы он хотел поделиться, – ему не до других, он сам хотел бы часть душевной тяжелой своей жизни хотя бы на время передать кому-нибудь другому. Тяжела, невыносимо тяжела жизнь каторжанина! Но дело не в том, что она тяжела, думал я, а в том, что самый режим каторжной жизни, как я понял, не только не исправляет каторжника, а наоборот, он так устроен, чтобы медленно озлоблять, убивать людей, вызывать в них самые жгучие страдания, чтобы в этих страданиях каторжане, точно в своем соку, варились и проклинали всех и все. Что же нужно делать, думал я, чтобы хоть немножечко облегчить их жизнь? Мои поездки имеют для них малое значение, хотя в это время они забывают свое тяжелое горе! Что нужно делать, чтобы помочь им? – неотвязно бродит мысль в моей голове. Сейчас я около пятисот писем их везу в Читу, чтобы бесконтрольно сдать их на почту. Но разве это помощь? Нужно мне стать на их сторону, исполнять все их религиозно-нравственные требования; но тогда меня местная власть заподозрит в тесном контакте с ними и, конечно, постарается избавиться от меня. Как же им помочь? Нет, думаю я, надо хотя бы ради них принять священство и быть неженатым священником. Если я буду женатым, каторга будет для меня тогда мертвым делом. Но быть неженатым для меня самого будет бесконечно тяжело. Это я чувствую…
Тут я перенесся мыслию на бывшую мою невесту О. К. Думаю, если бы я женился на ней, то она могла бы способствовать мне в отношении каторги. Не успел я подумать о бывшей моей невесте, как вдруг явилась другая мысль: а что, если я хорошо познакомлюсь с укладом и бытом каторги и напишу новый проект относительно преступников, такой проект, в котором убедительнейшим образом буду доказывать, что каторга только портит людей, что она является в своем роде инквизицией для человечества; а потому нужно заменить каторгу чем-то другим, что бы только исправляло преступников и делало их мирными и вместе с тем добрыми гражданами. Так я думал все время, пока не приехал в город Читу. По приезде моем в Читу, меня сейчас же пригласил к себе губернатор и начал обо всем меня расспрашивать. Хотя я по своей натуре и откровенный, все же перед ним был скуп на слова. Прощаясь с ним, я сказал: «Ваше превосходительство, каторга должна быть совершенно заменена чем-то другим».
Доклад о каторгеДня через два после моего приезда в город Читу, епископ Мефодий[6]6
Речь идет о епископе Бийском Мефодии (Герасимове; 1856–1931), в 1894–1898 гг. викарии Томской епархии. Впоследствии, будучи архиепископом Оренбургским, он покинет Россию с Белой армией и возглавит Харбинскую епархию (1922–1931), с 1929 г. – в сане митрополита.
[Закрыть] пожелал выслушать мой доклад о каторге. Для этого он пригласил нескольких духовных и светских лиц. Ровно в семь часов вечера в день воскресный я начал делать свой доклад. Прежде всего, я сообщил ему о том, что все тюремное духовенство на каторге совершенно бездействует.
– Итак, бездействует? – обидчиво спросил меня владыка.
– Да, бездействует, – ответил я.
– Оно же служит там? – снова спросил меня владыка.
– Да, служит, – сказал я, – но этого мало, владыко. Тюремный священник должен не только каждый праздник совершать церковную службу, но он за всякой церковной службой обязан произносить проповеди, он должен даже самую церковную службу превратить в молитву, он должен свои проповеди по их содержанию, исключительно применить к исправлению и ободрению духа всякого арестанта, он должен и молитвою, и словом Евангелия, и своею живою отеческою любовью, и искреннею пастырскою жалостью исправлять и лечить каторжан. Мало того, пастырская священная обязанность всякого тюремного священника – ограждать и защищать своих несчастных пасомых от иногда пристрастного, несправедливого отношения начальства к ним и т. д. Вот каков должен быть тюремный священник на каторге. Быть тюремным священником – это значит быть одновременно и молитвенным совершителем таинств, и духовным психиатром, опытным и талантливым педагогом и сведущим религиозным апологетом христианства, и весьма чутким и отзывчивым, и нелицемерным отцом.
Каторжанин – это искалеченный, исстрадавшийся, измученный человек, лишенный всех прав и состояний, всеми презираемый, всеми отвергнутый десятками лет, человек. И вот он-то ни от кого так не ожидает признания своей личной ценности, ни от кого так не чает утешения для себя, как только от своего священника. Находящиеся же на каторге священники, к сожалению, кроме треб ничего другого не делают. Мало того, большинство из них даже ведут нетрезвую жизнь, некоторые же и того еще хуже… По-моему, вообще представители Церкви Христовой, в частности же тюремные отцы, не должны смотреть на каторжан глазами светских людей: мол, раз каторжанин, то значит он лишен всякой человеческой ценности. Наоборот, Церковь в лице своих представителей, должна более, чем к живущим на свободе проявлять к ним свою деятельную любовь и жалость.
– Например? – спросил кафедральный протоиерей.
– Церковь должна не только своим теплым дыханием деятельной любви всегда их согревать, утешать, облегчать их тяжелую участь, но она даже должна всегда влиять и на власть, чтобы раз навсегда в этих тюрьмах были уничтожены и смертная казнь и виселица, и расстрелы и даже, хотите ли знать, самый характер существующего вообще в них наказания.
– Что ты этим хочешь сказать? – спросил меня епископ.
– Этим я хочу сказать, что каторга раз навсегда должна быть заменена чем-нибудь другим, но не собою. В настоящее время каторга представляет из себя тупую, но медленную и страшную инквизицию. В России же много есть лесов, много лежит пустой земли, много болотистых мест; все это требует рабочих рук: леса требуют чистки, земля – пахоты, посева, болотистые места – осушения. Самое же лучшее, что могло бы сделать правительство для арестантов – это приложить их руки к таковой работе. Этот труд был бы для них и больницей, и врачом-психиатром, и моральным воспитателем. Конечно, я против того, чтобы их труд эксплуатировали те, кому они будут поручены для этого дела. Это одно. Другое (для арестанта самое важное) – это то, чтобы такой труд наполовину сократил их срок наказания, и после отбытия такового срока на известной работе каждый из них свободно получил бы полное гражданство, без всякой отметки в паспорте, что он был каторжанин.
– Это не наше дело, – сказал один священник.
– Нет, – продолжал я говорить, – это дело только Церкви. Церковь, в лице своего епископата, должна всячески повсюду и везде вносить Христову евангельскую любовь по отношению к человеческой личности, какой бы эта личность ни была сама по себе. Мало этого. Церковь должна даже на всякое правительство оказывать свое моральное воздействие. Государь, как он ни самодержавен сам по себе, он все же сын Церкви; а поэтому он должен ее слушать.
– Эти слова я бы не хотел слышать, – смущенно сказал епископ.
– Ишь, как на вас повлияла Акатуевская тюрьма! – иронически заметил один светский чиновник.
– Правителю страны больше вредит рабская, льстивая, изолгавшаяся услужливость, чем открытая правда, – сказал я.
– Вы, Георгий Степанович, ближе к делу, – возразил личный секретарь епископа.
– А разве это не дело? – ответил я. – Кроме сего, хотелось бы, чтобы Церковь как-то еще и материально обязала себя по поводу тех же самых каторжан. Это имело бы живое, действительное значение для самой личной веры во Христа тех же самых арестантов. К сожалению, Церковь этого не делает. Нужно правду сказать, что в наше время со дня на день все более и более суживается, бледнеет своею деятельностью Православная Церковь в деле как религиозного, так и морального воздействия на гущу человеческой жизни, в частности, арестантской. За это она горько платится.
– Что ты нападаешь на Церковь! – гневно сказал мне епископ.
– Я не на Церковь, как таковую, нападаю, а на тех лиц, которые выдают себя за Церковь. Владыка, не надо закрывать глаза на то, что правящее наше духовенство, по существу говоря, любовно-деятельно не знает ни своей паствы, ни ее жизни. Правящее духовенство превратилось из пастырей в каких-то, боюсь сказать, смешных чиновников, которые одновременно являются пугалами… просто какими-то шутами… и жалкой пародией… и предателями Христовой Церкви государству… и своеобразными заядлыми политиканам и… и предметом осуждения… и жалкими выродкам и апостольского института… и просто балаганными кривляками… и предметом развлечения для женщин… а для самих себя они являются неисправимыми лицемерами, всегда дерзко играющими Христовым Именем в своих личных интересах… Что же касается вообще батюшек, то они на свое церковное служение смотрят, как на необходимую свою профессию, а на приход – как на доходную материальную статью.
– Я возмущаюсь такими словами докладчика, это не доклад, а черт знает, что такое, – возмущенно кричит брат епископа.
– Так вот, владыка, теперь на вашу долю выпала Нерчинская каторга. Каторга же в моем понимании – это такой живой гроб, в котором – десятки тысяч заживо обреченных лечь и медленно-медленно умирать в нем. Не надо забывать, что эти десятки тысяч людей все исповедуют христианскую религию, которые всегда не только нуждаются в утешении от тех же самых христиан, особенно от архипастырей и пастырей Христовых, но они не менее нуждаются в том, чтобы Церковь Христова этот живой гроб-каторгу заменила для них воскресением их душ. Владыка, в лице их Сам Христос ждет от вас себе таковой христианской реформы.
– Довольно! Довольно! – послышались голоса. – Мы больше не хотим вас слушать. Прекратите ваш доклад!
– Вот, брат, я тебя хотел рукоположить в священники, а теперь боюсь тебя рукополагать. Ты тогда пожалуй объявишь себя монархом, – сказал епископ.
– Простите, владыка, я доселе говорил все то, что само дело требовало от меня. Каторга ведь – не свалка трупов, а десятки тысяч людей, обреченных на одни страдания, муки и медленную смерть, – сказал я.
– Я все понимаю, – ответил владыка.
– Нет, владыка, понимать одно, а видеть и переживать страдания других – это другое; что я и хотел развить в моем докладе, но вы его сорвали!

Вид Горно-Зерентуйского селения и тюрьмы

Арестанты на молитве перед Горно-Зерентуйской тюрьмой
– Вы не доклад нам делали о каторге, а облили все духовенство грязью, – сказал протоиерей.
– Не духовенство я облил, по-вашему, грязью, а, скажу правду, лишь вскрыл современную деятельность самого духовенства, которая оказалась самою вонючею грязью, – со скорбью в сердце ответил я.
– Если бы я был архиерей, я бы и минуты вас здесь не держал, – сказал брат епископа.
– Если бы кто-нибудь был епископом здесь, а не епископ Мефодий, я бы четверти минуты не стал здесь жить, – ответил я ему.
– Это Акатуй на него повлиял, – сказал личный секретарь епископа.
– Да, Акатуй, – ответил я. – Зачем говорить, что на меня подействовал Акатуй? Я говорю дело, а они – Акатуй! Надо серьезно смотреть на дело; а дело такого рода, что христиане, будь они свободные граждане или арестанты, – для Церкви безразлично, они все поручены епископам и священникам, как их пастырям. Дело пастырей не одни молебны и панихиды служить, а словом и делом руководить и наставлять на все Христово свою паству. Уж если и говорить, так нужно всегда говорить правду. Я скажу: что же, если гражданская власть, как она ни сурова к арестантам, она все-таки хорошо ли, плохо, но кормит и одевает арестантов, а Церковь в лице епископов и священников что каторжанам делает? Да, ровно ничего! – возмущенно сказал я.
– Как ничего? Там при всякой тюрьме есть священник, что же еще нужно? – сердито ответил мне один батюшка.
– Я уже говорил, что Церковь должна сделать для арестантов; а теперь больше того скажу: сердитесь или не сердитесь на меня, – это дело ваше, – скажу лишь то, что все священники, находящиеся при тюрьмах, каторге – они в отношении арестантов являются одними Савлами, побивающими Стефана камнями, и ничем другим. Вот и все.
Я вышел, а епископ и все приглашенные им лица остались в зале. Что говорили они между собою, мне не известно.
После моего доклада епископ целую неделю сердито хмурился на меня. Ровно через две недели после моего доклада, я отправился в Верхнеудинскую тюрьму. Арестанты уже были осведомлены о моем посещении Нерчинской каторги. Здесь я остановился также у начальника тюрьмы. Начальник оказался в высшей степени гуманным человеком. Я был очень рад ему. На следующий день в девять часов утра все арестанты были в церкви. Я, по обыкновению надел стихарь, стал на амвон и начал говорить следующее слово:
«Всякий делающий грех, есть раб греху. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:34–36).
– Возлюбленные мои узники! Никто до Христа не знал сущего рабства, как рабства. Люди думали, что рабство есть то, когда один народ порабощает своей стратегической или экономической силой другой народ; когда одно государство эксплуатирует другое государство и т. д. Правда, всякое порабощение одним народом другого есть тоже рабство, но это рабство есть только производное от какого-то другого рабства, более сильного, могучего, как его причина. Что же за такое основное рабство, от которого порождается вообще всякое рабство? Вот это-то самое коренное рабство и есть самый грех. Грех и только он один и делает все человечество самым жалким рабом. Он лишает его личной свободной взаимной связи его с Источником жизни, Самим Богом. Как все человечество, так и единичные частные грешники, посредством своего в себе греха порвавшие живую связь с Богом, через это порывают связь и с самою жизнью, со всякими духовными благами и быстро лишаются в себе духовных сил: творческих талантов, могучих способностей своего ума, чуткой прозорливости своего сердца, неиссякаемого потока деятельной энергии своей воли, чуткости и остроты своей совести, лишаются они в себе и самой человеческой сущности, как таковой, которая коренится в религиозности, нравственности и самой предрасположенности к творчеству добра в людях. Грех делает грешника жалким и бедным существом. Он обрекает его влачить свое существование в ужасном одиночестве. Бога уже с ним нет. Грешник, лишившийся Бога в себе, лишается и всяких других духовных благ; с лишением же в себе всяких духовных благ, он, наконец, лишается в себе и самого последнего блага – это радости в себе. Когда грешник лишается в себе радости, как последнего блага, тогда внезапно грех предает его самому ужасному рабству, тогда вместо Бога для него является богоотчужденность, вместо прежней в нем религиозности овладевает им неверие, сомнение в существовании бытия Божия, лживость его ума, самооправдания в своем грехе, коварная замена истины неправдою, тогда в нем вместо бывшей нравственности выступает полнейшая наглость к оправданию в себе и других всяких пороков и страстей. Тогда самое зло становится для грешника самою его жизнью. Тогда он становится полным рабом всех своих страстей и преступлений, тогда он уже теряет в себе как личную свободу, так и самую производительность какого бы то ни было добра. Отсюда, грешник становится на путь всякого проклятия и беззакония. Став на этот широкий путь, он, точно метеор, мчится уже в самую бездну все новых и новых страстей и преступлений, и мчится он в нее без всякой в себе задержки. Вот в таком-то состоянии грешник и испытывает на себе самом все новые и новые формы своего ужасного рабства. Он на этом же самом пути переживает самые последствия тех или других своих страстей и пороков. Так, например, убийца всю свою жизнь преследуется внутренним мучением совести, тревожным беспокойством от внутреннего и внешнего страха и ужаса, кошмарными, неспокойными снами и даже галлюцинациями. От него ни днем, ни ночью не отступаеют образы убитых им невинных душ; тени его жертв всегда следуют за ним по пятам. Но такое переживание убийцы в себе есть, можно сказать, переживание в высшей степени исключительное, легкое и весьма редкое. Большинство же убийц тотчас после совершения ими кровавых преступлений караются правосудием Божиим тем, что на самом месте преступления сплошь и рядом расплачиваются своею жизнью за отнятую ими жизнь у других! Часто этот страшный грех влечет убийц даже и к самоубийству; если же не это, то они зато в тяжелых, но медленных муках, страданиях по тюрьмам и на каторге, со жгучим отчаянием в своем сердце совершенно погребают себя заживо в могилу.
Возьмем другой порок – это разврат. О, как он страшен, жесток и безжалостен ко грешнику! Разврат прежде всего лишает грешника чувства воздержанности, стыда и умственной моральной чуткости, остроты и дальнозоркости! Для грешника, находящегося в рабстве сего гнуснейшего порока, вся его внутренняя и внешняя жизнь сводится к одному: как бы все больше и разнообразнее предаваться похоти плоти! Он ни о чем не думает, как только об одном этом предмете своего сладострастия. Все его мысли, все его чувства сосредоточены только на этом постыдном грехе. Этот грех для него – все. Впадая в сей грех, он не замечает, как физически и духовно беднеет, мельчает; делается этот грешник льстивым, лживым, хитрым, коварным, неуравновешенным, зловредным, жестоким, ревнивым, дерзким, рабски пресмыкающимся, слащавым, до виртуозности лицемерным. Перед кем ему нужно прикинуться религиозным, он без всякого позора и стыда и затруднения прикидывается прямо таки живым возносящимся на небо. У него в это время лицо делается постным, очи опущенными долу с полными горячих слез взорами, они то часто у него загораются огнем сладострастия, то совершенно потухают. На всем его лице лежит тяжелая грусть, уста его сомкнуты, частые деланные или сердечные вздохи, медленная его поступь и т. д. – все это он делает с тою целью, чтобы показаться святым, праведником и т. д., и через это поймать в свою паутину намеченную им жертву. Если же это не удается, тогда он принимает другой вид, вид уже безбожника, ни перед чем и ни перед кем не останавливающегося, он сейчас же принимает позу интеллигентного просвещенного человека, и даже ученого, пускается в самые отвлеченные разглагольствования обо всем и, в частности, о Боге, чтобы выявить себя всезнающим, чуть ли не гением, чтобы как можно скорее бросить пыль в глаза своей преследуемой им жертвы, чтобы в этот момент хоть на малое время прослыть хотя бы в глазах своей этой жалкой преследуемой им жертвы человеком универсального ума с богатой эрудицией научного опыта, с колоссальным знанием законов природы, в роде пресловутого О. Бюхнера или невежды Древса, чтобы доказать тем, перед кем он облекается в тунику первоклассного философа или самого Мефистофеля, что Бога нет и что ему, как светилу науки, давным-давно все это известно. Если же ему почему-либо не удается и этой сатанинской приманкой поймать в свои коварные сети преследуемую им человеческую душу, тогда он пускается уже на другие тысячи низких, подлых и лживых способов, лишь бы только была достигнута постыдная цель: развратник становится полным рабом своей преступной страсти, в нем разврат уже окончательно испепеляет его самого, как человека, и если он и существует в виде человека, то существует, как один разврат в образе человеческом, и только. Но это не все. Страсть эта в нем не останавливается на полпути, она ведет развратника к самому концу его расплаты за все его сладострастия. Развратник, чем больше предается своему сладострастию, тем в нем все больше и больше возникает нестерпимая жажда: как можно больше и чаще разнообразить свою эту адскую страсть. Он доходит до того, что оставляет блудниц и переходит на невинных детей, оставляет детей, переходит уже на другую плоть… Здесь его ждет окончательная погибель. Здесь, на этой ступени разврата, сама природа раньше еще самого правосудия Божия карает его, и карает безжалостно: она лишает его ума или наделяет его неизлечимою болезнью, венерией, или приводит его к самоубийству. Вот то, к чему рабство греха в конце концов приводит человека.
Возьмем теперь для примера третью страсть – это воровство, грабеж.
Узники мои! Страсть эта не менее сильна, чем две первые; она волю человека покрывает нестерпимым зудом клевтобредом. Одержимый этой страстью грешник ни о чем так не думает, как о том, как бы что украсть, как бы кого ограбить. Его мысли всегда напряжены в этом направлении, его волевая энергия лихорадочно сгорает больше, чем у кого-либо; нервная его система всегда находится в быстром колебательном состоянии. Страх и надежда, риск и отчаяние с неимоверною быстротой всегда сменяются в его сознании. Постоянная ставка своей личной жизни на карту – существовать или не существовать – лишает его малейшего покоя. Он всегда подозрителен, скрытен, лжив, изворотлив, коварен, самолюбив, хвастлив, щедр для благотворительности, жесток к подобным себе грешникам, деспотичен, лицемерен, прикидывается всегда казаться невинным, добрым и т. д. Эта страсть, поскольку бывает далека от разврата, постольку она близка к страсти убийства. Убийца и грабитель – сросшиеся между собою близнецы. Нет вора, нет грабителя, у которого бы руки не были запачканы кровью ближнего; нет и убийцы, который не был бы вором, грабителем. Эти две страсти одна другую питают собою.
– Воистину так, – вдруг раздался из толпы голос.
– Вор, грабитель, как и убийца, часто раскаиваются в своих гнусных преступлениях, но такое раскаяние бывает у них ничем другим, как вырвавшимся криком души их! Плачет, рыдает, кричит душа их от того, что в них страсть сделалась уже не второй природой, а первой. О, как эти страсти мучительны для грешников! Часто душа подобного грешника сухими слезами оплакивает свое жалкое, гибельное состояние, а такие слезы хуже самой смерти для нее! Часто вор, грабитель, благодаря своей преступной деятельности, соединенной всегда со страхом, с большим нервным потрясением карается самой природой, в роде эпилепсии или, говоря просто, падучей, черной болезнью. Все это рабское служение человеческого «я» греху.
Отсюда перейдем к четвертой форме рабства греху – это властолюбие. Эта форма греховного рабства самая чудовищная и самая мрачная! Страсть властолюбия всегда облечена в траурное одеяние. Она всегда во всем видит смерть, погибель. Грешник, проникнутый сею страстью, всегда непрестанно ноет, ему кажется: все обречено на неизбежную смерть. Ему чудится, что даже Сам Бог не так создал мир, не так о нем промышляет, как бы нужно его создать и о нем промышлять. Он смотрит на самые законы природы и видит в них один недостаток. Он клеймит проклятием, негодованием и позором формы и все узы общественной человеческой жизни, он во всем видит один лишь страшный хаос. Все это он делает с той целью, чтобы свою личную властолюбивую волю противопоставить всему существующему. Он думает, что таков сам по себе мир является только потому, что сам властолюбец сей не бог, что он не управляет миром, что самая кажущаяся ему такой хаотичной общественная человеческая жизнь только потому такова, что он не всемирный монарх. О, Великий Боже! До какого безумия может довести эта ужасная страсть – властолюбие. Она отнимает у человека ум, она насквозь пронизывает его жгучим адским огнем желания каким бы то ни было способом достигнуть ему желанной цели. Власть – это самая прихотливая богиня, она без жертв никому не дается. И вот, властолюбец для умилостивления и снисхождения сей кровожаднейшей богине приносит бесчисленнейшие жертвы. Но какие жертвы? Золото? О, нет, эта богиня никакого аппетита к нему не имеет. Какой же жертвы? Может быть, кровавых, животных жертв? О, тоже нет, она смеется над такою жертвою. Какой же жертвы? О, страшно сказать! Эта богиня требует для этого десятков, сотен тысяч, а то и миллионов человеческих жертв! Она никогда сама не сходит и не спускается с высоты своего трона ни к кому, наоборот, к ней самой нужно подняться и подняться только по горной цепи одних человеческих черепов и только! Тому она отдается, кто больше других для нее прольет человеческой крови, кто до самого ее трона воздвигнет из одних человеческих черепов самые высочайшие горы! Слышите, мои милые узники, какой ценою достигает своей желанной цели властолюбец? Вот что из себя представляет эта кошмарнейшая страсть. Но когда властолюбец достигнет своей цели, он и тогда даже и один момент не может без ужаса чувствовать себя. После сего, может ли он без отвращения к себе смотреть на самого себя? Может быть, вы скажете, что это исключительные страсти, а потому в своих последствиях они невыносимо ужасны? Нет, мои возлюбленные, все страсти – это ветки одного и того же ствола – зла, а зло – от диавола.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































