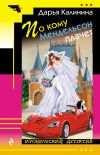Автор книги: Станислав Зиновьев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
По волнам мирских будней, человеческих деяний, Божественного промысла
Из дневниковых записок
***
19 ноября. 1999 г.
Перебросила поправки к трем пьесам на компи (компьютере). Смешно получилось. Выхожу вечером, а в лифте кто-то кричит: «Эй, люди!» Сначала испугалась, потом слышу: «Мы застряли, сходите в диспетчерскую». Когда рассказывала, Литочка решила, что я репетирую пьесу и тренируюсь:
– Так не говорят.
– Нет говорят. Это из жизни.
Но потом сделала в переводе: «Эй, есть там кто-нибудь?» Где под «там» подразумевается и хозяин всего движущегося и думающего, и конкретный хозяин тюрьмы. (Обычно эту пьесу Уильяма Сарояна переводят как: «Эй, кто нибудь!»)
***
19 ноября – День рождения Рубика. Шлю (умозрительно) любовь и самые теплые пожелания брату. Пусть будет счастлив со своей милой семьей.
Мы много раз отмечали вместе не только дни рождения Рубика, отмечали давным-давно его защиту кандидатской диссертации… Помню, как я волновалась, чтобы сказать что-нибудь особенное дорогим дяде Копе и тете Марусе, что мы счастливы успехами их любимого сына и нашего брата. Рубик был любим всем кланом Чайлахянов от мала до велика. И когда он был, как мама говорила – «черным принцем», и, соответственно, кружил головы девицам и был еще легкомысленным повесой; и потом, когда он стал настоящим семьянином и у него появились чудесные девочки – сестрички наших с Араиком девочек. И мы уже устраивали детские праздники с шарадами и именинными тортами. Рубик достойно продолжил научную составляющую нашего семейного клана и Араик видел в нем и славного коллегу, и второго главу рода Чайлахянов. Первым после папы, Михаила Чайлахяна, был, конечно, Левка. Вот такой у нас был семейный двухглавый Арарат – Сис и Масис.
На одном из наших веселых семейных встреч в доме у Рубика я почему-то сказала тост: «За встречу в Ростове-на-Дону». Уж очень мне приглянулся этот городок (и особенно монастырь Сурб-хач), после нашего с Араиком путешествия в Донские земли. Представила, как мы бы всем семейством Чайлаховых и Келле-Шагиновых выезжали бы в пределы живописного монастырского сада на праздничные ярмарки с шатрами, самоварами и гуляниями в славный праздник «Вардавар».
И всегда я подмечала этот удивленный и любознательный вопрос в глазах Рубки. Он помнил меня маленькой, смешной и трогательно – нелепой. Еще с тех пор, как я, будучи отличницей, заявила, «что подсказывать нельзя».
– На нее посмотри!
Рубикин возглас включал в себя и возмущение и восхищение моей прямолинейностью и какой-никакой «чайлахяновской» неподкупностью.
И это уже стало присказкой к нашим всем последующим встречам.
Помню, как Рубка подарил моему папе, своему любимому и уважаемому дяде Мише, цветной вращающийся и светящийся фонарь и включил его, и сам, не отрываясь, с восторгом демонстрировал свой подарок. Во всех моментах нашего общения присутствовал какой-то избыточный градус родственного тепла и как жалко, что последние годы мы виделись значительно реже
Много позже, уже после 80—летнего юбилея Рубика и отзвучавших фанфар и звона бокалов, объятий и цветов и даже вальсирования в честь юбиляра, мы на следующий год оказались в Земле обетованной. И плавая в резвых и чистых водах Средиземного моря, я вдруг вспомнила:
– Араик джан, а ведь сегодня День рождения Рубика. Это было 19 ноября 2018 года. Мы за него выпили с нашими друзьями, у которых тогда гостили в Ашкелоне. Такие вот бывают повороты в жизни…
Но все это будет спустя много лет…
***
24 декабря. 1999 год.
Мы и не знали, что родился Данилка, хорошо! Теперь Алешка Сикорский – дед, не кровный, но все же… Пришел Левка, выигравший, а есть нечего, было всего четыре сосиски: одну съела, вот и весь обед. Левка кинулся было к Володе Буравцеву, что жил рядом на проспекте, их не было. Тогда брат осознал всю ситуацию и говорит вдруг:
– Давай-ка я лучше пойду и что нибудь куплю.
Он купил пельмени, котлеты и водку. Араик докупил селедку, или как она там называется, и мы устроили католическое Рождество. Пародию на картинку, что висит наверху – там осетрина с икрой и огурцом, а у нас свои”канапе»: на хлебушек кусочек «тещи» – это так называется рыба, лучок и запиваем водочкой, чем не изыск. Еще и квашеная капуста нашлась. Так и забавляемся, только пить мне нельзя, из-за финлепсина, поэтому я капаю «ми катил» («одну каплю» арм.) водки в хрустальный стакан, лимон выжимаю и водички из-под фильтра, и упиваемся, упиваемся…
Араик хорошо высказался о празднике, который Лева всегда приносит с собой, и вспомнил, как осмелился и сказал нашему с Левой папе: «Еще неизвестно, Михаил Христофорович, кто из вас более крупный ученый». И как тот улыбнулся уголками рта, незаметно, в повороте. А Левка радостно подтвердил, что мы поддерживаем традиции дома (видно неплохо ему у нас, дай-то Бог!) и храним, как заветное, мамин и папин Дом.
В лоне родной Армянской церкви. Рождество Христово
Церковь Сурб Арутюн,
что в пределах Армянского кладбища
***
Но, конечно, самым главным событием было Рождество Христово, отмечаемое в армянской церкви по традиции первых христиан в один день, вернее друг за другом как праздник Богоявления, Сочельник, Рождество, и на следующий день Крещение с раздачей святой воды.
Мы обычно ездим вечером 18-го января.
Раньше, при архиепископе Тиране, армянская церковь в Москве ориентировлась на Крещение в Православной русской церкви, чтобы на следующий день после Рождества раздавать святую воду прихожанам. И наш заветный сочельник был именно 18 января.
Я поехала первая, сначала читали книгу Бытия, там были все: и србазан Тиран, и хайр Нарек, и еще три священника, а молодой хайр Тиран пришел попозже. Потом было отпущение грехов, и мы как истые грешники стояли на коленях на голом каменном полу, из двери дуло, а голова была замотана так, что чуть дурно не становилось от духоты. Србазан Тиран читал список всех смертных грехов, и мы отвечали «грешен» («мегхк ем». арм.) – и он отпускал грехи (конечно, Господь через него отпускал). Сначала мы были все согбенные, уничтоженные собственными грехами, потом встали, распрямившись и освободившись от всех грехов прошлых лет, совершенных в прошлом столетии, и началась служба. Я запомнила, что сначала идет «пещное действо» с Мисаилом, Ананием и Азарией. Выстояли они, не поклонились золотому тельцу, как того требовал царь вавилонский Навуходоносор, кинули их в горячую печь, но вышли они оттуда невредимыми.
Потом еще читали по ходу службы из книги Бытия, и Символ Веры, и мое любимое место – «Кристос и меч мер хайтнецав» («Христос посреди нас»), и хайр Нарек передал мне апостольское (я бы сказала самого Христа) благословение. Вообще мне в этот раз показалось, что я отчетливо ощутила высокую миссию священников, их святое посредничество, без которого можно было бы и «потеряться в пути», а наши «теры» помогают нам добраться до духовного измерения, в котором уже каждый в меру своих сил общается с Богом. Спасибо им…
Если кто наблюдал за мной, то понял бы, что я нахожусь в некоем смятении чувств, во вздорном беспокойстве. То подойду к подоконнику, посмотрю на сумку и венки, что лежат на окне, а под ними и над ними мои многочисленные шарфики и перчатки. То придвигалась поближе к амвону, и молилась, и получала апостольское благословение через наложение руки на главу, то стояла на коленях и получала отпущение грехов, потом вдруг увидела горбоносый и смуглый профиль учительницы детей – текин Искуи, или Ирочки Таронаци. Она как-то помолодела, и я почему-то сначала от нее пряталась, а потом как-то расслабилась, помягчела и уже искала ее глазами, и под конец передала ей ншхарк для причастия. (Вспомнила про тетю Сафо и ее шляпку: как она перекладывала ее в течение всего своего визита к нам на дачу и никак не могла найти для шляпки подходящего места. Тогда смеялась, а вот теперь такая же стала.) Меня даже усадили на какое-то время, в уголок, т. к. «вьюноша» решил, что мое беспокойство связано с желанием поудобнее устроиться и что я выворачиваю шею, чтобы найти свободный стул. Потом купила свечи и постояла над ними, в связи с зимой поставили два устройство с песком под иконой «Моление Христа о чаше», и «Богородицей с младенцем Христом», кисти Овнатаняна. Наконец пришел Араик, мы причастились у амвона (тер Тиран-молодой), потом возложили венки на родные могилы… Молились об упокоении их душ, а снег был чистый и сияющий, как бывало неизменно во все эти годы. Мадлены не было, я часто попадала в ее объятия и мы целовались. Она все же позвонила попозже, поздравила.
***
Жизнь, как большой город с искривленным пространством; и какое разное время живет в его переулках. Вот великолепный дворец, там молодость, богатство, будущее, надолго ли? Это другой вопрос, но пока, хотя бы несколько мгновений оно присутствует, а вот другой, все в нем обветшало и вот-вот вся хижина вместе с его обитателями развалится, как в пьесе Блока «Балаганчик», когда улетают все декорации, и как это случилось с тем, кому она посвящена (Мейерхольду), когда в одно мгновение исчезли все декорации его жизни.
И когда все разлетится, развеется – мы будем плакать («наша шалунья девочка-душа») будет плакать над призраками смерти, поманившими Коломбиной, или Арлекином, или воякой и оказавшимися вдруг картонными. Фу, какой декаданс… Господа, мы не в начале XX-го века, мы в начале XXI-го, тут свои законы, а какие – мы еще не знаем. Поживем-увидим.
Празднование Дня Рождения Араика. (О «золотых временах» и о Григориче.)
Готовимся, готовимся, ух, как готовимся. Морковку чистила, все руки пожелтели.
Чего-то я все про хозяйство, надо бы снова воскресить обряд написания стихотворных пожеланий – мама это умела делать мастерски.
Эти приготовления тайных сюрпризов очень освежают и радуют душевно. Помню, когда детки были совсем маленькими, их любые творческие шажки поддерживали меня в мысли, что мы не ошибаемся в своей системе воспитания. Араик приходил с работы и после того, как я кормила любимого мужа обедом, радовала его новостями о том, что Анечка чудесно нарисовала Буратино, а Литочка написала интересное продолжение сказки о Водяном, мы пили кофе, если было тепло – на нашем заветном балкончике, и с любовью и надеждой смотрели в будущее детей.
Какие нам горизонты открывались… Кажется, что-то сбылось, с Божьей помощью.
И вот 19-го января я решила, что нельзя нас оставить без пожеланий деда Мороза. Думала, думала, в прозе надоело, и вот что вышло. Араику я еще в первый год нашей совместной жизни посвятила такой акростих:
Артист душой, Рукоумелец, Арменов сын младой, И плюс к тому Красив собой.
Честно говоря, совершенно не помню его реакции. То, что я сочинила в этот раз, не было оригинальным, но соответствовало духу пожеланий, что пишут близким на праздник, а, главное, я в это свято верила и верю и сейчас, помогало исполниться счастливому варианту судьбы.
Араику:
Будь веселым и добрым, как май,
Хоть родился в седом январе.
Не грусти никогда – мы так любим тебя,
И желаем, пусть будут всегда:
Дом – полон гостей,
Рот – полон сластей,
Сердце – любовью полно,
Счастье и слава с тобой заодно.
Анне:
Весельем сердце напои,
Любовью душу опьяни.
За верность своему призванью —
Тебя ждут Слава и Признанье.
Лилит:
Пусть счастье светит впереди,
Дерзай, пиши, твори, люби.
Как сон промчится этот год —
И Милый друг к тебе придет.
Все написано на открытках: У Араика – пленительный пейзаж Тавриды, работы Богаевского; у Анечки – «Автопортрет» Серебряковой; у Литочки – «Дама в голубом» Сомова; а у меня Дама в черной шляпке, Бакста, под названием «Ужин».
И что интересно – деткам получилось написать пресловутым, но прославенным Пушкиным ямбом, Араику в торжественной форме анапеста, а себе… Получилось в размеренном стиле недо – гекзаметра, в пентаметре, стиле, характерном для элегий.
Мне:
Верной ты будь и премудрой, как в старое время,
Многие годы ушли, но ведь что-то осталось.
Будет награда тебе, многотерпкая наша,
Счастье, любовь и признанье твоих современниц,
И современники тоже цветами тебя закидают.
Все от Деда Мороза и Д.Д. (доброго друга.)
И Благословение: Храни тебя, Господь. Рождество Христово 2000 год.
Будто маленький мальчик позвонил в дверь, передал открытки и убежал.
А в субботу весь день готовка: плетенье вечера, и чистка, и диспозиция, расстановка, чтобы удобно было сидеть.
Были званы семья брата Левки и семья Травкиных.
Травкины – это младшая ветвь друзей в трех поколениях, еще с начала прошлого века. Старшие: Башмаковы-Аладжаловы, Бусурины – дядя Женя и тетя Таня и Травкины: Сережа, Анечка и их детки.
Младшая сестра Анечки – Леночка раньше участвовала в наших вечерах. Как-то после моего прочтения на одном из наших веселых новогодних застолий «Сусального ангела» Александра Блока, она меня робко спросила: «Это ты написала?». Такого комплимента я больше не получала. Надо только добавить, что ей тогда было лет десять. Теперь Леночка со своей славной семьей уже переселилась в теплые края…
Вечер разгорался постепенно…
Какой-то момент была паника, что Анечка (Травкина) ушла и неизвестно, когда придет. Потом Сереже позвонил, что она уже пришла (около шести вечера, задержалась в магазине), и что они берут машину. Верочка (детское имя Пупа привычнее) двигается к нам своим ходом, а они едут. И Левка с шахмат, традиционных, уже пришел.
Вечер, считай, состоялся. Как в добрые старые времена: пили много вина и водки (И Лева здоровенную принес, и Сережа), и коньяк – от Акопа, очень ароматный, и ели салаты, закуски, долму, и тосты говорили, и говорили, и говорили…
– Ура-а-а, – кричали за именинника.
Титульные тосты: за близких, за друзей, за детей, за старшего названного брата Араика – Леву, и за папу – М. Х. Сережа сказал тост за Леву, что он самодостаточен, что его пока не понимают, а поймут так лет через пять. Имеется ввиду его работа по сознанию. Левка на эти слова не купился, а нашел повод и яростно спорил с Сережей, я тогда не очень поняла, по какому поводу. В какой-то момент стол, как единое целое, перестал существовать и разделился по половому признаку: за мужским центром рассказывали науку, у нас в уголке говорили за жизнь. Я, глядя на ученых мужей, предложила тост за мужчин, причем выпить стоя (как выпили некоторые женщины в армянской общине по команде Альбины Нерсесовны). Мужчины наши спохватились и все трое (Сережа тоже подпевал) спели «Крамбамбули» и выпили за дам. Прекрасно, прекрасно.
Чуть позже пришли еще две дамы и мы пили за них. Моя славная племяша Тома мне комплименты делала и не велела стричь волосы. Иночка пела, голос сел немного, но музыкальность прежняя, и даже немного помягчел – «органность» появилась. Пела те наши любимые армянские песни, которым мама и научила свою любимую невестку. Песни были отменные: слова Туманяна, музыка Комитаса.
«Лорик» – это перепелочка, оказывается, это метафора, «ты – моя перепелочка», это обращение к девушке, «сиравор лорик, виравор лорик» (любимая, нежная, перепелочка ты моя…) и т. д. От любви к ней он сходит с ума. А во второй, «Гедаки вра», я воспринимала ее как философскую: воды текут, время течет, жизнь уходит, и образ ивы над водой, как метафора грусти. Отнюдь нет, оказывается (почти как в «Метаморфозах» Овидия), ива была прежде девушкой, потом от грусти превратилась в плакучую иву, и вот так и стоит, пригорюнившись, окуная свои ветви в текучие воды.
Потом была «Калитка», и, конечно «Аве Мария» Шуберта.
И тут под конец Сережа стал всех спрашивать, о чем же поется в этой песне-молитве? «Удручены мы тяжким горем, на голой земле, на скале над водами (житейских бурь) ночуем, в надежде, что Богородица прогонит страшные сновидения, пройдет ночь, и настанет нам освобождение». Это опять метафора, после тяжкой земной жизни – душа обретает новый свет и освобождение. Смерть? Или просто душа и тело будут находиться в разных измерениях, тело еще на земле, а душа уже на небесах, а вдруг такое возможно?
Сережа, по-моему, остался недоволен ответом. Потом опять забубнили все, и тут я подняла тост за Акопа, за Таню, за всех тех, кто хотел бы быть с нами, кто был душой с нами.
Как нас согревает дружба Акопа, интересно, ему наша что-нибудь дает? Дай Бог нам встретиться в 2000-2001-ом в Ереване. С Божьей помощью попадем туда и встретимся. Потом стали вспоминать папу (М.Х.) и говорить о том, что в его присутствии оказаться на высоте, услышать и быть услышанным, войти в высоко разреженную атмосферу духовных усилий и стать своим – очень трудно, и что это удалось Араику. С этим абсолютно согласна и за это выпили.
Но я не могла оставить, не могла позволить, чтобы не выпили за всех тех, кто животворил нашу жизнь, и стала рассказывать сон про поездку на море, про разговор с дядей Женей.
Сон: Дядя Женя говорит будто бы:
– Я вижу, вам трудно, вы езжайте на южное море на лето, а там, может, и вообще пристроитесь жить. На Баренцово, там Гольфстрим. (Какой провидец, однако).
И едем мы в машине, и тетя Таня с нами, едем мы так в будущую жизнь.
Все заинтересовались, чем же дело кончилось, устроились ли мы? Мы едем, а там видно будет.
p.s. А Лилитке приснилось, что лето и мы плаваем. Хороший сон.
Потом стали говорить про души людей, которых мы, любя, взяли с собой в XXI-ый век, и бабу Катю вспомнили, и Веру Андреевну. Левка стал вспоминать Григорича, Грэню, и вечер с Пастернаком, и как дядя Андрей учил его пить, и никто не заметил, т.к. все ставили шарады (ему четырнадцать, а я вообще еще отсутствую). Выпил, ух какое счастье и сила вошли, и так здорово все показалось, зато потом все потускнело и вторая половина вечера была очень мучительной. Ну и, конечно, про дядю Наири, который посвятил стихотворение Белле Башмаковой: «Инчу чес хосум хайерен» («Почему не говоришь ты по-армянски»). И папа спустя несколько десятков лет собирался привести группу армян из пансионата «Звенигородский» в Верхний Посад, где на даче жила семья Башмаковых, чтобы познакомить с адресатом. Но Белла отказалась, боялась оказаться не на высоте. Помнила, как видела Дельмас (воспетую Блоком) и не могла в это поверить.
– Не хочу, чтобы и со мной так же было, – сказала она.
– Зря, – добавила я, – поглядели бы на нее и на тетю Таню, не разочаровались бы. (С днем ангела, тетя Танечка, в далеком Кельне.)
Потом звонил Юлий Александрович Лабас. Жаловался на Б. Его статью напечатали в Nature, а в нашем не стали. И потом некоторые коллеги сказали, что это позорит науку, и что его место «под нарами у параши». Вот ведь зависть и раздражение, что не поставил в известность. В общем, они долго обсуждали все это по телефону. Лева предложил перейти к нему в лабораторию. Пока они говорили, Сережа успел произнести слово о «Горшке».
Эпидейктическое (хвалебное) слово о «Горшке».
– Мы так знаем друг друга, так привыкли и так много говорили в течение многих лет, а все же притираемся друг к другу теми углами, которые образовались. Потому что мы живем в чем-то все-таки разными жизнями, особенно с утра (вот тут было про горшок), все оживились, вспоминая утренние бдения у туалета.
– А потом – продолжал Серж, – все меняется и что-то происходит и наступает некая гармоническая идиллия, понимание, союз сердец.
Как я раньше ценила все это, собственно ради этого всех и собирала. Что это за мысль, которая вдруг всех объединяет, или чувство, или каждый вдруг ощущает себя таким необходимым и нужным вот именно этим, сидящим напротив людям, они тебя слышат, восхищаются твоим тонким умом и остроумием, твоей красотой, умиляются вашими прошлыми шалостями. Нет, право, нет ничего лучше таких моментов. И опять навязчивая та мелодия: «Жизнь – это миг между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь».
Выпили памяти Отца Александра (Меня). Говорят, что он был совершенно сияющим, удивительно лучистым человеком, это, наверное, и есть самая сильная сторона его учения…
***
Что бы нам этакое затеять, а? Собраться и сделать… Ничего, кроме «Масок», которые инициировал Б.Н., не получается. Да и они уже скрипят, еле-еле, все никак не доделаю 10-ый номер. Нужно общение, а то я как в бункере сижу, на дворе мороз – и носа не высунешь, а у меня то десна, то щека, то живот, то голова, то печень, то судороги. В общем проверка – явка: «и я здесь, и я», – кричат все мои составляющие члены, жива, стало быть, пока. Но при этом жить-то и не хочется. Писатель – это не пасущий, писатель – это боль. Стало быть я – писатель.
***
О тех золотых временах, когда все были живы…
А Григорич, это не настоящее имя, это я так в раннем детстве сократила его имя отчество, и Григорий Георгиевич стал Григоричем. Он был другом Фоди, старшего брата папы еще в 10-е годы прошлого столетия. Как-то он привел показать свою очаровательную невесту Анечку Аладжалову друзьям, а четырнадцатилетний Миша сидел и читал книжку в саду. Аня, увидев симпатичного мальчика, так одиноко сидящего в саду и видимо стеснявшегося их общества, решила подбодрить его, подошла и спросила: «Мальчик, мальчик, как тебя зовут»? «Я не мальчик», – мрачно ответил Миша.
Фодя умер молодым от скоротечной болезни, «гениальный» Фодя называли его друзья, а братья и сестры нежно любили. С 20-х годов жизнь семьи Чайлаховых протекала в Ереване. И, наверное, так все и кончилось бы, если бы не неожиданная встреча.
В 30-ые, да и потом в 50-ые годы не было на земле лучшего места с хорошим климатом, сосновым бором, и купальнями, чем Кратово и Малаховка. «Казанская дорога, сухой и умеренный климат – говорили врачи, видя частые ангины и тонзиллиты, – вот что лечит горло». Мы на протяжении двадцати лет с перерывом на войну и эвакуацию снимали дачи в этих благословенных местах. И папа, увидев с террасы гуляющего красивого человека, кавказской наружности, загадочно улыбнулся и сказал: «Тамара, пойди спроси фамилию у этих людей, там ходит человек, очень похожий на Гришу Башмакова». Семья, поселившаяся рядом на даче (35—36 год), оказалась действительно семьей Гриши Башмакова. И уже в другом месте и в другое время М.Х. часто начинал свой тост, обращенный к друзьям, так: «Наша, почти полувековая дружба…» И Анечка Башмакова кокетливо сетовала: «Ну, Миша, какие ужасные вещи ты говоришь». Женщина всегда женщина.
И с тех пор наша дружба в поколениях длится, длится…
Они долго жили рядом, мы на Б. Коммунистической, а они на Воронцовской. В моем детском представлении он был всегда уже сильно в возрасте, с красивыми глазами, нависшими над ними седеющими бровями и воркующим баритоном. Дамский угодник, он шептал нам на ушко комплименты и обещал: «Я буду с вами танцевать, я закружу вас в вихре вальса». Все смеялись и отбивались, когда он хотел поцеловать юных дев своими мягкими губами. На пляже густая поросль на спине и груди привлекала всеобщее внимание. «По мне сразу видно, что человек произошел от обезьяны», – подшучивал он над собой. Милый, милый Григорич. Он был очень раним, а в глазах жила неизбывная печаль. О чем? Ему бы быть художником, свободным артистом… Он же был довольно известным адвокатом. Его жена, та самая Анечка из Ростова, сочинила о нем замечательное стихотворение, прославляющее его дар: " Иван, ты снова без оков. Кто твой защитник? Башмаков!“ Но не всегда удавалось ему защитить своих подопечных. Когда одного из них приговорили к смертной казни, Григоричу стало плохо прямо в зале заседаний. А этот преступник, так гласит семейное предание, сказал ему убежденно и утешающее: „Не волнуйтесь, Григорий Георгиевич, я убегу…". «Миша, ты понимаешь, надо доказывать вину, исходя из презумпции невиновности, еще со времен римского права, а не наоборот». Мы с интересом прислушивались.
(Из дневниковых записок, продолжение)
***
А наш субботний праздник все длится:
Потом заговорили о бытовом, кто где что получает и чего не получает, потом ушли на Ленинский с гостинчиком для Тани. Да, еще мы пожелали, чтобы наши дети вспоминали свое детство как золотую пору, и нас, как самых замечательных и значительных людей. И так же говорили о нас, как мы о своих старших..
– Ну да, – сказали наши скептики, – будем говорить о том, как много вы говорили о том, что жили среди людей золотого века.
… – Анька, я-то хорошо помню, как Сережка на тебя смотрел. Ты для него заморская царевна была. Ух, как хороша!.
В конце вечера – затишье… Холодно вокруг – снежная Москва, зима средней тяжести в северном городе, за окнами метель, а тут будто в другом пространстве, оторвались от зимы, ото всех тягот и забот. На столе изобилие (это приятно слышать), сидят милые дети, любимые жены, все красивы, журчит разговор, тихий, иногда накаляется до страстного спора и снова журчанье. (Журчанье и в ТВ – это строят водопровод в Древнем Риме, или бассейн). Это ли не Рай. Он ведь, наверное, таковым и был. Скольких людей мы поселили своим воображением и своей памятью в нем. Время, будто в сумасшедшей сказке Льюиса Кэрролла, вертелось то вперед, то назад, то застывало и растекалось, как у Дали, по поверхности настоящего мгновения. Хорошо. К двум часам все же разошлись. Виртуозно помыли все и к четырем часам улеглись.
23-Го. Января С утра опять звонил Лабас, здорово его потрепали. Ничего, надеюсь, Левка сможет ему помочь. Незаурядный он человек. Но спросонья с ним, наверное, трудно. Утром чуток опохмелились и поели ту квашеную капусту, которую забыли накануне. Ели торты, хорошо завтракать после пиршественного стола. Левка съездил по своим делам и уехал до пятницы.
***
«Райские кущи Мемориума». Есть зимний рай в теплых кущах квартиры, с застольем, когда вино льется рекой, и хвалебные эпидейктические речи наплывают одна на другую, есть летний рай с бликами солнца на воде (реке, море, озере) с томлением летних закатов и пахучим разнотравьем и теплыми камнями прибрежных скал и… А есть умозрительный рай – это память, и оттуда нас никто не в силах выгнать, а есть еще рай мечты, он неуловим, мысль прекрасная, успокаивающая только осела на кончике сознания – и вдруг: «Фью – ю», – и нет ее… И такая жалость, и чувство, что если бы вспомнила, то сразу бы и прозрела и ухватила Синюю птицу, но не за хвост, это безжалостно, а поместила бы на жердочку под окном, и сидела бы с ней и разговаривала каждый день и все смотрела бы на нее. Вот такие «Утешительные беседы с Синей птицей».
***
1-Января 2000 года. Итак перелет, переброс, переход состоялся. Мой, казавшийся необычайно громадным, список почти состоялся и завершен, часть людей сама поздравила, другой же части позвонили мы сами. Славно, славно. Теперь о том, как встречали Новый Год.
Вот мой стихотворный монолог (слегка измененное и дополненное стихотворение Беранже)
***
Некогда, милые дети,
Добрая фея жила,
Маленькой палочкой в свете,
Делав большие дела,
Только взмахнет ею – мигом
Счастье прольется везде,
Добрая фея, скажи нам,
Где твоя палочка, где?
Палочки больше не стало,
Крылья ношу я взамен,
Чтобы летать на просторе
В гуще житейских измен,
Чтобы сподручнее вторить
Ветру больших перемен.
Дети, летите скорее
В век осиянных надежд,
Будут моря золотые,
Горы небесно-живые,
Люди, года и столетья
В новом тысячелетье
Будут прекрасно благие.
Бьющий оттуда свет,
не умаляя разбег,
Да снизойдет к нам навек.
После этого из белой шали сыплются бумажки – пропуска в будущий Век, с приделанными к ним крылышками. Вот так.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?