Текст книги "Дьюма-Ки"
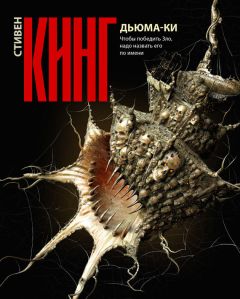
Автор книги: Стивен Кинг
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Глава 7
Искусство ради искусства
i
В баре в гостиной стояла бутылка односолодового виски. Мне хотелось выпить стаканчик, но я устоял. Возникло желание потянуть время, может, съесть на кухне один из сандвичей с яйцом и салатом, подумать, что я скажу жене, но я не стал этого делать. Иногда единственный способ довести что-то до конца – сразу этим заняться. Я взял трубку радиотелефона и прошел во «флоридскую комнату». Там было холодно, несмотря на закрытые сдвижные панели. Я подумал, что холод взбодрит меня, а вид солнца, падающего за горизонт и вычерчивающего желтую полосу на воде, успокоит. Потому что спокойствия мне очень не хватало. Сердце бухало слишком сильно, щеки горели, бедро болело ужасно, и внезапно я осознал, вот уж кошмар, так кошмар, что забыл имя жены. Всякий раз, когда пытался вспомнить, на ум приходило слово peligro – «опасность» на испанском.
И я решил, что до звонка в Миннесоту должен кое-что сделать.
Оставил трубку на диване, прохромал в спальню (теперь на костыле: до отхода ко сну разлучаться с ним не собирался) и взял Ребу. Одного взгляда в ее синие глаза хватило, чтобы вспомнить имя жены, Пэм, и сердцебиение замедлилось. С моей лучшей девочкой, зажатой между боком и культей (ее бескостные розовые ножки болтались из стороны в сторону), я вернулся во «флоридскую комнату» и снова сел. Реба упала мне на колени, и я посадил ее рядом, лицом к уходящему за западный горизонт солнцу.
– Если будешь долго на него смотреть, ты ослепнешь, – предупредил я. – Разумеется, это будет весело. Брюс Спрингстин, тысяча девятьсот семьдесят третий год или около того.
Реба не ответила.
– Мне следовало быть наверху, рисовать все это. – Я обвел рукой Залив. – Заниматься гребаным искусством ради гребаного искусства.
Ответа опять не получил. Широко раскрытые глаза Ребы говорили всем и вся, что жизнь свела ее с самым противным парнишей Америки.
Я поднял трубку. Потряс перед ее лицом.
– Я могу это сделать.
Ответа не последовало, но мне показалось, что я уловил на лице Ребы сомнение. Под нами ракушки продолжали раздуваемый ветром спор: «Ты сделал, я не сделал, нет, ты сделал».
Мне хотелось продолжить дискуссию с моей воздействующей на злость куклой, но вместо этого я набрал телефонный номер дома, который когда-то был моим. Надеялся услышать автоответчик Пэм, но вместо этого в трубке раздался запыхавшийся голос самой дамы.
– Джоани, слава Богу, что ты позвонила. Я опаздываю, и надеялась, что смогу прийти к тебе не в три пятнадцать, как мы договаривались, а…
– Это не Джоани, – перебил ее я. Механически взял Ребу, вернул себе на колени. – Это Эдгар. И ты можешь отменить назначенное на три пятнадцать. Нам есть о чем поговорить, и дело важное.
– Что-нибудь случилось?
– Со мной? Ничего. Я в полном порядке.
– Эдгар, можем мы поговорить позже? Мне нужно к парикмахеру, и я опаздываю. Вернусь к шести.
– Речь пойдет о Томе Райли.
В той части Америки, где находилась Пэм, воцарилась тишина. И затянулась она секунд на десять. За это время желтая полоса на воде чуть потемнела. Элизабет Истлейк знала Эмили Дикинсон. Я задался вопросом, знала ли она Вачела Линдсея[77]77
Линдсей Вачел (1879–1931) – американский поэт. Многие его произведения посвящены Среднему Западу.
[Закрыть].
– А что насчет Тома? – наконец спросила Пэм. Осторожно, крайне осторожно. Я не сомневался, что про парикмахера она напрочь забыла.
– У меня есть основания полагать, что он, возможно, замыслил самоубийство. – Плечом я прижал трубку к уху и начал поглаживать волосы Ребы. – Ты об этом что-нибудь знаешь?
– Что я… что я могу… – У нее перехватывало дыхание. Как после удара в солнечное сплетение. – Ради Бога, откуда я могу… – Она потихоньку приходила в себя, решила изобразить негодование. Что ж, в подобной ситуации – не самый плохой вариант. – Ты звонишь мне ни с того ни с сего и думаешь, что я расскажу тебе, что творится в голове у Тома Райли? Я-то полагала, что тебе становится лучше, но, похоже…
– Ты должна что-то знать, потому что трахалась с ним. – Мои пальцы нырнули в искусственные рыжие волосы Ребы и вцепились в них, словно собирались выдрать с корнем. – Или я ошибаюсь?
– Это безумие! – Она чуть ли не кричала. – Тебе нужна помощь, Эдгар! Или позвони доктору Кеймену, или найди кого-нибудь там, у себя. И поскорее!
Злость и сопровождающая ее уверенность в том, что скоро я начну путать слова, не находя нужные, внезапно исчезли. Я отпустил волосы Ребы.
– Успокойся, Пэм. Мы говорим не о тебе. И не обо мне. О Томе. Ты замечала признаки депрессии? Должна была заметить.
Ответа не последовало. Но и трубку она не положила. Я слышал дыхание Пэм.
– Хорошо, – раздался ее голос. – Хорошо. Я знаю, откуда у тебя взялась эта идея. От маленькой мисс Королевы драмы, так? Судя по всему, Илзе рассказала тебе о Максе Стэнтоне, из Палм-Дезерт. Эдгар, ты же знаешь, какая она!
Ярость угрожала вернуться. Я протянул руку и схватил Ребу за мягкую середину. «Я могу это сделать, – думал я. – И Илзе тут тоже ни при чем. А Пэм? Она всего лишь испугана, потому что все это обрушилось на нее как гром с ясного неба. Она испуганная и злая, но я могу это сделать. Я должен это сделать».
И не важно, что на протяжении нескольких мгновений я хотел ее убить. Более того, если бы она оказалась во «флорид ской комнате» рядом со мной, попытался бы.
– Илзе мне ничего не говорила.
– Довольно этой дурости, я кладу трубку…
– Я не знаю только одного: кто из них уговорил тебя сделать татуировку на груди. Маленькую розу.
Она вскрикнула. Только раз, тихонько, но этого хватило. Последовала пауза. Тишина пульсировала, как черная дыра. Потом Пэм прорвало:
– Эта сука! Она увидела и рассказала тебе! Только так ты мог узнать! Это ничего не значит! Ничего не доказывает!
– Мы не в суде, – напомнил я.
Она не ответила, но я слышал ее тяжелое дыхание.
– У Илзе возникли подозрения насчет этого Макса, но насчет Тома она не имеет ни малейшего понятия. Если ты скажешь ей, у нее разобьется сердце. – Я выдержал паузу. – И это разобьет мое.
Пэм плакала.
– На хер твое сердце! И тебя тоже! Знаешь, я бы хотела, чтобы ты умер. Лживый, сующий нос в чужие дела мерзавец. Я бы хотела, чтобы ты умер.
Я такого по отношению к ней не испытывал. Слава Богу.
Полоса на воде все темнела, напоминая теперь надраенную медь. И цвет продолжал меняться, переходя в оранжевый.
– Что ты знаешь о душевном состоянии Тома?
– Ничего. Если хочешь знать, никакого романа у нас нет. А если и был, то продолжался три недели. Все кончено. Я ему ясно дала это понять, когда вернулась из Палм-Дезерт. Причин тому много, а основная состояла в том, что он очень уж… – Пэм резко оборвала фразу. – Илзе разболтала тебе. Мелинда не сказала бы, даже если б знала. – В голосе зазвучала нелепая злоба. – Ей известно, через что мне пришлось с тобой пройти.
Что удивительно, тема эта меня совершенно не интересовала. В отличие от другой.
– Он очень уж – что?
– Кто очень уж что? Господи, как я это ненавижу! Твой допрос!
Как будто мне нравилось ее допрашивать.
– Том. Ты сказала, основная причина в том, что он очень уж…
– Очень уж неуравновешенный. Настроение у него постоянно менялось. Сегодня веселый, завтра в зеленой тоске. Послезавтра – и такой, и такой, особенно если он не…
Пэм резко замолчала.
– Если он не принимал таблетки, – закончил я за нее.
– Да, да, но я не его психиатр.
Я слышал стальные нотки даже не раздражения, а нетерпимости. Боже! Женщина, которая так долго была моей женой, могла проявить твердость, когда ситуация того требовала, но я подумал, что такая вот нетерпимость – что-то новое, результат моего несчастного случая. Я подумал, что это хромота Пэм.
– Этого психиатрического дерьма я и с тобой наелась до отвала, Эдгар. И теперь я хочу встретить мужчину, настроение которого не зависит от проглоченных им таблеток. Больше говорить не могу, задай свои вопросы позже, сейчас ты очень уж меня расстроил.
Она всхлипнула мне в ухо, и я начал ждать последующего вскрика. Дождался. Плакала она, как и всегда. Не все в нас меняется.
– Пошел ты на хер, Эдгар. Испортил хороший день.
– Мне без разницы, с кем ты спишь. Мы разведены, – напомнил я. – Я хочу только одного – спасти жизнь Тому Райли.
На этот раз она закричала так громко, что мне пришлось отдернуть трубку от уха.
– Я не несу ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за его жизнь! МЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ! Или ты это упустил? – Потом чуть тише (но ненамного): – Его даже нет в Сент-Поле. Он в круизе с матерью и братцем-геем.
Внезапно я понял, или подумал, что понимаю. Словно взлетел над ситуацией, провел аэросъемку. Главным образом потому, что сам собирался покончить с собой, но при условии, что все будет выглядеть как несчастный случай. И заботила меня не выплата по страховке. Не хотелось подставлять под удар дочерей. Самоубийство отца – слишком уж большое пятно…
Но ведь я получил ответ, так?
– Скажи ему, что ты знаешь. Когда он вернется, скажи ему, что ты знаешь о его намерении покончить с собой.
– А с чего он мне поверит?
– Потому что он собирается. Потому что ты его знаешь. Потому что он психически болен и, вероятно, думает, что ходит по миру с плакатом «СОБИРАЮСЬ ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ». Скажи ему, ты знаешь, что он не принимает антидепрессанты. Ты это знаешь, так? Точно знаешь.
– Да. Но раньше мои уговоры принимать таблетки не помогали.
– Ты предупреждала его, что расскажешь, если он не начнет принимать лекарства? Расскажешь всем?
– Нет, и я не собираюсь этого делать и сейчас! – В ее голосе зазвучал ужас. – Ты думаешь, я хочу, чтобы весь Сент-Пол знал, что я спала с Томом Райли? Что у меня с ним был роман?
– А если весь Сент-Пол узнает, что тебе небезразлична судьба Тома? Так ли уж это будет ужасно?
Она молчала.
– Я хочу лишь одного. Чтобы ты встретилась с ним, когда он вернется…
– Ты хочешь! Точно! Вся твоя жизнь – череда того, что ты хочешь! И вот что я тебе скажу, Эдди. Если для тебя это так важно, ты с ним и встречайся! – В ее голосе снова появилась стальная нетерпимость, но на этот раз за ней слышался страх.
– Если отношения порвала ты, тогда ты по-прежнему можешь на него повлиять. И твоего влияния хватит, чтобы спасти ему жизнь. Я знаю, это нелегко, но ты уже влипла в эту историю.
– Как бы не так! Между нами все кончено.
– Если он наложит на себя руки, я сомневаюсь, что всю оставшуюся жизнь ты будешь мучиться угрызениями совести… но, думаю, один тяжелый год тебе гарантирован. Может, и два.
– Нет. Я буду спать, как младенец.
– Извини, Панда, я тебе не верю.
Этим ласковым именем я не называл ее много лет, и не знаю, откуда оно выплыло, но Пэм сломалась. Расплакалась. На этот раз без злости.
– Ну почему ты такой мерзавец? Почему не отстанешь от меня?
И мне хотелось именно этого. А еще принять пару болеутоляющих таблеток. И, возможно, распластаться на кровати, и поплакать самому, хотя в последнем уверенности не было.
– Скажи ему, что ты знаешь. Скажи ему, что он должен пойти к психиатру и вновь начать принимать антидепрессанты. И что самое важное, скажи ему, если он покончит с собой, ты расскажешь всем, начиная с его матери и брата. И как бы он ни старался, все узнают, что его смерть – самоубийство.
– Я не могу этого сделать! Не могу! – В ее голосе звучала беспомощность.
Я подумал и решил, что целиком и полностью вручил жизнь Тома Райли в ее руки. Просто передал по телефонному проводу. Такое перекладывание ответственности совершенно не вязалось с прежним Эдгаром Фримантлом, но, разумеется, тот Эдгар Фримантл и подумать не мог, что будет рисовать закаты. Или играть с куклами.
– Тебе решать, Панда. Все может пойти прахом, если он больше не любит тебя, но…
– Он-то любит. – Беспомощности в ее голосе еще прибавилось.
– Тогда скажи Тому, что он должен снова начать жить, нравится ему это или нет.
– Старина Эдгар, по-прежнему решающий вопросы. – В голосе Пэм слышалась усталость. – Даже из своего островного королевства. Старина Эдгар. Эдгар-Монстр.
– Мне больно это слышать.
– Вот и славно. – И она положила трубку.
Я еще посидел на диване. Закат становился ярче, а воздух во «флоридской комнате» – холоднее. Те, кто думает, что во Флориде нет зимы, сильно ошибаются. В 1977 году в Сарасоте выпал снег, и его покров толщиной достигал дюйма. Я полагаю, холодно бывает везде. Готов спорить, снег выпадает даже в аду, хотя и сомневаюсь, что он долго там лежит.
ii
Уайрман позвонил сразу после полудня и спросил, остается ли в силе приглашение на просмотр моих картин. Под ложечкой, конечно, сосало, я помнил его обещание (или угрозу) высказаться честно и откровенно, но я сказал ему приходить.
Я выставил, как мне казалось, шестнадцать лучших… хотя в ясном, холодном свете того январского дня выглядели они все довольно дерьмово. Рисунок Карсона Джонса по-прежнему лежал на полке стенного шкафа в моей спальне. Я его достал, прикрепил к куску оргалита и поставил в конец ряда. Карандашные цвета выглядели неряшливо и неказисто в сравнении с красками, и, разумеется, рисунок был меньше остальных, но я все равно думал, что в нем что-то есть.
Мелькнула мысль добавить рисунок человека в красном, но делать этого я не стал. Не знаю почему. Может, потому, что от него у меня самого по коже бежали мурашки. Зато я выставил «Здрасьте» – карандашный рисунок танкера.
Уайрман прибыл в ярко-синем гольф-каре, разрисованном желтым в модном стиле «пинстрайпинг»[78]78
Пинстрайпинг – рисование длинных прямых и всевозможно закрученных линий, увязанных в единый узор.
[Закрыть]. Звонить ему не пришлось. Я встретил его у двери.
– Очень уж ты зажатый, мучачо. – Уайрман улыбнулся. – Расслабься. Я не доктор, и тут не врачебный кабинет.
– Ничего не могу с собой поделать. Если бы шла приемка нового дома, и ты был строительным инспектором, я бы, возможно, и расслабился, а так…
– Но ты говоришь о прошлой жизни, – указал Уайрман. – А это – твоя новая, в которой ты еще не сносил ни одной пары туфель.
– Я говорю о значимости события.
– Ты чертовски прав. Если уж разговор зашел о твоем прошлом, ты позвонил жене насчет того дела, которое мы обсуждали?
– Да. Хочешь получить подробный отчет?
– Нет. Хочу только знать, остался ли ты доволен разговором?
– После того как я пришел в себя в больнице, ни один разговор с Пэм удовольствия мне не доставил. Но я практически уверен, что она поговорит с Томом.
– Тогда считаем вопрос закрытым, свин. «Бейб», тысяча девятьсот девяносто пятый год. – Он уже переступил порог и с интересом оглядывался. – Мне нравится, как ты тут все устроил.
Я расхохотался. На самом деле я даже не убрал с телевизора табличку с требованием не курить.
– Джек по моей просьбе поставил наверху «беговую дорожку», и это единственная новая вещь, не считая мольберта. Как я понимаю, ты бывал здесь раньше?
Он загадочно улыбнулся.
– Мы все бывали здесь раньше, амиго… и это покруче профессионального футбола. Питер Страуб, год тысяча девятьсот восемьдесят пятый.
– Я тебя не понимаю.
– Я работаю у мисс Истлейк уже шестнадцать месяцев. Мы все время живем здесь, если не считать короткой и доставившей массу неудобств поездки в Сент-Пит, когда Флорида-Кис эвакуировали при подходе урагана «Фрэнк». В любом случае последние люди, которые арендовали «Салмон-Пойнт»… извини меня, «Розовую громаду», прожили две недели из восьми, на которые сняли дом, и отбыли. То ли дом им не понравился, то ли они не понравились дому. Уайрман вскинул руки над головой, словно призрак, и устрашающе запрыгал по светло-синему ковру гостиной. Эффект подпортила его рубашка с рисунком из тропических птиц и цветов. – После этого, что бы ни бродило по «Розовой громаде»… бродило в одиночестве!
– Ширли Джексон[79]79
Джексон Ширли (1916–1965) – американская писательница, работала в жанрах фантастики, готической прозы и психологического саспенса. Уайрман практически цитирует фразу из «Призрака Хилл-Хауза» (1959): «Что бы ни бродило там, бродило в одиночестве».
[Закрыть], – вставил я. – Год уж не знаю какой.
– Точно. В любом случае ты понимаешь, что доказывал или пытался доказать Уайрман. «Розовая громада» ТОГДА! – Он описал руками широкие круги, как бы захватывая всю виллу. – Обставлена в популярном флоридском стиле, известном как Первоклассный дом-в-аренду двадцать первого века! «Розовая громада» ТЕПЕРЬ обставлена как Первоклассный дом-в-аренду двадцать первого века плюс тренажер «беговая дорожка» корпорации «Сайбекс» наверху и… – Он сощурился. – На диване во «флоридской комнате» сидит кукла а-ля Люсиль Болл?
– Это Реба, воздействующая на злость кукла. Ее мне дал мой друг-психолог, Крамер. – Что-то тут было не так. Начала безумно зудеть правая рука. В десятитысячный раз я попытался ее почесать, но ткнулся пальцами левой во все еще заживающие ребра. – Подожди… – Я посмотрел на Ребу, которая смотрела на Залив. «Я могу это сделать, – подумал я. – Это похоже на место, куда ты кладешь деньги, если хочешь спрятать их от государства».
Уайрман терпеливо ждал.
Рука чесалась. Та, которую отрезали. Та, которая иногда хотела рисовать. Я подумал, что хочу нарисовать Уайрмана. Уайрмана и вазу с фруктами. Уайрмана и пистолет.
«Хватит думать не пойми о чем», – подумал я.
«Я могу это сделать», – подумал я.
«Ты прячешь деньги от государства в офшорных банках, – подумал я. – Нассау. Багамские острова. Большой Кайман. И, бинго, вот оно».
– Кеймен, – поправился я. – Его фамилия – Кеймен. Кеймен дал мне Ребу. Ксандер Кеймен.
– Что ж, раз с этим мы разобрались, давай взглянем на произведения искусства, – предложил Уайрман.
– Если их можно так назвать. – И я повел его к лестнице, хромая и опираясь на костыль. Уже начал подниматься, когда остановился как вкопанный. – Уайрман, – обратился я к нему, не оглядываясь, – как ты узнал, что «беговая дорожка» произведена «Сайбекс»?
Ответ услышал после короткой паузы:
– Это единственный бренд, который я знаю. Будешь подниматься сам или тебе нужно дать пинка?
«Звучит неплохо, но насквозь фальшиво, – подумал я, вновь двинувшись вверх по лестнице. – Думаю, ты лжешь, и знаешь что? Я думаю, ты знаешь, что я знаю».
iii
Свои работы я расставил вдоль северной стены «Розовой малышки», так что послеполуденное солнце в достаточной мере освещало картины. Глядя на них из-за спины Уайрмана, который медленно шел вдоль ряда, иногда останавливался, а то и возвращался назад, чтобы взглянуть на пару полотен второй раз, я думал, что света они получают даже больше, чем того заслуживают. Илзе и Джек хвалили их, но одна приходилась мне дочерью, а второй – наемным работником.
Добравшись до карандашного рисунка танкера в конце ряда, Уайрман присел на корточки и смотрел на рисунок секунд тридцать. Руки лежали на бедрах, кисти свисали между ног.
– Что… – начал я.
– Ш-ш-ш, – оборвал меня он, и мне пришлось выдержать еще тридцать секунд молчания.
Наконец он встал. Колени хрустнули. Когда повернулся ко мне, его глаза показались мне очень большими, а левый – воспаленным. Вода (не слеза) бежала из внутреннего уголка. Он вытащил носовой платок из заднего кармана джинсов и вытер ее автоматическим движением человека, который проделывает то же самое по десять раз на дню, а то и чаще.
– Святой Боже. – Он отошел к окну, на ходу засовывая платок в карман.
– Святой Боже – что? – спросил я. – Что, Святой Боже?
Он смотрел на Залив.
– Ты не знаешь, как они хороши, да? Я хочу сказать, ты действительно не знаешь.
– Они хороши? – Никогда я не чувствовал такой неуверенности в себе. – Ты серьезно?
– Ты расставил их в хронологическом порядке? – спросил он, по-прежнему глядя на Залив. Веселый, сыплющий шутками и остротами Уайрман «вышел погулять». У меня возникло ощущение, что я слушал Уайрмана, который имел дело с присяжными… при условии, что он был адвокатом по уголовным делам. – В хронологическом, так? За исключением двух последних. Эти определенно нарисованы намного раньше.
Я рисовал всего пару месяцев и не понимал, можно ли какие-то мои творения определить как «нарисованные намного раньше», но, пробежавшись взглядом по картинам, увидел, что он прав. Я не собирался расставлять их в хронологическом порядке, во всяком случае, сознательно, но именно так и расставил.
– Да, – кивнул я. – От первой до последней.
Уайрман указал на четыре картины, замыкающие ряд, я называл их «закатные композиции». В одной я поставил на горизонт раковину наутилуса, во второй – компакт-диск со словом «Memorex», напечатанным поперек (и с солнцем, светящимся красным сквозь отверстие), в третьей – дохлую чайку, которую нашел на берегу, только я увеличил ее до размеров птеродактиля. На последней был ковер из ракушек под «Розовой громадой», заснятый цифровой камерой. К ракушкам я по какой-то причине счел необходимым добавить розы. Вокруг виллы они не росли, но я получил множество фотографий от моего нового друга Гугла.
– Вот эти последние картины. Их кто-нибудь видел? – спросил Уайрман. – Твоя дочь?
– Нет. Эти четыре я нарисовал после ее отъезда.
– Парнишка, который у тебя работает?
– Нет.
– И, разумеется, ты не показывал дочери сделанный тобой рисунок ее бойфр…
– Господи, нет! Ты шутишь?
– Да, конечно же, не показывал. В нем есть особая сила, при всей очевидной торопливости. Что же касается этих картин… – Уайрман рассмеялся.
Внезапно я понял, что он очень взволнован, и вот тут заволновался сам. Но сохраняя осторожность. «Помни, что он – юрист, – сказал я себе. – Он – не искусствовед».
Наконец-то он отошел от окна. Встал передо мной. Уставился в глаза.
– Послушай. За последний год тебе крепко досталось от этого мира, и я знаю, как серьезно страдает при этом самоуважение. Но только не говори мне, что ты даже не чувствуешь, сколь хороши эти картины.
Я вспомнил, как мы двое приходили в себя после дикого приступа смеха, когда солнце светило сквозь порванный зонт, и полоски света бегали по столу. Уайрман тогда сказал: «Я знаю, через что тебе пришлось пройти». На что я ответил: «Я в этом сильно сомневаюсь». А вот теперь не сомневался. Он знал. За воспоминанием прошедшего дня пришло желание (выразившееся в зуде) запечатлеть Уайрмана на бумаге. В некой комбинации портрета и натюрморта: «Юрист с фруктами и пистолетом».
Он похлопал меня по щеке рукой с тупыми, короткими пальцами.
– Земля вызывает Эдгара. Эдгар, выходите на связь.
– Вас понял, Хьюстон, – услышал я свой голос. – Эдгар на связи.
– Так что скажешь, мучачо? Я прав или неправ? Чувствовал ты или нет, что они хороши, когда писал их?
– Да, – кивнул я. – Чувствовал, что мне все по плечу.
Он кивнул.
– Это простая истина искусства: художник всегда чувствует, если получается что-то хорошее. И зритель тоже, понимающий, заинтересованный зритель, который действительно смотрит…
– Это ты про себя, – кивнул я. – Ты смотрел долго.
Он не улыбнулся.
– Когда картина хороша, и зритель смотрит на нее со всей душой, происходит эмоциональный выброс. Во мне он произошел, Эдгар.
– Хорошо.
– Будь уверен. И когда этот парень из галереи «Скотто» увидит эти картины, думаю, он почувствует то же самое. Более того, я готов поспорить, что почувствует.
– В действительности они ничего особенного собой не представляют. Если на то пошло, перепевы Дали.
Он обнял меня за плечи и повел к лестнице.
– Я не собираюсь проводить какие-то параллели. И мы не будем обсуждать тот факт, что ты, вероятно, нарисовал бойфренда дочери благодаря необъяснимой телепатии отсутствующей конечности. Я бы очень хотел посмотреть на рисунок с теннисными мячами, но чего нет, того нет.
– Может, оно и к лучшему.
– Но ты должен быть очень осторожен, Эдгар. Дьюма-Ки – необычное место… для определенных людей. Этот остров усиливает способности определенных людей. Таких, как ты.
– И ты? – спросил я. Сразу он не ответил, поэтому я указал на его лицо. – У тебя опять слезится глаз.
Уайрман достал платок, вытер уголок глаза.
– Хочешь рассказать, что случилось с тобой? Почему ты не можешь читать? Почему картины привели тебя в столь сильное замешательство?
– Нет, – ответил он. – Не сейчас. И если ты хочешь нарисовать меня, пожалуйста. Вольному воля.
– Сколь глубоко ты можешь проникать в мой мозг, Уайрман?
– Не так, чтобы очень. Ты все понял правильно, мучачо.
– Ты смог бы читать мои мысли вне Дьюма-Ки? Скажем, если бы мы сидели в кофейне в Тампе?
– Что-то уловил бы. – Он улыбнулся. – Особенно проведя здесь больше года, купаясь… ты знаешь, в лучах.
– Ты поедешь со мной? В галерею «Скотто»?
– Амиго, я не пропустил бы этой поездки, даже если бы мне предложили годовой урожай китайского чая.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































