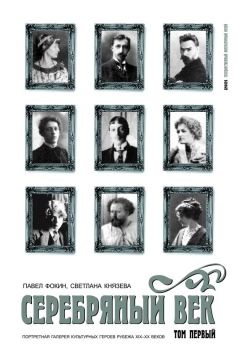
Автор книги: Светлана Князева
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
БАТЮШКОВ Федор Дмитриевич

5(17).9, по другим сведениям 26.8(7.9).1857 – 18.3.1920
Филолог, литературный критик. Соредактор журнала «Мир Божий». Публикации в журналах «Мир Божий», «Северный вестник», «Вестник Европы», «Образование», «Вопросы философии и психологии». Сборники статей и монографии «Пушкин и Расин…» (СПб., 1900), «Критические очерки и заметки» (ч. 1–2, СПб., 1900–1902) и др. Друг А. Куприна.
«Высокий, худощавый, сухое лицо строго и тонкого профиля. Медленный, плавный жест, добрый взгляд спокойных серых глаз. Правая рука, в такт неторопливому широкому шагу, осторожно прикасается к тротуару легкой тростью, у которой изящная ручка из потемневшей слоновой кости.
…Батюшков, судя по его записям, основную свою задачу видел в согласовании обстоятельств реальной жизни с запросами нравственности, с требованиями высшей справедливости, добра, устройства такой жизни, чтобы каждому была обеспечена наивозможная свобода и наибольшее участие в пользовании благами жизни. Писатель, по мнению Батюшкова, должен был воплощать в образы не только психологию людей, но и общественную обстановку.
…Батюшков был известен в научной и писательской среде как честный и добрый человек, способный на бескорыстную привязанность, дорожащий только тем, что может быть полезно другим» (Н. Вержбицкий. Встречи).
«Над Батюшковым иногда подтрунивали за „аристократические“ привычки. Он, например, считал неприличным для себя после беседы с человеком отойти от него, повернувшись задом, и всегда отходил пятясь и при этом натыкался на разные вещи – стулья, углы шкафов и пр.
И в литературном отношении он также часто проявлял „приличие“, доходившее до курьезов. Так, например, однажды, редактируя какой-то рассказ, он, считая слово „кобель“ нелитературным и неприличным, сделал в тексте такое исправление: „Черного…я не отмоешь добела“, и это вызвало всеобщий хохот» (М. Куприна-Иорданская. Новый table-talk).
«Достоинство – а если кому угодно, недостаток этого воистину человека – заключалось в его полной, органической неспособности лгать. Право, в этом смысле он был каким-то прекрасным уродом на пейзаже русской интеллигентной действительности. На его слово – не на „честное слово“, не на клятву, а на простое: да или нет – можно было положиться тверже, как на всякие временные законы и декреты. Иногда эта верность слову у него выходила трогательно смешной. Так, в 1902 году, по поводу мартовского избиения студенческой сходки на Казанской площади, профессора Петербургского университета единодушно вышли в отставку. Потом они все постепенно опять заняли свои кафедры… Но Батюшкова так никто и не мог уговорить читать лекции. „Отставка есть отставка. Выйдет, что я не хозяин своему слову“.
Его очень любили простые люди. Соседние с его бездоходным имением в Устюженском уезде мужики из Тристенки, Бородина, Высотина и Никифоровской, конечно, поделили между собой его землю под влиянием какого-то идиотского министерского распоряжения… но все как один решили: „Усадьбу Федору Дмитриевичу оставить, старых лип не рубить, яблок не красть и, спаси Господи, не трогать книг…“ Федор Дмитриевич был секретарем, казначеем и председателем Литературного фонда, он очень часто, оберегая кассу, помогал литераторам и журналистам из своего скудного кармана… Последняя моя встреча с Федором Дмитриевичем была в конце 19-го года, на углу Садовой и Инженерной. Он шел в Публичную библиотеку и остановился взять с лотка полугнилое яблоко. Я спросил – зачем? „Это мой завтрак…“ Он умер от истощения…
P. S. Может быть, меня спросят, какой он был партии. Никакой. Он был родной брат декабристам» (А. Куприн. Памятная книжка).
«Влияние Батюшкова на Куприна было двояким: с одной стороны, Батюшков, профессор истории всеобщей литературы, старался познакомить Куприна с произведениями западной литературы, в особенности с французскими классиками – Мольером, Расином, Бальзаком и др.
…Батюшков сообщал Куприну множество всяких сведений, необходимых Александру Ивановичу для работы, высылал нужные ему книги.
Но Батюшков считал, что художественное произведение тогда может считаться явлением искусства, когда оно не навязывает читателю авторской точки зрения; он стоял если не за полную аполитичность художественной литературы, то за сдержанную, сглаженную, академическую форму, исключающую публицистику и политические выпады» (М. Куприна-Иорданская. Годы молодости).
БАУЭР Евгений Францевич
1865 – 22.7.1917
Кинорежиссер, художник. В кино с 1912. Поставил более 80 фильмов, в том числе «Сумерки женской души» (1913), «Кровавая слава» (1913), «Преступная страсть» (1914), «Дитя большого города» (1914), «Песнь торжествующей любви» (1915), «Ирина Кирсанова» (1915), «Убийство балерины Пламеневой» (1915), «Ямщик, не гони лошадей» (1916), «Король Парижа» (1917).
«В 1913 г. в кино пришел художник Евгений Францевич Бауэр. Окончив школу живописи и ваяния, Е. Бауэр переменил несколько профессий: сперва он был живописцем, затем фотографом, опереточным актером и, наконец, художником-декоратором в театрах оперетты Омона и Зона. Знание всех этих профессий помогло Бауэру стать одним из ведущих мастеров русского дореволюционного кино.
Первые фильмы Евгения Францевича поражали замечательной фотографией. Бауэр резко уменьшил количество декораций, заменяя их, по возможности, занавесями, тюлем, полотнами. Это позволило ему иначе размещать осветительную аппаратуру, заменить лобовое освещение боковым. Замена стен колоннами, столь характерная для Бауэра, также помогала ему применять неожиданные для того времени приемы освещения. Не лишен был Бауэр и стремления к внешним эффектам, поэтому, выбирая темы для постановок, он отдавал предпочтение таким, которые позволяли ему развернуть свои способности художника-декоратора.
Человек сердечный, чуткий, Е. Бауэр принес эти душевные качества в свои лучшие фильмы, наполненные лиризмом и какой-то меланхолией. Бауэр безгранично любил киноискусство и отдавал ему себя целиком. Если он загорался темой очередной постановки, то осуществлял ее в очень короткий срок и картина впитывала в себя теплоту и горение режиссерского сердца. Так, известный в свое время фильм Бауэра „Ямщик, не гони лошадей“ создан, начиная с работы над сценарием и кончая вклейкой последней надписи, всего за семь дней» (В. Ханжонкова. Из воспоминаний о дореволюционном кино).
«Он любил красоту, нежные, ласкающие глаз пейзажи Поленова, головки Константина Маковского. Пожалуй, он любил „красивое“, являющееся одной из первых ступеней на высокой лестнице к Прекрасному.
Первые фильмы Бауэра были мастерски сфотографированными „живыми картинами“. Фантастические декорации могли гармонировать только с такими же, как они, далекими от действительности, приятными для глаза, не утомляющими внимания образами. И Евгений Францевич подбирал „актеров“ к своим стройным колоннам, аристократическим гостиным, роскошным будуарам. Он не ждал от актера острых переживаний, ярко выраженных эмоций. Он убирал все, что могло исказить „красоту“ кинозрелища.
Е. Ф. Бауэр не навязывал своего мнения тем немногим тогда актерам, которые сумели сочетать новые для них требования киноплощадки с уже усвоенными законами сцены.
…Большим несчастьем этого художника была абсолютная недооценка им драматургии, непонимание того, что красота отнюдь не отвлеченное понятие. „Красивым“ казалось ему общепринятое открыточно-нарядное, и в пропаганде этой „красоты“ он был неумолим.
Он мог снимать лишь по точно сделанному для него сценарию. И даже при этом условии, увлекаясь отдельными сценами, разрабатывая красивые детали кадров, он снимал километры мало нужных для развития фильма кусков. Правда, когда потом Бауэр просматривал свой неорганизованно отснятый материал, до 50 процентов выбрасывалось по его же воле, и к этому прибавлялись вырезки по советам заведующего литературным отделом или фабриканта. На эти сокращения, часто происходящие и без его участия, Бауэр не сердился, а лишь вздыхал о выброшенных в корзину красотах.
…Суммируя свои краткие высказывания о личности художника, творческая биография которого заслуживает более подробного и глубокого исследования, я хочу отметить, что родоначальником композиционного метода в кинематографии был, несомненно, Бауэр» (В. Гардин. О Вере Холодной).
«Бауэр был популярный опереточный режиссер и художник, его постановки славились богатством и роскошью. Для кинематографа он сделал немало…Он использовал свой опыт работы в театре, тщательно репетировал, продумывал мизансцены, различные способы съемок и великолепно знал приемы освещения. Картины Бауэра отличались размахом, пышными декорациями, обязательно с колоннами и каминами. Для своего времени он хорошо монтировал, снимал даже крупные планы и панорамы.
Бауэр умел „делать“ актеров. Они сначала снимались у него, получали известность, а потом их переманивали на другие кинофабрики» (Л. Кулешов, А. Хохлова. 50 лет в кино).
«С актерами он совсем не работал. Духовный мир актера, процесс его творчества, глубина и верность переживаний не трогали Бауэра. Но это не было пренебрежение, отнюдь нет. Просто он всецело доверялся, знал, что актер сделает все возможное. А какой-либо своей концепции в режиссуре, видимо, у него не было. Многие актеры были очень довольны таким положением вещей и поэтому отлично ладили с Евгением Францевичем» (С. Гославская. Записки киноактрисы).
БАХРУШИН Алексей Александрович
9(31).1.1865 – 7.6.1929
Фабрикант, меценат, коллекционер, театральный и общественный деятель. В 1894 на основе своих коллекций создал в Москве частный литературно-театральный музей. В 1913 передал музей Академии наук.
«Алексей Александрович был высок, худ, носил коротко подстриженную бородку, ходил в поддевке, в русской рубахе, подвязанной ремешком» (П. Марков. Книга воспоминаний).
«В Москве я бывал сравнительно часто, останавливался по большей части у А. А. Бахрушина и от завтрака до позднего обеда не вылезал из музея, этого бездонного кладезя собранных, как трудолюбивой пчелой, бесценных реликвий русского театра. И подумать только, как возник этот единственный, пожалуй, во всем мире музей. А. А. Бахрушин еще юношей выбирал на Кузнецком мосту в эстампном магазине картинки с головками „красавиц“ и встретил там Кондратьева [актер и режиссер Малого театра. – Сост.]. „Что вы здесь покупаете, юноша?“ Бахрушин смутился и ответил: „Да вот портреты актеров и актрис собираю“. – „А, это очень любопытно, и что же, много уже собрали?“ – „Да, порядочно…“ – „Ну я зайду к вам через недельку посмотреть вашу коллекцию“. Бахрушину уже из самолюбия, не желая оказаться лгуном, волей-неволей пришлось накупить актерских портретов и разного театрального старья на Хитровом и Сухаревском рынках. Кондратьев действительно пришел, принес ему сборник старых афиш и литографию А. Н. Островского, и с этого началось 30-летнее собирательство театральной старины, на которое он ухлопал не одну сотню тысяч из своего громадного капитала. Такой музей мог создать только человек, который вместе с братьями владел в Москве 156 домами, четырьмя кожевенными фабриками и шестью паровыми мельницами. За Зацепой был Бахрушинский переулок, была Бахрушинская железная дорога (ветвь Павелецкой линии) и десятки богаделен и благотворительных учреждений его имени.
Только миллионы, которым он счета не знал, могли помочь создать такое чудо, как его собрание. Вскоре фотографии и олеографии были уже выброшены и заменились лишь маслом, пастелью и акварелью, появилась масса скульптуры, фарфора, и богатый особняк на Лужнецкой стал заполняться подлинными реликвиями со времен крепостного театра и братьев Волковых до последних дней» (Д. Лешков. Из записок. 1904–1930).

Алексей Бахрушин
«Отец с малолетства увлекался театром, но мысль о создании театрального музея явилась у него не сразу. Толчок к этому дало глупое пари. Среди молодых людей, посещавших дом деда, были два приятеля золотой московской молодежи. Братья Куприяновы. Один из них, отдавая дань возникшей тогда среди купечества моде на коллекционирование, стал собирать вещи по театру. Покупал фотокарточки актеров, подбирал красивые афиши и нарядные программы. Высшим его удовольствием было бахвалиться своей коллекцией перед приятелями. Отец обычно молча и неодобрительно выслушивал его хвастовство, которое он с детства был приучен рассматривать как порок. Однажды, будучи у Куприянова, отец не выдержал.
– Чего ты хвастаешь, – заметил он хозяину, – ну что ты особенного собрал, какие-то карточки и афиши, – да я в месяц больше тебя насоберу.
– Нет, не насоберешь!
– Нет, насоберу!
Окружающие поддержали спор, и было заключено пари. Отец его выиграл – и неожиданно для себя понял свое призвание. Вскоре театральное собирательство превратилось у него в страсть. Окружающие смотрели на это как на блажь богатого самодура, трунили над ним, предлагали купить пуговицу от брюк Мочалова или сапоги Щепкина. Никто не относился к его увлечению серьезно. В той среде, в которой вращался тогда отец, он делался все более и более одиноким и страдал от этого. Часто в душу закрадывался червяк сомнения – не правы ли окружающие? Насмешки уязвляли самолюбие. Единственные люди, с которыми он был близок, были двоюродный брат А. П. Бахрушин и свояк, муж умершей сестры, В. В. Постников – они оба также собирали, но были почти одних лет с отцом, и их пример не был для него ни убедительным, ни авторитетным. Но страсть требовала удовлетворения, и отец с тем же рвением продолжал разыскивать и приобретать предметы театральной старины.
…В ранний период моей жизни отец представляется мне всегда куда-то спешащим. Вставал он в половине девятого утра и в десять уже уходил в контору на фабрику. Около часу дня он возвращался, быстро завтракал и уезжал в город, то есть в Театральное бюро, или по делам музея, или на какие-нибудь деловые свидания. Дома он появлялся вновь около шести, наскоро переодевался, обедал и исчезал вновь на заседание или спектакль. Приезжал он поздно, а на другой день начиналось то же.
Быстрый рост театрального музея отца и недостаточность помещений для его размещения выработали у него страсть к перевескам картин и к перемонтировкам комнат. В таких случаях на вопрос посетителя, чем занят, обычно следовал ответ: „Из двух аршин три делаю“.
Вначале это делание из двух аршин трех отзывалось исключительно на удобствах моей матери, но с каждым годом захватнические инстинкты отца все возрастали. При постройке дома было задумано, что три полуподвальные большие комнаты отойдут под музей, а в остальном, смежном помещении будут располагаться служебно-хозяйственные и складочные комнаты матери. Очень скоро, однако, выяснилось, что места для собрания не хватает – под натиском отца мать уступала ему одно складочное помещение за другим. Затем дело дошло до жилого верха, постепенно превращавшегося в музей, потом начали сворачиваться служебно-хозяйственные комнаты, за ними последовали детские апартаменты, был занят коридор, буфетная и, наконец, даже конюшня и каретный сарай. Не надо забывать при этом, что с 1913 года дед отдал в распоряжение отца соседний дом, в котором когда-то я родился, и он был также забит вещами, книгами и прочими материалами.
В своем собирательстве отец держался принципов: „Доброму вору все в пору“ и „Все бери, а там после разберемся“. Подобные установки рождали если не бессистемность и хаотичность, то во всяком случае неотъемлемую разнохарактерность. Все, что имело хоть какое-нибудь отношение к театру, считалось отцом входящим в компетенцию музея. Таким образом, возник богатейший отдел музыкальных инструментов, отдел композиторов, литературный отдел, собрание театральных биноклей, дамских вееров, этнографический отдел и так далее. Естественно, что при подобной постановке дела никаких помещений хватать не могло. Отсюда и возникала необходимость в перевесах и перестановках. Редкие вечера, кроме суббот, когда отец оставался дома, обычно посвящались этому занятию и пользовались моей особой любовью. Я помогал отцу, подтаскивал какие-то вещи, передавал нужные инструменты – старшие увлекались своим делом и забывали отправить меня вовремя спать» (Ю. Бахрушин. Воспоминания).
БАШКИРОВ Борис Николаевич
(псевд. Борис Верин)
Поэт, меценат. Один из владельцев мукомольного концерна «Братья Башкировы». Друг С. Прокофьева, К. Бальмонта, Игоря Северянина. Борису Верину посвящен сборник стихов Игоря Северянина «Соловей» (1923).
«„Борис Верин“, он же Борис Николаевич Башкиров – один из магнатов мучной Калашниковской биржи – славился в дореволюционном Петербурге как весьма примечательная и наделенная многими странностями личность. Богач и делец с весьма широкой, что называется, „чисто русской натурой“, он страстно увлекся поэзией символистов, возомнив и себя призванным к служению музам. Хорошо образованный, знающий несколько языков, юрист по университетскому диплому, он все-таки сохранил черты некоторого самодурства и необычайных пристрастий. Считая себя поэтом утонченного „декадентского склада“, этот странный человек принужден был делить свое существование между деловыми интересами „высокой коммерции“ и богемной средой северянинских „поэзо-концертов“. На его визитной карточке значилось: „Борис Николаевич Башкиров, член комитета Калашниковской биржи“, а на обороте стояло: „Борис Верин – Принц сирени“. Иногда он ошибался, поворачивая карточку не той стороной – и от этого в деловых коммерческих кругах происходило немало забавных недоразумений.
Завсегдатай литературных собраний, страстный поклонник и меценат „русского модернизма“, Башкиров был близким приятелем К. Бальмонта и делил с ним пристрастие к экзотическим напиткам. Его дом всегда был пристанищем для приезжавших из Москвы представителей „Нового искусства“, а сам он мечтал – в пику Рябушинскому – об основании в Петербурге какого-то фантастического журнала „Серебряное руно“, нимало не заботясь о мифологической точности. К сожалению, при всем своем деловом размахе и безудержной фантазии, он обладал весьма невысоким вкусом и в своих личных поэтических опытах не уходил дальше самого поверхностного дилетантизма. Он прекрасно усвоил себе „цыганско-романсовую“ северянинскую манеру и стал незаменимым подголоском этого кумира тогдашней публики, неизменно выступая вместе с ним на всех эстрадах. Он же и финансировал эти концерты, и организовывал шумную рекламу, не забывая при этом и себя. Про него рассказывали, что, отправляясь на очередной „Вечер поэз“, этот рыцарь модерна заезжал в цветочные магазины и заказывал огромные букеты своих любимых цветов, к которым потом прикреплялись широкие ленты с надписью: „несравненному“ или „пленительному поэту Борису Верину – принцу сирени“. Эти подношения „из публики“ всегда вызывали бурю восторгов в зрительном зале, когда „скромный и растерявшийся от волнения“ поэт принимал их с эстрады из рук почтительных капельдинеров как восторженную дань неведомых почитателей. Крепкий, высокий, ловко носящий смокинг, Борис Верин, наделенный чертами властной мужской красоты, производил на истерически настроенную женскую часть зала не менее яркое впечатление, чем сам его надменный патрон Игорь Северянин. Читал он свои стихи мастерски, хотя и с чисто актерским „подъемом“. Впрочем, много можно было простить этому самовлюбленному чудаку за его искреннее увлечение поэзией, ради которой он часто забывал все свои коммерческие дела. В свое время он сыграл видную роль в популяризации стихов Бальмонта и, опираясь на свою исключительную память, мог читать наизусть его книги, страница за страницей. Предпочтительной его любовью пользовался сборник „Литургия Красоты“. Собирая изредка знакомых литераторов, этот ценитель поэзии угощал их не только изысканным ужином, но и мастерской декламацией бальмонтовских терцин и сонетов.
…Этот странный человек известен был в литературных кругах – поэтических, разумеется, тем, что на свой счет и себе в убыток выпустил немало тощих стихотворных сборников той поры, оказывая бескорыстную помощь неимущим авторам. Был он доброжелателен и независтлив. И хотя сам не отличался ни талантом, ни строгим поэтическим вкусом, его любовь к поэзии, наивная и слепая, была по-своему трогательной, хотя и несколько комической» (Вс. Рождественский. Страницы жизни).
«Б. Н. в Нью-Йорке разыскал томик сложных и строгих сонетов Эредиа и перевел около десятка, причем ужасно важничал, что одолел такую вещь, говорил, что многие поэты ломали себе на Эредиа ногу. Я посмотрел и нашел – что за ерунда! Конечно, сонет перевести можно. И вызвал его на матч: кто лучше переведет десять сонетов из Эредиа. Конечно, переводить тоже в форме строгого сонета, сохраняя ту же рифму, что в подлиннике. В жюри я выбрал Бальмонта, Б. Н. – Северянина. И было решено, что мы будем посылать им сонеты на пишущей машинке, переписанные так, чтобы было неизвестно, который чей, а те будут ставить отметки, которые мы будем складывать. Получивший большее число очков выигрывает состязание.
Это было задумано еще в апреле [1919. – Сост.], а в мае три сонета уже поехали к судьям. Первый ответ был от Северянина с массой пикантных примечаний. Волнение чрезвычайное. Я выиграл на несколько пунктов. Затем последовал приветственный сонет от Бальмонта. Это уже совсем придало помпу нашему состязанию. Наконец появились отметки от Бальмонта, к сожалению, без примечаний, как у Северянина, но выигрыш оказался тоже в мою пользу. Общая сумма очков за три сонета была: у меня – 58, у Б. Н. – 49. Тот – прирожденный поэт – никак не ожидал такого афронта, и даже были попытки прекратить состязание или ввести в него новые правила, но я заявил, что составлю протокол его бегства с приложением таблицы отметок и, отпечатав на машинке, разошлю его всем знакомым. Б. Н. подумал, возмутился – и состязание продолжалось…» (С. Прокофьев. Из дневника).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































