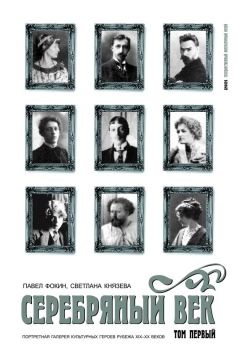
Автор книги: Светлана Князева
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
БОЛЬШАКОВ Константин Аристархович

14(26).5.1895 – 21.4.1938
Поэт, прозаик, примыкал последовательно к футуристическим группам «Мезонин поэзии», «Гилея», «Центрифуга» и др. Публикации в журналах «Новый журнал для всех», «Новый Сатирикон», «Мир женщины» и др. Стихотворные сборники «Мозаика» (М., 1911), «Le futur» (М., 1913), «Сердце в перчатке» (М., 1913), «Солнце на излете» (М., 1916), «Королева Мод» (М., 1916); «Поэма событий» (М., 1916); романы «Сгоночь» (М., 1927), «Бегство пленных» (М., 1929), «Маршал сто пятого дня» (М., 1936); сборник рассказов «Путь прокаженных» (М., 1927). Близкий знакомый Б. Пастернака.
«Есть люди, кончающие партию в биллиард с двух ударов. Большаков свою партию с неизвестностью для читателя тоже кончил с двух ударов.
Совсем мальчиком… Большаков выпустил книгу стихов. Стихи были почти слабые и почти приличные. Цензура конфисковала сборник. Откровенно сказать, оснований для конфискации не было, и она могла объясняться только дурным настроением цензуры. Конфискация сборника стихов, да еще по объявлению в порнографии, была явлением по тем временам настолько редким, что это сразу сделало шум вокруг имени Большакова.
Вслед за этим на ряде вечеров, а потом в одном из сборников „Мезонина“ Большаков опубликовал свою „Городскую весну“. Читал он ее мурлыкающим голосом, слегка грассируя.
Весна начиналась так: „Эсмерами вердоми труверит весна“, следующие строки были не более понятны слушателю. Никто не думал о том, что „эсмерами“, „вердоми“ – это просто творительные падежи каких-то весенних слов… Но Большаков так изумительно мурлыкал эти строки, что стихи убеждали без филологических пояснений. В печати оно много потеряло, но оно уже было боевым кличем, вроде „дыр бул щур“ Крученых.
Большаков пришел к футуризму сразу, как только открыл поэтические глаза. А глаза были большие, глубокие и искренние. Хорошие были глаза. И сам Костя был горяч, как молодая лошадь, доскакавшая до финиша» (В. Шершеневич. Великолепный очевидец).
«Он несомненный лирик и как таковой а priori оригинален должен быть… Между тем при повышенной сложности эпизодического образа в духе „Мезонина“ (пример: образец невозможной новой художественной прозы Шершеневича) он этой искусственной мерой часто ничего, кроме разоблачения пустой ее искусственности, не дает – „дремлют губами на ругани люди?“.
Многое, многое еще, почти все этими вычурными протоколизмами испорчено. Мне душа этого протоколизма непонятна и незнакома. Уж на что я „сложно“ начинал: „Загорают дни, как дыни, за землистым детством с корью“… А Маяковский? Но потенциал этих истуканных сложностей отзывоспособен по отношению ко мне. А искусственность Большакова часто грешит чисто шершеневическим грехом. Часто фактура его такова, что так бы мыслил человек, с затхлостью поэтических тайн незнакомый, сочиняя пародию на современность. В построении его много механического следования какой-то рецептуре сложности quand m[?]me [франц. несмотря ни на что. – Сост.]» (Б. Пастернак. Письмо С. Боброву. Июнь, 1916).
БОНДИ Юрий Михайлович
8(20).9.1889 – 15.3.1926
Театральный художник и режиссер, работавший с В. Мейерхольдом; график (оформлял «Журнал Доктора Дапертутто»). Декорации, костюмы, грим к постановкам пьес Блока «Незнакомка», «Балаганчик», Стриндберга «Виновны – не виновны?», Кальдерона «Поклонение кресту» и др. Автор пьес «Огонь» (совм. с В. Мейерхольдом и В. Н. Соловьевым), «Алинур» (совм. с В. Мейерхольдом, Пг.; М., 1919).
«Молодой художник Юрий Бонди, болезненный, хрупкий, духовно не был ни немощным, ни вялым. Его творческая энергия, его интуиция очень помогли Мейерхольду. Достоинство декораций Бонди заключалось главным образом в том, что силуэт человеческих фигур был четко подан в черной раме на фоне транспаранта.
…События в маленьком кружке развертывались с головокружительной быстротой. Самая невероятная неожиданность подстерегала Бонди. Мейерхольд жил у Бонди осенью [1914. – Сост.], довольно долго, и казалось, все шло вполне благополучно. И вдруг сверх всяких ожиданий на Юрия Михайловича обрушилась „немилость“. Соловьев и Вогак почему-то предложили в качестве художника в студию некоего студента Рыкова, и Мейерхольд объявил, что этот художник будет работать полноправно с Бонди. Юрий Михайлович запротестовал. Он заявил, что ему необходимо знать платформу этого художника, что он не может доверяться ему слепо. Всеволод Эмильевич рассердился. Юрий Бонди переживал эту ссору особенно остро, и вдруг, как раз в один из самых тяжелых моментов, его позвали к телефону. Он был крайне изумлен, когда услышал голос Блока. Совершенно смущенный Бонди спросил, что понадобилось от него Александру Александровичу. Тот ответил: „Ничего, Юрий Михайлович, я только хотел сказать: как хорошо, что вы существуете“. Этот короткий разговор очень поддержал тогда Бонди. Он был безмерно счастлив, услышав такие слова от Блока» (В. Веригина. Воспоминания).
Борис Верин
см. Башкиров Борис Николаевич
БОРИСОВ-МУСАТОВ Виктор Эльпидифорович
2(14).4.1870 – 26.10(8.11).1905
Живописец. Один из лидеров Московского товарищества художников, «Союза русских хуожников» (1904). Живописные полотна «Майские цветы» (1894), «Автопортрет с сестрой» (1898), «Осенний мотив» (1899), «Гармония», «Мотив без слов» (обе – 1900), «Гобелен» (1901), «Водоем» (1902) и др.
«Маленький, горбатый, с худощавым бледным лицом, светлыми волосами ежиком и небольшой бородкой, он был трогательно мил и сердечен. Мы все его любили, стараясь оказывать ему всяческое внимание» (И. Грабарь. Моя жизнь).
«Мусатов в Петербурге появился ненадолго – жил до этого в Париже – и только что стал выставлять в Москве. Он сразу же был приглашен участвовать в выставках „Мира искусства“. В Москве говорили, что появился „новый Сомов“. Это было неверно: сходство было лишь в „эпохе кринолинов“, которую оба они любили, и была общая обоим лиричность, но при большой поэзии у Мусатова в его искусстве не было вовсе той остроты, как у Сомова. Мусатов был задет импрессионизмом, был настоящий живописец, писал широкой манерой большие полотна, очень красивые по краскам или в блеклых тонах. Искусство его было новым и свежим явлением, но, к несчастью, очень кратковременным. Он вскоре скончался. Был он болезненный, маленький, горбатенький человек с острой бородкой, очень изысканно одевался и, помню, носил золотой браслет» (М. Добужинский. Воспоминания).
«У нас бывал известный утонченный художник Мусатов. Он был горбат, но, несмотря на скрюченную фигуру, обладал огромным человеческим обаянием. Его монументальные и в то же время романтические картины – люди среди природы – были праздничны и величавы. Он прошел французскую школу живописи, но его картины были полны чисто русской, тургеневской поэзии» (М. Сабашникова. Зеленая змея).
«В. Э. Борисов-Мусатов – художник, у которого краски своими изысканными сочетаниями, градациями переходят в напевы, сливаются мелодично. Мотивы его картин: старые, замолкнувшие барские дома, парки, где стынут осенью бледные изваяния „божеств“; тихо проходящие или застывшие в мечтательном раздумье образы женщин в платьях, покрои которых переносят мысль в эпоху жеманности и чувствительности, в костюмах, ткани которых так обильны орнаментацией; прозрачные водоемы, отразившие в зеркале струй прихотливо сплетенное кружево зеленых ветвей и листьев.
Полюбил художник старину, далекую, тихую, но полюбил то, что есть в ней сокровенного, не отвлекаясь внешними ее признаками, не сделавшись археологом, – и оттого его созданья только углубились духовно; расширилось их значение, так как они не стали выразителями лишь одной, строго определенной археологическими рамками, эпохи.
…И все произведения В. Э. Борисова-Мусатова лишены рассказа, „анекдотца“; он мыслит, как могут мыслить лишь истинные, милостью Божией, художники-живописцы: красочными сочетаниями и загадочно-прекрасными сплетениями гибких линий, контуров рисунка. Потому-то его талант был близок, дорог и понятен немногим. Для всех же он казался странным, „декадентом“» (Д. Митрохин. О В. Э. Борисове-Мусатове).
БОТКИН Сергей Сергеевич
1859 – 29.1(11.2).1910
Врач-терапевт, профессор, коллекционер. Принимал участие в русско-японской войне в качестве уполномоченного Красного Креста. Зять П. М. Третьякова.
«С упрямым хохлом на лбу, – но именно не упрямый, уступчивый, мягкий, весь рассыпчатый, всегда решительно жизнерадостный, предпринимающий, надеющийся, – Сергей Сергеевич Боткин был душою художественных кружков в Петербурге, и в частности – молодого кружка „Мира искусства“, где он был „своим человеком“; как, вероятно, и везде его чувствовали все „своим человеком“. В военном докторском мундире и профессор, он „как все порядочные русские люди“, конечно, „служил“, но весь был таков, что ни о каком „мундире“ и „урочных часах службы“ не приходило на ум тому, с кем он разговаривал или кто на него смотрел. Ощущение „частного“, глубоко „частного“, исключительно „домашнего“ – веяло вокруг него, в близости с ним. Не было фигуры менее официальной и „должностной“, чем он. Не змейка – по отсутствию злобы, – но шаловливая ящерица смеха, шутки, остроумия вилась у него в речи, тихим баском, и в больших и (думаю) чувственных губах; а лицо, с обилием нежно-розовой краски, пущенной под кожею, являло всего более ласковости именно в отношении того, над кем или над чем он шутил, острил, в чем замечал невинно-забавную сторону.
…От древних веков, еще от Египта, до наших дней, до последних выставок, он любил все красивое, характерное, национальное. Любил во всякой вещице ее физиономию, метко уловляя ее своим глазом, явно художественным.
…“Широка ты, Русская земля, что рождаешь широкое и разнообразное и благодатное“. Мысль о шири приходила при взгляде на этого русского человека. По стану и фигуре, по домовитости, по „рассыпчатости“, по „старожительству“ в мире искусств его хотелось назвать Фамусовым художественных кружков, который везде „как у себя дома“ и у него все „как у себя дома“, без формы и принуждения. Но уже прожили десятилетия, прошел век: и в широкий халат Фамусова вошел просвещенный европейский человек и весь зажегся инициативою и творчеством. Только старая русская повадка, хочется сказать – московская повадка, сохранилась у него. „Вот и те же часы, и та же гостиная, и старая мебель“. Но все позолотилось новым вкусом, просвещением, необозримыми учеными сведениями.
Хорошая порода… хорошая старая порода…» (В. Розанов. Среди художников).
«Меценатом его назвать нельзя. Он не швырял деньгами, не делал эффектных жестов. Не заботился о том, чтобы украсить стены своей квартиры модными картинами.
Он просто любил красоту, ценил труд художника, радовался его творчеству.
Открытие какого-нибудь нового молодого таланта было для него самой первой радостью. Он жил надеждами художника, горевал его горестями.
И художники это чувствовали. Материально они от него не зависели, но тем более ценили его духовную поддержку. Они чувствовали в нем не только покупателя, коллекционера, но своего брата, товарища.
…Боткин был один из тех, который сразу поверил в будущность „Мира искусства“, и ни один из участников этого журнала, начавшего новую полосу в истории русского искусства, не забудет той поддержки, которую ему оказывал всегда бодрый, жизнерадостный Сергей Сергеевич.
Когда „Мир искусства“ переживал тяжелые минуты, Боткин оказал ему посильную материальную помощь, но опять-таки без шума, как-то незаметно и скромно.
Главная черта была постоянная бодрость, неиссякаемая любовь к жизни. Он умел радоваться, умел всюду находить прекрасное, умел ценить великую, творческую силу жизни» (Д. Философов. С. Боткин).
«Самым отличительным свойством моего отца был оптимистический, легкий и веселый характер, – какие бы ни возникали в жизни нашей семьи затруднения и катастрофы, он всегда верил в победу, все считал переносимым, все препятствия – разрешимыми.
Больные очень любили отца; он не только лечил многих из них, но был и советчиком, и помощником, и наставником в трудные моменты их личной жизни» (Л. Кулешов, А. Хохлова. 50 лет в кино).
«Он был чрезвычайно любопытен до людей (черта, которая особенно меня с ним сближала), а потому он не только не чуждался кого-либо, но любил бывать и там, где людей было много и где он мог вдоволь удовлетворить свое специфическое любопытство. Не брезгал Сергей Сергеевич и всякой chronique scandaleuse [франц. скандальной хроникой. – Сост.] охотно пополняя ее собственными наблюдениями, которые накапливались в его великосветской практике. При этом он, разумеется, остерегался выдавать тайны профессионального характера и сообщать, хотя бы и в тесном дружеском кругу, те из своих наблюдений, которые могли бы нанести ущерб репутации людей, состоящих его пациентами.
Одной из основ нашего дружеского общения с Боткиным было коллекционирование, но, разумеется, я никак не мог тягаться с Сергеем Сергеевичем, располагавшим несравненно бо́льшими средствами, нежели я. Впрочем, и вообще конкурентами мы едва ли могли бы быть, так как меня больше тянуло собирать старину западного происхождения, он же почти исключительно собирал русские вещи и преимущественно рисунки. У него их уже набралось несколько сот, но качественно в момент нашего сближения далеко не все были равного достоинства. Боткин тогда зачастую „попадался“, придавая веру слишком смелым атрибуциям (желание во что бы то ни стало иметь образчик того или другого редкого мастера влияло на эту доверчивость); не всегда он разбирался и в разных тонкостях. Но постепенно он от таких недостатков освобождался, становясь все более и более строгим в выборе и в то же время стараясь вести с большей последовательностью пополнение своего собрания (которое он завещал Музею Александра III). И до чего же по-детски бурно радовался милый Сергей Сергеевич, когда ему удавалось найти что-либо особенно интересное! Как он „ржал“, приговаривая, что Остроухов и Аргутинский подавятся от зависти, когда узнают, что у него прибавился еще один Брюллов или еще один Кипренский» (А. Бенуа. Мои воспоминания).
БРАВИЧ Казимир Викентьевич
наст. фам. Баранович;
1861 – 13(26).11.1912
Драматический актер. На профессиональной сцене с 1885. В 1897–1903 – актер петербургского Малого театра (театр Суворина), в 1903–1908 – театра В. Комиссаржевской. В 1909–1912 – московского Малого театра. Роли: Базаров («Отцы и дети» по Тургеневу), Паратов («Бесприданница» А. Островского), Тригорин («Чайка» Чехова), Войницкий («Дядя Ваня» Чехова), Иван Шуйский («Царь Федор Иоаннович» А. Толстого) и др.
«Узко театральные, но какие живые, четкие впечатления связаны у меня с образом так неожиданно скончавшегося Казимира Викентьевича Бравича! Таких интимных, „особенных“ впечатлений нигде, кроме театра, не получишь! Большое с маленьким, нездешнее с житейским, образ героя с запахом грима и пудры – все смешивается, сплетается по-особенному, образуя причудливый букет.
Который-то из девяностых годов…Представляют „Термидор“ Сарду. Одну из главных ролей играет К. В. Бравич. С каким умом, с какой тонкой художественной мерой выходит он из натянутых положений, в которые его ставит бездарный, мелодраматический автор! Помню, что он должен воскликнуть с ужасом: „В Тюльери сажают капусту!“ И он произносит эти дурацкие слова так, что я до сих пор слышу его голос! На миг представляется действительно ужасным, что в „Тюльери сажают капусту“.
…Потом – другие времена, совсем другие. „Субботы“ у Комиссаржевской, предшествовавшие открытию ее театра. Бравич заговаривает со всеми „новыми“, сияет добродушием, посмеивается, иногда – добродушно брюзжит. Что-то чеховское в его отношении к жизни, „обывательское“ даже, пока дело не касается искусства.
…„Жизнь Человека“ Андреева. Бравич – „Некто в сером“. В кулисах мрак, Бравич, закутанный чем-то вроде брезента, сидит на шатком стульчике, ожидая своих слов: „Тише! Человек умер!“ Глаза у него – усталые, собачьи, злые (роль ему страшно не нравится). По носу текут капельки пота, мускулы лица опали, как у старика. „Жарко“, – жалуется он и пытается расстегнуть свой брезент. А ведь выйдет, и будет у него „квадратный“ подбородок, тускло освещенный огарком свечи, неумолимый, как требуется по пьесе.
И, наконец, главное, чем дорог Бравич, без чего все описанные подробности были бы только мелочами из жизни заурядной. Бравич – художник. Какая подлинная „почва“, „земля“ искусства, без которой всякий художественный замысел может улететь, испариться, стать невнятным для толпы и для избранных – одинаково» (А. Блок. Памяти К. В. Бравича).
«В театр Комиссаржевской были привлечены видные художественные силы того времени. Прекрасным актером, создавшим яркие, выпуклые образы, был Бравич. Легкий польский акцент, сказывавшийся у него в исполнении всех ролей, нисколько не мешал ему. Свои роли Бравич проводил всегда очень умно, играя прежде всего „от головы“. Бывало, на репетициях суфлер подает ему реплику, а он останавливается и с раздражением спрашивает: „Где подлежащее? Почему ты не подаешь мне сказуемого?“» (Е. Корчагина-Александровская. Страницы жизни).
«Очень заметную роль в Малом театре играл К. В. Бравич. Он попал сюда из театра Комиссаржевской и пробыл всего два сезона. Видимо, в условиях императорского театра он чувствовал себя неважно. Потом он перешел в Художественный театр, чтобы играть Тартюфа, но заболел и умер. Бравич был актером необычайной тонкости. В Малом театре он блистал в „Цезаре и Клеопатре“. Он брал краску очень точно, но не доводил ее до крайнего выражения. У него всегда было то „чуть-чуть“, которое характеризует больших художников. Думаю, что в Художественном театре Бравич проявил бы себя очень сильно. В Малом он играл профессора в „Плодах просвещения“, банкира в „Израиле“. Но его игра казалась всегда несколько приглушенной по сравнению с общей манерой других актеров Малого театра» (П. Марков. Книга воспоминаний).
БРИАН (урожд. Шмаргонер) Мария Исааковна
23.8(4.9).1886 – 1965
Певица, лирическое сопрано. Училась в Париже, позднее в Петербурге у А. Жеребцовой-Андреевой. Выступала в Театре музыкальной драмы. Была участницей антрепризы С. Дягилева (1913–1914). В 1918–1933 солистка Ленинградского ГАТОБа.
«Голос ее – среднего диапазона лирическое сопрано – отличался редкостным наполнением, плотностью мягкой звуковой массы. Тембр, начиная с фа до верхнего си-бемоль, независимо от динамики, был исключительно ровен и красив, ни при каких усилениях или ослаблениях звука не терял своей ровности и давал замечательные эффекты при филировке и переходе на пиано-пианиссимо, в своем роде неповторимые.
…Но, как ни был пленителен самый голос Бриан, не в нем была все же ее главная сила, не только он один служил источником большого художественного наслаждения, которым она привлекала сердца слушателей, но и необычайная поэтичность всего ее артистического облика. Взрывы страсти, мелодраматизм, героика были чужды ее певческой натуре и ее, как я уже сказал, сугубо лирическому голосу, необыкновенно гармонировавшему со всем ее исполнительским обликом. Мечтательность, задумчивость были лучшими подругами ее певческого духа. Романсовая лирика Чайковского и Римского-Корсакова, Танеева и Глазунова, отчасти Рахманинова и других русских композиторов – вот что больше всего было ей сродни.
Вообще в опере филигранность ювелирной отделки Бриан ее партий, чересчур тонкие штрихи не всегда доходили до слушателя. Самый масштаб сцены, оркестр и особенно партнеры, пусть стоявшие на таком же художественном уровне, но певшие в совершенно отличном от индивидуальности Бриан плане, в известной мере разрушали камерность ее интерпретации. „Пастель“ ее певческой кисти иногда несколько бледнела перед „маслом“ сильных голосов и драматически более мощных дарований. Тем не менее Бриан в подавляющем большинстве партий обаятельностью своего певческого облика, даже при своей несовершенной дикции, доносила поэтическое зерно музыкального слова до самого сердца слушателя.
Некоторая односторонность ее дарования при разнохарактерности лирических партий (шаловливое пение Тамары в первой картине „Демона“, драматические жалобы в третьей; мечтательно-радостная ария Маргариты с жемчугом, драматизм последней картины) несколько обедняла некоторые эпизоды больших оперных партий. Не по лирическому голосу густая середина и отсюда некоторая тяжесть пассажей и трели, нехватка силы для некоторых драматических сцен не могли не сказываться. Голос Бриан никогда не кокетничал, не смеялся, не требовал, не угрожал. Олицетворение лирических настроений, он всегда мягко и задушевно рассказывал, необыкновенно тепло любил, искренне грустил и скромно горевал.
В силу всех этих особенностей Бриан в ТМД [Театре музыкальной драмы в Петрограде. – Сост.] не имела соперниц в ролях Татьяны, Ксении, Микаэлы, Иоланты, Антонии и некоторых других, в которых она оставила десятилетиями не стирающееся впечатление. В „Онегине“ она по своей мечтательности и глубоко пушкинской мягкости образа русской девушки была ближе всех других Татьян к идеалу Чайковского.
Наличие актерских способностей помогло Бриан создать галерею прекрасных женских образов не только в ТМД, но и в других театрах, как, например, Панночки („Майская ночь“) в дягилевских спектаклях за рубежом, Марфы („Царская невеста“) в Народном доме и т. д.
В „Борисе Годунове“ с учетом ее актерской выразительности был придуман специальный выход Ксении в момент смерти отца, и Бриан из этой небольшой в общем роли создала незабываемый шедевр.
Тончайшая звукопись Бриан осталась в моей памяти все же главным образом в связи с камерными концертами, для которых она при помощи А. К. Глазунова и М. А. Бихтера выбрала исключительно высокохудожественный репертуар» (С. Левик. Записки оперного певца).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































