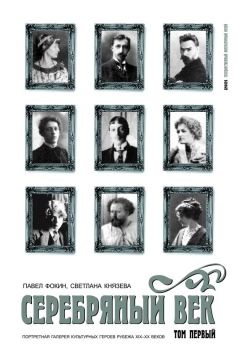
Автор книги: Светлана Князева
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
БОГДАНОВА-БЕЛЬСКАЯ (урожд. Старынкевич; в замужестве также Пэдди-Кабецкая, Дерюжинская, Гросс) Паллада (Палладия) Олимповна

1(13).1.1885 – 19.7.1968
Поэтесса, хозяйка литературного салона. Стихотворный сборник «Амулеты» (Пг., 1915). Прототип Полины Добролюбовой-Черниковой в романе М. Кузмина «Плавающие-путешествующие».
«Очень характерна для Петербурга того времени была интересная, живая, оригинальничавшая Богданова-Бельская, которую ее друзья окрестили „Палладой“. Ее небольшая квартира и днем и ночью была к услугам любой экстравагантной компании» (Рюрик Ивнев).
«Паллада, урожденная Старикевич [Старынкевич. – Сост.] – слывшая демонической и очень развратной женщиной, из-за которой якобы стрелялись, которая якобы сама стреляла в кого-то. Это была худая некрасивая молодая женщина, одетая так безвкусно и кричаще, что ее нельзя было не заметить. Она почему-то изображала из себя лесбиянку, бросалась на колени перед теми женщинами, в которых она якобы молниеносно влюблялась» (Б. Прилежаева-Барская. «Бродячая собака»).
Она была худа, как смертный грех,
И так несбыточно-миниатюрна…
Я помню только рот ее и мех,
Скрывавший всю и вздрагивавший бурно.
Смех, точно кашель. Кашель, точно смех,
И этот рот – бессчетных прахов урна.
Я у нее встречал богему – тех,
Кто жил самозабвенно-авантюрно.
Уродливый и блеклый Гумилев
Любил низать пред нею жемчуг слов,
Субтильный Жорж Иванов – пить усладу,
Евреинов – бросаться на костер…
Мужчина каждый делался остер,
Почуяв изощренную Палладу…
(Игорь-Северянин)
«Полина Аркадьевна Добролюбова-Черникова была отнюдь не артистка, как можно было бы подумать по ее двойной фамилии. Может быть, она и была артистка, но мы хотим сказать только, что она не играла, не пела, не танцевала ни на одной из сцен. Во „Всем Петербурге“ при ее фамилии было поставлено: дочь надворного советника, а на ее визитных карточках неизменно красовалось: урожденная Костюшко, что давало немало поводов для разных насмешливых догадок. Действительно, было не то удивительно, что ее девичья фамилия была Костюшко, а то, что Полина могла быть каким бы то ни было образом урожденная. Казалось, что такой оригинальный и несуразный человек мог произойти только как-то сам собою, а если и имел родителей, то разве сумасшедшего сыщика и распутную игуменью. Мы назвали Полину оригинальной, но, конечно, как и всегда, если покопаться, то можно было бы найти типы и, если хотите, идеалы, к которым она естественно или предумышленно восходила. Святые куртизанки, священные проститутки, непонятые роковые женщины, экстравагантные американки, оргиастические поэтессы, – все это в ней соединялось, но так нелепо и некстати, что в таком виде, пожалуй, могло счесться и оригинальным. Будь Полина миллиардершей, она бы дала, может быть, такой размах своим нелепым затеям, что они могли бы показаться импозантными, но в теперешнем ее состоянии производили впечатление довольно мизерное и очень несносное. Одно только было характерно и даже кстати, что она с браслетами на обеих ногах и с бериллом величиною в добрый булыжник, болтавшимся у нее на цепочке немного пониже талии, поселилась на Подьяческой улице в трех темных-претемных комнатушках, казавшихся еще темнее от разного рода тряпичного хлама, которым в изобилии устлала, занавесила, законопатила Полина Аркадьевна свое гнездышко. А между тем она была женщиной доброй, душевной и не чрезмерно глупой. Но она официально считалась и сама себя считала „безумной“, и потому волей или неволей „безумствовала“» (М. Кузмин. Плавающие-путешествующие).
«Денег у Паллады мало. Талантов никаких. Воображение воспаленное. Еще в институте прочтенный тайком „Портрет Дориана Грея“ решил ее судьбу. Она должна стать лордом Генри в юбке – порочной, блестящей, очаровательной, презирающей „пошлые условности“.
К этой цели она и стремилась. Для этого носила ядовитые манто, курила папиросы с опиумом и часто в среду утром – ее приемный день – бежала с последней брошкой в соседний ломбард, чтобы было на что купить портвейна и шерри-бренди для эстетического общества, которое у нее собиралось.
От Загородного, у самого Царскосельского вокзала, влево – переулок. Переулок мрачный, грязный. В конце его кривой газовый фонарь освещает вывеску: „Семейные бани“. Эстет, впервые удостоенный чести быть приглашенным на пятичасовой чай к Палладе, разыскав дом, увидев фонарь, лоток с мылом и губками, эту надпись „Бани“, – сомневается: тут ли? Сомнения напрасны – именно тут. Самое изысканное, самое эстетическое, самое передовое общество (так, по крайней мере, уверяет хозяйка) собирается именно здесь.
У лорда Генри, конечно, был особняк с цветником из орхидей и шпалеры напудренных лакеев, но это неважно. Смело толкайте стеклянную дверь с матовой надписью „Семейные 40 копеек“ и входите. Из подъезда есть дверка во двор, во дворе другой подъезд, довольно чистый, хотя не только без орхидей, но и без швейцара. Подымайтесь на четвертый этаж, звоните.
В половине шестого – в шесть „салон“ в разгаре. Хозяйка в ядовитых шелках улыбается с такого же ядовитого дивана. И вся вообще обстановка – ядовитая. Горы искусственных цветов (живые, увы, не по карману), десятки разноцветных подушек, чучела каких-то зверей, перья каких-то птиц. От запаха духов, папирос, восточного порошка, горящего на особой жаровне, – трудно дышать. И еще эта пестрота стен, ковров, драпировок. И эта пестрота лиц…
Хозяйка „загадочно“ улыбается. Она еще молода. Если всмотреться – видишь, что она была бы прямо хорошенькой, если бы одной из тех губок, что продаются у входа, стереть с ее лица эти белила, румяна, мушки, жирные полосы синего карандаша. И еще – если бы она перестала ломаться. Ну, и оделась бы по-человечески.
Конечно, все эти „если бы“ – неосуществимы. Отнять у Паллады ее краски, манеры, пестрые тряпки – бесконечное ломанье, что же тогда останется?» (Г. Иванов. Прекрасный принц).
БОГДАНОВИЧ Ангел Иванович
псевд. А. Б.;
2(14).10.1860 – 24.3(6.4).1907
Критик, публицист, общественный деятель. С 1895 – фактический редактор журнала «Мир Божий».
«Однажды вечером, вот уже год тому назад, я застал его в редакции. Он был один и сидел за корректурой, нагнувшись, совсем приблизив к листу свои слабые глаза в темных очках. Низко опущенный абажур лампы оставлял всю комнату в зеленоватом сумраке, но в светлом круге, падавшем на стол, особенно четко выделялся прямой пробор мягких волос, бледное, бескровное, исхудалое лицо, светлая бородка, заостренная книзу, и сухая белая рука, нервно чертившая на полях корректурные знаки. Помню, меня поразил тогда его голос; прежде такой отрывистый, решительный, несколько суховатый, – он звучал теперь глухо и грустно, с какой-то новой, непривычной, кроткой медлительностью. Тишина, усталость, болезнь и близкая смерть веяли в этот безмолвный вечерний час над его склоненной головой.
…Никогда и никто из нас не слыхал от него ни одной жалобы. На вопросы о здоровье он отвечал точно вскользь, коротко и небрежно, куда-то в сторону, прекращая этим дальнейшее любопытство или участие. Точно так же никогда он не говорил ни слова о себе самом, о своей жизни или о личных делах. Даже обычное, так излюбленное людьми местоимение „я“ он заменил в разговорах с сотрудниками собирательным редакционным „мы“.
Вообще я не знал более молчаливого человека, чем Богданович, и думаю, что немногословность его проистекала равномерно как из серьезной замкнутости сильного, трезвого и осторожного характера, так и от долголетней привычки к упорной кабинетной работе. На редакционных собраниях он подолгу не произносил ни одного слова, слушая или делая вид, что слушает, вертя в это время в пальцах карандаш или нервно покручивая в одну сторону кончик бороды. Но, когда ему приходилось высказываться, он говорил сжато и быстро, никогда не останавливаясь ни на мгновение для подыскивания слов.
Работоспособность его была поразительна. Он читал в рукописях статьи почти по всем отделам журнала, держал их корректуры, вел громадную деловую переписку, принимал известных авторов, а также дебютантов в литературе, что, между прочим, одинаково трудно, длительно и неудобно, писал рецензии и критические статьи, распределял материал для очередной книжки, сносился с типографией, торопил брошюровочную. Казалось, в нем жила какая-то ненасытная потребность заваливать себя сверх головы работой. Кто-то сказал про него в шутку: если у Богдановича оставалось время, он бы сам набирал статьи, верстал их и печатал.
…Он обладал исключительною памятью, в которой множество самых разнообразных знаний укладывалось легко и в порядке. Никто легче его не обличал плагиаторов. Это был настоящий энциклопедический ум, живой справочник, в котором умещались даже такие сведения, которые были совсем далеки от специального медицинского образования Ан. И-ча и от его писательской профессии. Он удивлял иногда точными обширными познаниями в военном искусстве, в конском и атлетическом спорте, в православном богослужении, хотя сам был католиком, в естественных науках, в математике, в медицине, в истории, в музыке, в политической экономии, в живописи и во многом другом. Но мнения свои он высказывал всегда кратко и притом в самой скромной форме: „Если я не ошибаюсь…“, „насколько помню…“, „как мне кажется…“.
Многим из знавших Богдановича лишь издали, поверхностно, покажется невероятным, чтобы этот болезненный, глубоко серьезный, молчаливый человек мог страстно любить наиболее яркие, самые цветные стороны жизни. Еще за пять лет до своей смерти он неизменно ходил смотреть откуда-то с Канавки на военные майские парады и совершенно искренне, даже наивно восхищался голосом дьякона Малинина на Смоленском кладбище во время заупокойной обедни по В. П. Острогорскому…Яркость и сочность красок, здоровая и простая художественность, сила изображения и меткость взгляда более всего прельщали его в произведениях беллетристики» (А. Куприн. Памяти А. И. Богдановича).
БОГОРАЗ (ТАН-БОГОРАЗ) Владимир Германович
до крещения Натан Менделевич; псевд. Н. А. Тан, В. Г. Тан, Тан и др.;
15(27).4.1865 – 10.5.1936
Писатель, лингвист, этнограф. Публикации в журналах «Русское богатство», «Мир Божий», «Русская мысль» и др. Сборники рассказов и очерков «Чукотские рассказы» (СПб., 1900), «Новое крестьянство» (М., 1905), «Мужики в Государственной думе» (М., 1907), «Очерки и рассказы» (т. 1–6; 2-е изд., СПб., 1904). Повести «Дни свободы» (СПб., 1906), «На Кузнецком тракту» (1906), «Крылоносный Икар» (1914), «На озере Лоче» (М., 1914). Романы «Восемь племен» (1903), «За океаном» (1904), «Жертвы дракона» (1909). Сборник «Стихотворения» (СПб., 1900; 4-е изд., СПб., 1910).
«В. Г. Богораз (Тан) – ссыльный народоволец, писатель, журналист, этнограф. Его научные труды – монография по чукчам (три тома на английском языке) была напечатана в Америке… Из ссылки он привез в Петербург кроме научного еще литературный груз: стихи, рассказы, очерки, целые романы и еще неугасшую жажду – дайте додраться!
Он входил в аудиторию, круглый, как шар, волоча за собой полосатый большой мешок вместо портфеля. Ставил мешок на пол. Плотно усевшись на стуле, начинал беседу с аудиторией. „Имейте в виду, – предупреждал он на одной из первых лекций, – этнографом может стать только тот, кто не боится скормить фунт крови вшам. Почему скормить, спрашивается? Потому, что узнать и изучить народ можно, только если живешь с ним одной жизнью. А у них вошь – довольно распространенное животное“.
…Был Богораз подвижен и экспансивен, как в молодости. Вспоминается случай: мы, несколько человек студентов, сели в трамвай у университета. Видим, из МАЭ (Музей антропологии и этнографии), тряся полосатым мешком, бежит Богораз. На повороте, у Дворцового моста, нагнал трамвай, на ходу вскочил на площадку. Увидел нас и, весело подмигнув, крикнул: „В каюры еще гожусь“ [каюр – возница, который управляет собаками, везущими нарты. – Сост.]. Было ему в то время порядочно за шестьдесят.
Он сохранил живую связь с северянами, входил в комитет Севера, был организатором Северного рабфака, преобразованного из Географического общества. Этнографическое отделение было на географическом факультете» (Н. Гаген-Торн. Memoria).
БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ (Baudouin de Courtenay) Иван Александрович

1(13).3.1845 – 3.11.1929
Лингвист, основатель так называемой Казанской и Петербургской лингвистических школ, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Профессор Казанского (1875–1883), Юрьевского (1883–1893), Краковского (1893–1899), Петербургского (1900–1918) университетов. Под его редакцией вышел Толковый словарь В. Даля. Проявлял интерес к футуризму, в связи с которым опубликовал статьи «Слово и „слово“» и «К теории „слова как такового“ и „буквы как таковой“», председательствовал на «Вечере о новом слове» в Тенишевском училище (8 февраля 1914) с участием футуристов.
«Фамилия этого „красного“ профессора – таким он слыл среди студенчества – наводила меня на любые ассоциации, кроме тех, которые я, до того ни разу его не видевший, стал с этих пор связывать с ним. В воображении я рисовал себе этого потомка крестоносцев, насчитывавшего среди своих предков трех константинопольских императоров, если и не таким, какими мне запомнились французские рыцари на цветных картинках детского „Mon journal’a“, то, по крайней мере, современным Рошфором или Деруледом [Виктор-Анри Рошфор – французский журналист и политик; Поль Дерулед – французский поэт и общественный деятель. – Сост.]. Его приверженность к русскому языку казалась мне такой же гримасой истории, как наполеоновский сюртук над зубцами Кремля; впрочем, между этими двумя явлениями существовала, если не ошибаюсь, причинная связь.
Аккуратненький старичок, с собирательной наружностью одного из тех разорившихся польских помещиков, которые до войны запруживали в Киеве кафе Семадени и графини Комаровской, своим внешним видом лишний раз убедил меня в том, что словообраз живет самостоятельной жизнью.
Кроме того, меня поразил галицийско-украинский акцент в продолжателе дела Даля. Мне тогда же пришло в голову, что основания большинства ароматических веществ имеют совершенно иной запах, чем их общеупотребительные растворы. Кто поручится, что прарусский язык, зазвучи он сейчас, не оказался бы в артикуляционном отношении ближе к южным говорам, чем к северным?
В простоте душевной я представлял себе Бодуэна русским Литтре [французский философ и филолог. – Сост.], погруженным в лабораторно-химический анализ нашего корнесловия, склоненным над колбами и ретортами, из которых каждую минуту могло вырваться нечто еще более неожиданное, чем украинское произношение. И хотя с хлебниковскими изысканиями бодуэновскую работу нельзя было сравнить никак, я не без почтительного чувства взирал на редактора далевского словаря» (Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец).
«Бодуэн был замечательным лингвистом, занимающимся общими вопросами лингвистики на материале славянских языков. Он не был космополитом, но, любя народы, считал себя в отношениях с правительствами экстерриториальным.
Стремился он и к освобождению от книги во имя непосредственного наблюдения за живой языковой средой.
Язык народа состоит из отдельных „языков“ говорящих людей, как лес из деревьев. Но дерево может расти отдельно, а человек говорит для того, чтобы его поняли. Слово произносится для слышания. Слово – сигнал для другого человека. Даже „эй“ предполагает второго, могущего обернуться. Человек имеет внутреннюю речь, но говорит потому, что говорит человечество.
Бодуэн интересовался сегодняшним языком во всех его проявлениях, в частности и современной литературой – в том числе футуристами…Я увидел профессора, когда он был уже стариком лет шестидесяти пяти – невысоким, поседевшим. Читал лекции Бодуэн высоким голосом, заикался. Но казалось, что он не заикается, а удивляется тем вещам, которые вот только сейчас раскрылись перед ним.
…Бодуэн в аудитории анализировал не книги, а то, что было в нем самом, в нас и между нами: речь как средство мысли и коммуникации.
Так как для него слово было явлением сложным и в то же время точным, во всяком случае ограниченным, то он прежде всего отмечал, что не всякое сочетание звуков есть слово. Он вспоминал о так называемой глоссолалии, то есть мнимом говорении на разных языках, которое присваивали себе мистические сектанты, в том числе ранние христиане. Об этих „языках“ в „Посланиях апостолов“ и в „Деяниях“ очень много упоминаний, иногда укоризненных.
Это явление патологическое, но обостренно показывающее некоторые черты обычного.
Профессор спорил с утверждением, кажущимся безвредным и невинным, – „слова состоят из звуков“. Произведя очистительную работу, Бодуэн выдвигал главное понятие – фонему.
Сейчас фонему определяют как отдельный звук речи какого-нибудь языка или диалекта, рассматриваемый как средство для различения.
В 1914 году Бодуэн писал: „Не «звук» существует, а фонема как его психический источник, возникший путем целого ряда однородных акустических впечатлений“» (В. Шкловский. Жили-были).
«Однажды состоялся тут широко разрекламированный вечер футуристов.
Председательствовал на этом диспуте почтеннейший академик Бодуэн-де-Куртенэ. Рядом с ним за длинным столом, возвышаясь над публикой, набившей до отказа обширный, вместительный зал, сидели, перешептываясь, поэты разных направлений.
Публика ждала скандала, потому что если футуристы – то скандал обязателен.
Сразу было отмечено, что нет Маяковского.
Доклад делал молодой, кудрявый Виктор Шкловский, на нем был длинный парадный студенческий сюртук. Шкловский со все нараставшим темпераментом подымал паруса новой поэзии, новой лингвистики, новой филологии. Говорил он образно, как поэт. После него Николай Бурлюк, один из главарей футуризма, в своем кратком выступлении употребил даже старинное выражение „светоч искусства“, а затем очень искренним, задушевным голосом прочел простые лирические стихи, без всяких „дыр-бул-шур“, с рефреном: „Мама дома?“ Ничего скандального. Молодая часть аудитории была несколько удивлена. Старики успокоились.
Но тут на трибуне выросла фигура этакого разбойника, рыжего, размашистого, коренастого. Самый доподлинный футурист-скандалист. После первых же его слов поднялся такой шум, что ничего невозможно было услышать. До меня донеслось только „к черту“. Кого к черту, за что к черту – понять было трудно. Человек орал на трибуне, зал орал ему в ответ.
Наконец-то скандал!
…Аудитория ревела, гудела, орала, свистела, стучала ногами. Из-за стола выскочили поэты, размахивая руками.
Бодуэн-де-Куртенэ хранил поистине академическое спокойствие. Он величественно восседал в своем председательском кресле – но не как олимпиец, а скорей как главный врач сумасшедшего дома в отделении буйнопомешанных. Он не был неподвижен, как бог. С иронической, немножко скучающей усмешкой на худеньком старческом лице, он махал неслышным звонком и успокоительными жестами левой руки старался навести порядок.
…Из дальнейшего в памяти осталось заключительное слово Бодуэна-де-Куртенэ. Вполне научно, отнюдь не издевательски прозвучало замечание академика, что в исследовании творчества таких поэтов, как футурист-скандалист, нужен не филолог, а психолог, и даже не психолог, а психиатр» (М. Слонимский. Воспоминания).
БОЖЕРЯНОВ Александр Иванович
1882 – 27.5.1959
Художник; иллюстрировал и оформлял обложки книг стихов и прозы М. Кузмина («Глиняные голубки», «Покойница в доме» – обе 1914, «Лесок», 1922), Ю. Юркуна («Шведские перчатки»), М. Шкапской («Mater delorosa», 1921), Н. Павлович («Берег», 1922), Г. Маслова («Аврора», 1922) и др. С 1922 – за границей.
«Сашенька Божерянов, несмотря на свой приниженный, странный костюм (он носил „толстовскую“ куртку из темной материи), – выглядел в нем необычайно элегантно.
…Высокий рост, длинные ноги, черная шляпа с кокетливым прогибом. Черные глазки, несколько вздернутый „комедийный“, мольеровский носик, скромные и изящные манеры человека, который „не лезет вперед“, – делали его симпатичным для всех!
Прирожденное чутье всего талантливого в искусстве, тонкий и верный вкус, – и… робость в выражении себя в нем! Все говорили про него:
– О! Он – настоящий парижанин!
Он действительно жил в Париже и как-то умел вжиться в этот город и приспособил себя к нему.
Он овладел безукоризненно французским и английским языками… А в тот момент, в который я его встретил, он был только декоратором, – то есть писал задники и кулисы по чужим эскизам…
На эту роль предназначались лица ремесленного пошиба и без знания, да еще безукоризненного, французского и английского языков! Пожилой человек в валенках, со следами вчерашней выпивки на давно небритом лице, вооруженный огромной кистью, которой он возит по лежащим на полу холстам. Вот – образец художника-декоратора!
…Можно было назвать роль, которую играл Божерянов в Париже, – ролью „комиссионера по продаже картин“? Но разве можно назвать этим низким и противным словом деятельность Сашеньки в Париже?!
Это – полет орла, гордого сокола по сравнению с уныло махающими крыльями воронами.
В стиле самого высокого „тона“ происходило знакомство с американским миллионером. Миллионер Томсон давал миллионеру Джексону парижский номер телефона Сашеньки.
И этот самый Джексон был счастлив, если „мистер Божерианофф“ поведет его к своему другу Родену, Бурделю, Майолю и, на худой конец, к гениальному Цадкину!
Или они вдвоем заглянут в мастерскую Мориса Дени, Ван Донжена и прочих звезд Современного Искусства Франции!
Ну, конечно, кой-какой „процент“ перепадал и со стороны миллионера и со стороны „мэтров“. Сашенька не жаловался. На жизнь хватало!» (В. Милашевский. Вчера, позавчера…).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































