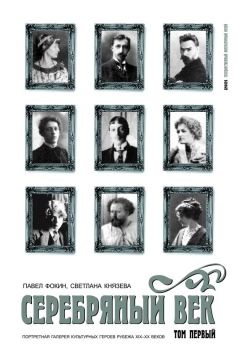
Автор книги: Светлана Князева
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
БЕРБЕРОВА Нина Николаевна
26.7(8.8).1901 – 26.9.1993
Писательница, мемуаристка. Произведения «Последние и первые. Роман из эмигрантской жизни» (Париж, 1930), «Повелительница» (Берлин, 1932), «Чайковский. История одинокой жизни» (Берлин, 1936), «Бородин» (Берлин, 1938), «Без заката» (Париж, 1938), «Облегчение участи» (Париж, 1949), «Курсив мой» (Мюнхен, 1972), «Железная женщина…» (Нью-Йорк, 1981), «Люди и ложи» (Нью-Йорк, 1986) и др. Вторая жена В. Ходасевича.
«Я смотрю из настоящего в прошлое и вижу, что я всю жизнь была одна. Несмотря на мои замужества, на дружбы, на встречи, на прочные и продолжительные отношения с людьми, на любовные радости и горести, на работу, я была одна. Несмотря на три „подготовки“ (но не попытки!) самоубийства (внимательное рассматривание возможностей, какое несомненно бывает у всех), несмотря на разлуку с близкими, на отсутствие русской речи вокруг, я была счастливым человеком. Величайшим счастьем я считаю именно тот факт, что я была одна, и ценила это. Я смогла узнать себя рано и продолжать это узнавание долго. И еще одно обстоятельство помогло мне: не нашлось никого, на кого я смогла бы опереться, мне нужно было самой найти свою жизнь и ее значение. На меня иногда опирались люди. И как-то так вышло (как, впрочем, у многих людей моего века), что мне в жизни „ничего не перепало“. Так что я никому ничего не должна и ни перед кем не виновата. Мне кажется, я никого не беспокоила собой и ни на ком не висла. И благодаря здоровью не слишком заботилась о самой себе. Мне давно стало ясно, что жить, и особенно умирать, легче, когда видишь жизнь как целое, с ее началом, серединой и концом. У меня были мифы, но никогда не было мифологии» (Н. Берберова. Из предисловия ко второму изданию книги «Курсив мой»).
«Отец ее был ростовский армянин, а мать русская, и это смешение кровей дало прекрасные результаты. Нина была рослая, сильная, здоровая девушка с громким веселым голосом, с открытым лицом, с широко расставленными серыми глазами. По самой середке ее верхних зубов была маленькая расщелинка, очень ее красившая. Она, подобно мне, писала множество стихов и знала наизусть всех любимых поэтов.
Особенно подружились мы с ней осенью 1921 года, когда я вернулся из Псковской губернии. Нас объединяло то, что она, так же как и я, воспитана была на Блоке, Фете и Некрасове, а не на Гумилеве и Брюсове. Так же, как и я, к окружавшим нас гумилевцам она чувствовала глухую и невнятную неприязнь. Дружба наша заключалась почти исключительно в том, что мы долгими часами то днем, то ночью гуляли вдвоем по пустынному Петрограду и вслух читали друг другу стихи.
…То, что Ходасевич влюбился в Нину, мне казалось еще более или менее естественным. Но как Нина могла влюбиться в Ходасевича, я понять не мог…Прежде всего она почти на целую голову была выше его ростом. И старше ее он был по крайней мере вдвое.
…Тайный их роман, о котором вначале знал только я, развивался так пылко и бурно, что, разумеется, скоро о нем догадались многие. Нина вся как-то одурела от счастья, а Ходасевич посветлел, подобрел, и очки его поблескивали куда бойчей и веселей, чем раньше. Он на несколько месяцев спрятал свой трагизм и даже временно стал относиться к мирозданию значительно лучше» (Н. Чуковский. Литературные воспоминания).
БЕРДЯЕВ Николай Александрович

6(18).3.1874 – 24.3.1948
Философ, литератор, публицист, общественный деятель. Соредактор журналов «Новый путь» и «Вопросы жизни». Член Московского литературно-художественного кружка, Религиозно-философского общества. Публикации в журналах «Мир Божий», «Вопросы жизни», «Русская мысль» и др. Сборники статей и монографии «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии» (СПб., 1901), «Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные (1900–1906)» (СПб., 1907), «Философия свободы» (М., 1911), «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (М., 1916), «Судьба России» (М., 1918), «Из глубины» (М.; Пг., 1918), «Кризис искусства» (М., 1918) и др. С 1922 – за границей.
«Высокий, чернявый, кудрявый, почти до плечей разметавшийся гривою, высоколобый, щеками румяными так контрастировал с черной бородкой и синим, доверчивым глазом; не то сокрушающий дерзостным словом престолы царей Навуходоносор, не то – древний черниговский князь, гарцевавший не на табурете – в седле, чтобы биться с татарами.
…Лилась Ниагара коротких, трескучих, отточенных фразочек; каждая как ультиматум: сказуемое, подлежащее, точка; сказуемое, подлежащее, точка, которую ставил его карандашик-копье… ни возраст, ни пол, ни достаток, ни класс не влияли; сиди тут Бог-отец, паралитик или пупс, – с одинаковою убежденностью произнесется прокол точки зрения: точкою зрения; „мавр“ – непреклонен!
…Бердяев, вспыхивая, выговаривал нестерпимые, узкие крайне, дотошные истины; лично же был не узок, и даже – широк, до момента, когда себя обрывал: „Довольно: понятно!“
И тогда над мыслителем или течением мысли, искусства, политики ставился крест: возомнивший себя крестоносцем, Бердяев, построивши стены из догмата, сам становился на страже стены, отделившей его самого от хода им наполовину понятой мысли; себя он ужасно обуживал; необузданное воображение воздвигало очередную химеру; эту химеру оковывал непереносным догматом он; оковав – никогда уже более не внимал тому, что таилось под твердою оболочкою догмата; оборотною стороной догматизма его мне казался всегда химеризм; начинал он бояться конкретного знанья предмета, провидя химеру в конкретном; и с этим конкретным боролся химерою, отполированною им – под догмат… и он объявлял крестовый поход против созданной им химеры, дергаясь, вспыхивая, выстреливая градом злосчастных сентенций, гарцуя на кресле, ведя за собою послушных „бердяинок“ приступами штурмовать иногда лишь „четвертое“ измерение; и вылетал, как в трубу, в мир чудовищных снов: он – кричал по ночам; мне казался всегда он „субъективистом“ от догматического православия или, обратно: правоверным догматиком мира иллюзий.
Дома ж часто бывал так спокойно-рассеян, грустно-приветливый, очень всегда хлебосольный» (Андрей Белый. Начало века).
«Он не только красив, но и на редкость декоративен. Минутами, когда его благородная голова перестает подергиваться… и успокоенное лицо отходит в тишину и даль духовного созерцания, он невольно напоминает колористически страстные и все же духовно утонченные портреты Тициана. В горячих глазах Николая Александровича с золотою иронической искрой, в его темных, волнистых почти что до плеч волосах, во всей природе его нарядности есть нечто романское. По внешности он скорее европейский аристократ, чем русский барин. Его предков легче представить себе рыцарями, гордо выезжающими из ворот средневекового замка, чем боярами, согбенно переступающими порог низких палат. У Бердяева прекрасные руки, он любит перчатки – быть может, в память того бранного значения, которое брошенная перчатка имела в феодальные времена.
Темперамент у Бердяева боевой. Все статьи его и даже книги – атаки. Он и с Богом разговаривает так, как будто атакует Его в небесной крепости.
Подобно Чаадаеву, писавшему, что он почел бы себя безумным, если бы у него в голове оказалось больше одной мысли, – Бердяев определенный однодум. Единая мысль, которою он мучился уже в довоенной Москве и которою будет мучиться и на смертном одре, это мысль о свободе. Многократно меняя свои теоретические точки зрения и свои оценки, Бердяев никогда не изменял ни своей теме, ни своему пафосу: как марксист он защищал экономическое и социальное раскрепощение масс, как идеалист – свободу духовного творчества от экономических баз и идеологических тенденций, как христианин он с каждым годом все страстнее защищает свободное сотрудничество человека с Богом и с недопустимою подчас запальчивостью борется против авторитарных посягательств духовенства на свободу профетически-философского духа в христианстве. На исходе средневековья Н. А. Бердяев, несмотря на свое христианство, мог бы кончить свою жизнь и на костре» (Ф. Степун. Бывшее и несбывшееся).
«Это был в то время красивый, с матовым оттенком кожи лица, окаймленного черной бородой, и такой же шевелюрой человек. Великолепный словесный фехтовальщик, остроумный, находчивый, начитанный, он порой успешно справлялся со своей „ролью“.
Выступления Бердяева с одинаковым вниманием воспринимались и людьми, бережно чтившими традиции, и молодежью, захваченной и увлеченной пафосом отрицания, стремившейся безжалостно свергать признаваемых „богов“ во имя неведомых „кумиров“. Солидная, всегда хорошо аргументированная словесная вязь выступлений Н. А. Бердяева вносила в разгоряченную атмосферу диспутов спокойствие. Его речи если не примиряли крайности, то помогали созданию обстановки, создавшей видимость рассудительных, серьезных разговоров о задачах искусства в современной жизни» (В. Лобанов. Кануны).
«Бердяев был щеголеват, носил галстуки бабочкой, веселых цветов, говорил много, пылко, в нем сразу чувствовался южанин – это не наш орловский или калужский человек. (И в речи юг: проблэма, сэрдце, станьция.) В общем, облик выдающийся. Бурный и вечно кипящий. В молодости я немало его читал, и в развитии моем внутреннем он роль сыграл – христианский философ линии Владимира Соловьева, но другого темперамента, уж очень нервен и в какой-то мере деспотичен (хотя стоял за свободу). Странным образом, деспотизм сквозил в самой фразе писания его. Фразы – заявления, почти предписания. Повторяю, имел он на меня влияние как философ. Как писатель никогда близок не был. Слишком для меня барабан. Все повелительно и однообразно. И никакого словесного своеобразия. Таких писателей легко переводить, они выходят хорошо на иностранных языках.
В нем была и французская кровь – кажется, довольно отдаленных предков. А отец его был барин южнорусских краев, от него, думаю, Николай Александрович наследовал вспыльчивость; помню, рассказывали, что отец этот вскипел раз на какого-то монаха, погнался за ним и чуть не прибил палкой. (Монахов-то и Н. А. не любил. Но не бил. И к детям был равнодушен.)» (Б. Зайцев. Далекое).
«Молодой человек, довольно высокий, с красивою гривою волос, он, как многие помнят, был страшно обезображен тогда еще только начинавшим разыгрываться „тиком“. Бердяев был большим мастером „разговора“. И вот этот блестящий оратор вдруг посреди какой-нибудь фразы – на какую-нибудь секунду – приостанавливался. Вдруг раскрывался рот, изо рта показывался его язык и до самого корня весь вылезал наружу. Понятно, все лицо вместе с тем искажалось ужасной гримасой. Однако через мгновение все становилось на свое место; прерванные слова и фраза благополучно и кругло получали свое завершение, – перед нами вновь был тот же красивый молодой философ, который только что приводил в восхищение всех дам» (В. Пяст. Встречи).
«Ходил слух, что язык стал высовываться после того, как Бердяев увидел дьявола. Сам он мне (действительно) рассказывал, как однажды ночью обнаружил у себя под кроватью кучу дьяволов и, спасаясь от них, выскочил на лестницу» (К. Локс. Повесть об одном десятилетии).
«Бердяев признавался, что с начала до конца жизни ощущал себя в ней „прохожим“ и своим отличительным свойством считал нелюбовь к семейственности, тягу к сидению в собственной скорлупе, и, собственно, все его дружеские отношения, всегда лишенные какой-либо фамильярности, были неизменно лишь постольку-поскольку…
Он имел аскетические вкусы, но не шел аскетическим путем и обманывал ожидания всех, кто рассчитывал, что он к ним примкнет. Он был и оставался человеком собственной идеи своего искания истины, во всем участвовал как бы издалека, неоднократно говорил о том, что никогда не чувствовал восторга, влияния, но зато не раз переживал „экстаз“ разрыва. Одиночество словно радовало его, для него оно было возвращением из чужого мира в свой родной, и это отчасти объясняет его отталкивание от всего академического. Может быть, действительно не без основания считал себя самым нетрадиционным человеком на свете.
Ему никогда не довелось порывать с авторитетами, хотя бы потому, что он их по-настоящему никогда не признавал. Он искренне любил греческих трагиков, Сервантеса и Шекспира, Диккенса и Бальзака, даже „Отверженные“ Гюго, но более всего – Ибсена и Бодлера. А из русских, кроме Достоевского и Толстого, ближе всего ему были Лермонтов и Тютчев; как ни странно, Пушкина он сумел оценить только на склоне лет. А в философии он более всего привязался к Канту; зато с оттенком иронии относился ко всем неокантианцам, которые, по его словам, только искажают идею своего учителя, тогда как сам он всю жизнь враждовал с моралью общеобязательного» (А. Бахрах. Кламарский мудрец (Николай Бердяев)).
«…Несчастие Бердяева, что он не православный, не католик, не мусульманин, не язычник, не просто светский человек и не только писатель. Около этого есть немного мистика и немного философа. К тому дан блеск стилиста, собеседника и члена общества. Однако больше всего в нем француза и мусульманина. Я бы назвал его французом из Алжира. Но Бог послал его писать для русских и в неуклюжих русских журналах. От этого он вечно „не на месте“ и всегда раздражен, не удовлетворен и сердится. Но „по-алжирски“, т. е. красиво» (В. Розанов. Последние листья).
БИЛИБИН Иван Яковлевич
4(16).8.1876 – 7.2.1942
Живописец, график, театральный художник. Ученик И. Репина. Участник выставок объединения «Мир искусства» (с 1899) и «Союза русских художников» (1903–1910); принимал участие в оформлении журналов «Мир искусства», «Адская почта», «Золотое руно» и др. Иллюстрации к народным сказкам и былинам «Царевна-лягушка» (1901), «Василиса Прекрасная» (1902), «Вольга» (1904) и др., к сказкам Пушкина. Оформлял спектакли «Садко» Н. Римского-Корсакова (1909 и 1914), «Руслан и Людмила» М. Глинки (1913) и др. С 1920 по 1936 жил в эмиграции. Умер от голода в блокадном Ленинграде.
«Выдающимся представителем национального русского искусства был И. Я. Билибин. Несомненно большой мастер в графическом и демонстративном искусстве (в серии народных сказок и былин), он был и художником сцены.
Как это ни странно, в его чрезвычайно аккуратно, протокольно-внимательно, по историческим документам исполняемых работах он со своей суховатой техникой был сродни немецкому искусству. В расцветке, впадая в пестроту, он не проявлял подлинного живописного дара. Его искусство было более почтенно, чем вдохновенно, но нельзя не отметить у Билибина большой изобретательности и фантазии в композициях разного рода» (С. Щербатов. Художник в ушедшей России).
«Билибин был довольно высок и строен, но, как большинство художников-графиков, слегка сутулился. Кроме того, у него была подскакивающая (слегка) походка – „пляска святого Витта“. Говорил он заикаясь: когда был спокоен – едва заметно, когда же волновался – повторял почти каждый слог, в особенности начальный каждой фразы два-три раза. И тогда его с непривычки мне было трудно понять. Лицо у него было типичное русское – лицо красивого боярина. Брюнет с карими глазами, он носил окладистую бороду и волосы, зачесанные назад. Всегда слегка надушен, с выхоленными руками и кружевным белым платком, кокетливо выглядывающим из бокового карманчика пиджака (или визитки), он не любил ничего кричащего, пестрого и выглядел (на первый взгляд) натянутым „светским“ человеком, будучи по натуре чрезвычайно прост и общителен» (И. Мозалевский. В Петербурге и Париже).
«С Иваном Яковлевичем Билибиным я познакомилась в 1911 году. Это был милейший человек, очень простой, веселый, остроумный и жизнерадостный. С ним было и интересно, и приятно встречаться. Он любил вспоминать и рассказывать о своих поездках по различным губерниям. Какую богатую коллекцию костюмов он собрал: были у него и сарафаны, и ковши, и юбки, и различные повойники, и полотенца, и платки. Все это было расшито изумительными узорами. Иван Яковлевич любил все эти предметы и украшал ими свою квартиру на 10-й линии Васильевского острова. У него был большой вкус, и его квартира походила на музей.
В столовой стояли соломенные стулья, а на столе, покрытом красивой деревенской скатертью, стояли пузатый самовар, трактирный чайник и красивые расписные чашки, в которых чай казался вкуснее. Иван Яковлевич был гостеприимным и хлебосольным хозяином, как и полагается быть настоящему русскому. А сколько он знал народных прибауток и поговорок. Он любил подшутить над приятелями, которых у него было много. Однажды он слушал, как немолодой знакомый что-то весело рассказывал и смеялся, и вдруг к нему обратился: „Что ты, дедушка, хохочешь, али ты жениться хочешь? Я жениться не хочу, просто так похохочу“. У меня был брат Коля, застенчивый юноша, очень высокий, худой. Иван Яковлевич над ним любил при всех подшутить: „Что-то там вдали колыхаеца? Это Коленька хромой зонтом упираеца“.
Себя Иван Яковлевич называл Жан Жаковлевичем, а французского писателя Жан-Жака Руссо Иваном Яковлевичем и уверял, что это совсем одно и то же.
Иван Яковлевич был большим эстетом, все, что его окружало, было красиво, со вкусом, он не допускал ничего кричащего, одевался строго, но чрезвычайно элегантно и никогда не распускался, даже в деревне» (К. Янович. Яман-Кола).

«К своей работе Иван Яковлевич относился с большой тщательностью и придирчивостью. Несмотря на огромный опыт книжно-графической работы, постоянно задумывался над тем, как нужно иллюстрировать то или иное произведение, внимательно, несколько раз читал его, привлекал огромный подсобный материал (книги, музеи), пользовался консультациями специалистов.
…Набросок будущей композиции Иван Яковлевич делал на клочке бумаги или в альбоме. Далее он брал кальку и на ней жестким карандашом разрабатывал задуманный рисунок. Завершив эту работу, художник переносил композицию на ватман. Затем приступал к расцвечиванию. Сильно разбавив акварельную краску чаще всего с желтовато-золотистым оттенком, он наносил ее на всю поверхность обрамленного им рисунка. Затем оконтуривал отдельные предметы избранным цветом и тем же цветом, только более светлым – разбавленным, покрывал ограниченную таким образом площадь. За всю совместную жизнь с Иваном Яковлевичем я никогда не видел его работающим пером. Все его работы выполнены кистью.
Работая над иллюстрированием книги, Иван Яковлевич уделял очень большое внимание „подсобным иллюстрациям“ – заставкам, заглавным буквам, концовкам и пр. В создании орнаментального мотива и осуществлении его художник обладал поразительным чутьем и поразительной твердостью руки. Однажды… между нами возник спор. Я как-то обмолвился, что он с закрытыми глазами не создаст четкого рисунка орнамента. Иван Яковлевич улыбнулся и предложил мне спорить с ним на щелчки по носу. Я забинтовал ему глаза, он взял в руки карандаш, нарисовал простой, совершенно четкий орнаментальный мотив» (М. Потоцкий. Дядя Ваня).
«У Билибина было твердое правило, которое он не столько проповедовал словесно, сколько утверждал своею повседневною практикой: это профессиональная безупречность, „чистая работа“ – определение, которое во всяком ремесле означает высокий класс мастерства. Он морщился, когда видел на рисунке штрихи, замазанные белилами, и требовал, чтобы и прямые линии рамки вокруг рисунка были проведены тушью от руки, без помощи линейки и рейсфедера. Этот культ уверенной, твердо проведенной линии мы видим во всех его работах. В них нет недосказанных мест. Даже зыбкие, неопределенные формы облаков или морской пены он заключает в проволоку непрерывного штриха. В этом однообразии приемов и сила и слабость графики Билибина. Ее язык пригоден только для ограниченного круга тем.
…За годы скитаний на чужбине он побывал даже в Африке. Затем обосновался в Париже, где имел своего издателя. Во время мирового финансового кризиса художники-французы стали коситься на „метеков“ – иностранцев, отбивающих у них хлеб. Издатель предложил Билибину переменить фамилию на французскую: „Сударь, ваши рисунки нравятся публике, но ваше иностранное имя вызывает недобрые чувства среди собратьев-художников. Выберите себе какую-нибудь французскую фамилию: Durand, Dupont – не все ли вам равно? – и мы будем публиковать вас под этим именем. А Bilibinе, Libibin, Bilibine – это звучит чуждо для французского уха“.
Билибин отвечал ему с достоинством: „Monsieur, существует старая, рваная тряпка, за которую сражаются, за которую умирают. Эта тряпка называется знамя! Мое имя – это мое знамя“. И менять фамилии не стал» (Н. Кузьмин. Художник и книга).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































