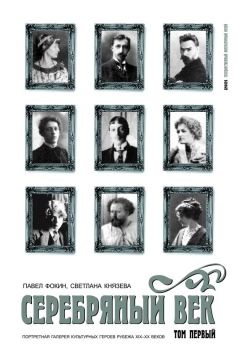
Автор книги: Светлана Князева
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
АНДРЕЕВА (урожд. Юрковская, в первом браке Желябужская) Мария Федоровна

4(16).7.1868 – 8.12.1953
Драматическая актриса, общественный деятель. Член РСДРП с 1904. На сцене с 1894. В 1898–1905 – актриса МХТ; в 1913–1914 – в театре Суходольского в Москве; в 1914–1917 – в театре Незлобина; в 1919–1926 – в Большом драматическом театре в Петрограде. В 1919–1921 – зам. комиссара просвещения по художественным делам в Петрограде. Роли: Лель («Снегурочка» А. Островского), Раутенделейн («Потонувший колокол» Гауптмана), Кете («Одинокие» Гауптмана), Ирина («Три сестры» Чехова), Лиза («Дети солнца» М. Горького), Наташа («На дне» М. Горького) и др. Возлюбленная М. Горького.
«Средних лет женщина необычайно редкой привлекательности, с глазами блестящими, зовущими, блаженными, как сказал об этих глазах Кугель» (Л. Борисов. За круглым столом прошлого).
«Нередко встречаешь актрис, у которых находишь сходство с кем-нибудь из товарищей по профессии: что-то напоминает внешний облик или что-то знакомое слышится в голосе, но никто никогда не напоминал мне Марию Федоровну. Она, конечно, не была такой большой актрисой, как Комиссаржевская. Ее глаза не излучали те „снопы“ внутреннего огня, какие излучала Вера Федоровна, артистический нерв, вся внутренняя энергия не были такими сильными, как у последней, но все же, я не боюсь это утверждать, Андреева была „явлением“ в театре.
Актриса, обладавшая особым тембром голоса, большим темпераментом, необыкновенной способностью передавать музыкальный ритм роли, она выделялась своеобразием, только ей свойственными особенностями игры, естественностью и простотой. М. Ф. была очень красива и пластична, особенно на сцене, но красота эта не существовала сама по себе, она всегда помогала глубже выявить внутреннюю жизнь образа» (В. Веригина. Исключительное дарование).
«Если на карте Москвы отметить кружочком особняк Долгова в Георгиевском переулке – ныне Вспольном, – где жила М. Ф. Андреева, и от кружочка прочертить линии к тем местам, с какими этот дом был так или иначе связан, получится звезда с лучами на весь город. Линии пойдут: в Камергерский переулок – где Художественный театр; на Страстной бульвар – к дантистке Розенберг: нет ли письма от ленинцев; в мастерскую Ламановой – там примерить новое платье; в кустарный музей в Леонтьевском – купить детям игрушки; во дворец генерал-губернатора – великая княгиня рисовала с Андреевой портрет; на Божедомку – к старухе-иждивенке; в Бутырки – хлопотать за арестованных студентов; к милейшему чудаку Митрофану Петровичу Надеину, бывшему народнику, а теперь изобретателю усовершенствованных ватерклозетов, о которых он писал брошюры с цитатами из Гете; в особняки и квартиры Станиславского, Качалова, Шаляпина, Якунчиковой, Леонида Андреева, которого наконец-то удалось соединить с его невестой: она ему отказывала потому, что он пил, а он пил потому, что она ему отказывала. Все это – близкие знакомые, друзья. А затем в Хамовники – к Софье Андреевне Толстой, к Муромцевым, Маклаковым и родственникам по мужу – чиновникам государственного контроля; кстати, не забыть бы заехать к адвокату насчет развода с мужем.
Мудрено ли, что к вечеру серый рысак кучера Сергея был весь в мыле, даже морда, как будто его собирались брить. А вечером где-то, кажется в Политехническом, благотворительный концерт.
Если же прочертить обратные линии – из тех мест, где жили люди, к которым не надо заезжать, которые сами приедут или придут, – лучей у звезды получится вдвое больше и они распространятся за черту городу. Линии пойдут: со Спиридоньевки – от Саввы Морозова; из „Княжьего двора“ – от Горького; из Лоскутной гостиницы – от Бунина и Скитальца; неизвестно откуда – от нелегального Баумана; из магазинов Елисеева, Сиу, Абрикосова; от маникюрши; от поставщиков провизии из Коломенского и Лосинки; от модисток, вдов-просительниц, поклонниц по театру, детских репетиторов и десятка-двух студентов, считавших дом Андреевой своим пристанищем и печатавших здесь прокламации.
Нелегко было совмещать столь разнообразный состав посетителей. Революционеры и студенты никак не сочетались с чиновниками и аристократами. В доме было два подъезда – через один впускали „своих“, через другой – „гостей“.
Для друзей – четверги. В этот день со стола не убирали до поздней ночи: меняли приборы, подбавляли закусок и вина, самовар кипел бесперечь. Гости приезжали, уезжали, пили, ели, беседовали, спорили, читали стихи и прозу, уединялись в зал и гостиную для деловых и интимных разговоров» (А. Серебров. Время и люди).
«Из всех актрис Художественного театра Андреева выделялась особой музыкальностью игры. Этому впечатлению способствовал ее голос своеобразного инструментального тембра. Особенно музыкальна она была в чеховских пьесах. Мне кажется, что Андреева покоряла не столько силой игры, сколько ее исключительной гармоничностью» (В. Веригина. Воспоминания).
АНДРЕЕВА-ДЕЛЬМАС (урожд. Тищинская) Любовь Александровна

17(29).9.1884 – 30.4.1969
Певица (меццо-сопрано). На сцене с 1905 («Новая опера» Церетели в Петербурге). В 1908–1909 работала в Киевской опере, в 1910–1911 – в петербургском Народном доме, в 1911–1914 – в «Русских сезонах» в Монте-Карло и Париже, в 1913–1919 – в петербургском Театре музыкальной драмы. Партии: Кармен («Кармен»), Мария Мнишек («Борис Годунов»), Полина, Графиня («Пиковая дама»), Лель, Весна («Снегурочка»), Амнерис («Аида»), Паж («Гугеноты») и др. Адресат лирики А. Блока (цикл «Кармен»).
«В Музыкальной драме он [А. Блок. – Сост.] увидел в роли Кармен известную артистку Любовь Александровну Дельмас и был сразу охвачен стихийным обаянием ее исполнения и соответствием ее облика с типом обольстительной и неукротимой испанской цыганки. Этот тип был всегда ему близок. Теперь он нашел его полное воплощение в огненно-страстной игре, обаятельном облике и увлекательном пенье Дельмас.
…И в жизни артистка не обманула предчувствий поэта…Да, велика притягательная сила этой женщины – прекрасны линии ее высокого, гибкого стана, пышно золотое руно ее рыжих волос, обаятельно неправильное, переменчивое лицо, неотразимо влекущее кокетство. И при этом талант, огненный артистический темперамент и голос, так глубоко звучащий на низких нотах…Отношения между поэтом и Кармен были самые лучшие до конца его дней. В этом пленительном облике нет ничего мрачного или тяжелого. Напротив – весь он солнечный, легкий, праздничный. От него веет душевным и телесными здоровьем и бесконечной жизненностью» (М. Бекетова. Воспоминания об Александре Блоке).
«Блок на литературном вечере в зале Тенишевского училища. Прочитав стихи на эстраде, он перешел в публику и занял место рядом с Л. А. Андреевой-Дельмас. Она была ослепительна, в лиловом открытом вечернем платье. Как сияли ее мраморные плечи! Какой мягкой рыже-красной бронзой отливали и рдели ее волосы! Как задумчиво смотрел он в ее близкое-близкое лицо! Как доверчиво покоился ее белый локоть на черном рукаве его сюртука!» (Е. Тагер. Блок в 1915).
АНДРЕЕВСКИЙ Сергей Аркадьевич
29.12.1847 (10.1.1848) – 9.11.1918
Поэт, переводчик, критик (статьи о Лермонтове, Баратынском, Достоевском, Некрасове), мемуарист; по профессии юрист; послужил прототипом персонажей в произведениях Боборыкина, М. Горького, Мережковского. Публикации в журналах «Вестник Европы», «Новое время», «Русская мысль» и др. Сборник «Стихотворения» (СПб., 1886; изд. 2-е, 1898). Книги «Литературные чтения» (СПб., 1891; 4-е изд. под назв. «Литературные очерки» – СПб., 1913), «Книга о смерти (Мысли и воспоминания)» (т. 1–2, Ревель; Берлин, 1922). Друг З. Гиппиус.
«Об Андреевском было множество разных мнений: в большинстве хороших, никогда особенно дурных. Почти все считали его „дилетантом“: художники – дилетантом в искусстве, адвокаты – в адвокатуре. Тут есть доля правды. Только „дилетантизм“ надо взять безмерно глубже, как дилетантизм в земном бытии; тогда, может быть, сквозь самую слабость этого навеки опечаленного человека мы увидим „необщее выражение“ его души.
…В Андреевском, во всей его длинной, стройной фигуре, много изящества, много именно грации, женственной, природной, без всякого „мужского“ фатовства. Он это знает…Забегая ко мне постоянно – „на 17 минут!“, всегда затем отправляется „читать“. Неизвестно что, может быть, дело, может быть, Пушкина. Я не спрашиваю, смеемся, прощаемся. За эти семнадцать минут он уже успел рассказать все про себя – от важного до потери любимого кашне (впрочем, и это важно, кашне для него драгоценность!).
Подружились мы почти сразу. Не знаю, однако, назвать ли наши отношения „дружбой“? Хотя еще меньше – приятельством. Как ни странно, у этого человека, избалованного общим приветом, успехом, имеющего друзей, семью, наконец, любимую женщину, – не было „куда пойти“; с этим ощущением он и шел ко мне, и, думается, чувствовал себя чем-то вроде моей „подруги“. И подружество его было тесное, теплое, милое. Если, в первую голову, нужное ему самому, если мною он никогда особенно не интересовался, – то ведь нам обоим довольно было одного общего, неослабевающего, интереса: к нему самому, к С. А. Андреевскому.
…Андреевский не был честолюбив. Коренное „недоумение, с которым он открыл глаза“ и продолжал жить, лишало его силы, потребной для страсти честолюбия. Но он был тщеславен, – невинно, ибо откровенно. Радовался написанному или какой-нибудь своей речи, и ужасно был доволен, если это нравилось другим. При тонком вкусе к поэзии он не мог долго увлекаться своими стихами и вполне искренно „отрицал“ их (отдельные строчки любил, впрочем, вспоминать и повторять). Да в стихах и не удавалось ему коснуться самого своего важного.

Сергей Андреевский
…Слово „эстет“, особенно в позднейшем понимании, не подходит к Андреевскому. Он – очень сын своего времени: его эстетизм – скорее „романтика“. Принято думать, что чуть не вся современность второй половины 19 века была реалистичной. Но романтика живуча, а идеализм умеет принимать всякие формы…Но Андреевский носил в себе не зерно романтизма-эстетизма, – он был романтик по преимуществу. Он в самом деле не видел разницы между своей речью, судебной или застольной, и, скажем, своим очерком о Лермонтове; сборником речей гордился как собранием поэм. На суде мне пришлось слышать его только раз. Высокая фигура, красиво-резкий профиль на белом фоне окна и – речь, такая же простая, как чтение Пушкина в комнате. Речи его, среди адвокатов, так и звались „поэтическими“. Андреевский любил вспоминать, что одну из них прямо начал двустишием:
Есть лица женские, в которых взор мужчины
Встречает для себя мгновенный приговор…
Пассивность романтизма, с налетом как бы скепсиса, приближали Андреевского, с виду, к „эстетству“. Но то, что казалось скепсисом, не было ли только внешним отражением его недоуменной, вечной прикованности к загадкам жизни и смерти? А по существу, этот адвокат-поэт не остался ли романтиком, настоящим сыном своего времени? За его порог он так и не переступил. Политика и общественность его никогда не интересовали (чем он даже хвастался), но и в искусстве он не заметил движения жизни. Перелом 90–900-х годов оставил его добродушно-равнодушным. В период расцвета новой поэзии (хорошей или дурной, не в том дело) он написал статью о „смерти рифмы“, носился с мыслью, что всякие стихи вообще кончены. Не говоря о Блоке и позднейших, он никогда не считал „поэтами“ ни Сологуба, ни Брюсова, ни Бальмонта…» (З. Гиппиус. Все непонятно).
Андрей Белый

наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев;
14(26).10.1880 – 8.1.1934
Поэт, прозаик, критик, литературовед, мемуарист. Публикации в журналах «Мир искусства», «Весы», «Аполлон» и др. Литературные симфонии «Симфония (2-я, драматическая)» (М., 1902), «Северная симфония (1-я, героическая)» (М., 1904), «Возврат» (М., 1905), «Кубок метелей» (М., 1908). Стихотворные сборники «Золото в лазури» (М., 1904), «Пепел» (СПб., 1909), «Урна» (М., 1909), «Королевна и рыцари» (Пг., 1919), «Звезда» (Пг., 1922), «После разлуки» (Пг.; Берлин, 1922), «Стихотворения» (перераб. авт. ред. всех книг стих., Берлин; Пг.; М., 1923); поэмы «Христос воскрес» (Пг., 1918), «Первое свидание» (Пг., 1921), «Глоссолалия» (Берлин, 1922). Романы «Серебряный голубь» (М., 1910), «Петербург» (Пг., 1916), «Котик Летаев» (Пг., 1922), «Москва» (М., 1926), «Крещеный китаец» (М., 1927), «Маски» (М., 1932). Литературно-критические сборники и сочинения «Символизм» (М., 1910), «Арабески» (М., 1911), «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой» (М., 1911), «Ритм как диалектика и „Медный всадник“» (М., 1929), «Мастерство Гоголя» (М.; Л., 1934). Философские эссе «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (М., 1917), «Революция и культура» (М., 1917), «Кризис жизни» (Пг., 1918), «Кризис мысли» (Пг., 1918), «Кризис культуры» (Пг., 1918). Мемуары «Воспоминания о Блоке» (М.; Берлин, 1922–1923), «На рубеже двух столетий» (М., 1930), «Начало века» (М.; Л., 1933), «Между двух революций» (Л., 1934).
«В 1904 году Андрей Белый был еще очень молод, золотокудр, голубоглаз и в высшей степени обаятелен. Газетная подворотня гоготала над его стихами и прозой, поражавшими новизной, дерзостью, иногда – проблесками истинной гениальности.
…Им восхищались. В его присутствии все словно мгновенно менялось, смещалось или озарялось его светом. И он в самом деле был светел. Кажется, все, даже те, кто ему завидовал, были немножко в него влюблены. Даже Брюсов порой подпадал под его обаяние» (В. Ходасевич. Некрополь).
«Стихи свои Белый не читает, а поет высоким приятным тенором, упираясь ладонями в колени и закрывая глаза. Одеваться он не умел. Щеголял то в потертой студенческой тужурке, то в мешковатом неуклюжем сюртуке, должно быть, перешитом из отцовского, то в какой-то кургузой курточке» (Б. Садовской. «Весы». Воспоминания сотрудника. 1904–1905).
«Внешность Бориса Николаевича, а особенно его манера говорить и его движения были очень своеобразны. В его внешности, при первом взгляде на него, бросались в глаза его лоб, высокий и выпуклый, и глаза, большие, светло-серо-голубые, с черными, загнутыми кверху ресницами, большею частью широко открытые и смотрящие, не мигая, куда-то внутрь себя. Глаза очень выразительные и постоянно менявшиеся. Лоб его был обрамлен немного редеющими волосами. Овал лица и черты его были очень мягкие. Роста он был невысокого, очень худ. Ходил он очень странно, как-то крадучись, иногда озираясь, нерешительно, как будто на цыпочках и покачиваясь верхом корпуса наперед. На всем его существе был отпечаток большой нервности и какой-то особенной чувствительности, казалось, что он все время к чему-то прислушивается. Когда он говорил с волнением о чем-нибудь, то он вдруг вставал, выпрямлялся, закидывал голову, глаза его темнели, почти закрывались, веки как-то трепетали, и голос его, вообще очень звучный, понижался, и вся фигура делалась какой-то величавой, торжественной. А иногда, наоборот, глаза его все расширялись, не мигая, как будто он слышит не только внутри себя, но и где-то еще здесь какие-то голоса, и он отводил голову в сторону, молча и не мигая, оглядывался и шептал беззвучно, одними губами: „да, да“. Когда он слушал кого-нибудь, то он часто в знак согласия, широко открыв глаза, как-то удивленно открывал рот, беззвучно шепча „да, да“, и много раз кивал головой…Нужно еще заметить, что общая манера Бориса Николаевича была очень скромная и скорее церемонно-вежливая. На всем его облике лежал отпечаток натуры мягкой, не волевой, но страшно чувствительной, все его существо буквально вибрировало от каждого сказанного, обращенного к нему слова. Он мог вспыхивать, терять голову, если ему вдруг казались какие-то враждебные флюиды откуда-нибудь» (М. Морозова. Андрей Белый).
«Андрей Белый замечательно говорил. Его можно было слушать часами, даже не все понимая из того, что он говорит. Я не убежден, что он сам все понимал из своих фраз. Он говорил или конечными выводами силлогизмов, или одними придаточными предложениями. Если он сказал сам про себя, кокетничая: „Пишу как сапожник!“, то он мог еще точнее сказать: „Говорю как пифия“.
Сверкали „вечностью“ голубые глаза такой бесконечной синевы, какой не бывает даже у неба Гагр, а небо Абхазии синее любого синего цвета. Волосы со лба окончательно ползли на затылок. Белый мог говорить о чем угодно. И всегда вдохновенно. Он говорил разными шрифтами. В его тонировке масса почерков.
…К Белому гениально применимы слова Дельвига: „Я не люблю поэзии мистической: чем ближе к небу, тем холоднее“.
Белый мог бы стать капиталистом разума. Он намеренно превращал себя в кустаря рассуждений.
Если Брюсов всегда был застегнут на все пуговицы сюртука, то Белый был всегда в дезабилье.
Выражение глаз, великолепных глаз Белого, отчетливо напоминало глаза родящей женщины. Он всегда был беременен и часто вынашивал пустяки.
…Белый всю жизнь любил весенние лужи, наблюдая, как в них отражаются небо и облака, и ни разу не предпочел посмотреть прямо на облака.
Это был философ „второго смысла“» (В. Шершеневич. Великолепный очевидец).
«Он говорил слишком много, слишком остро, оригинально, глубоко, – затейно, – подчас прямо блестяще. Он не только понимает, – он даже пере-перепонял… все. Говорю это без малейшей улыбки. Я не отказываюсь от одной своей заметки в „Речи“, – она называлась, кажется, „Белая Стрела“. Б. Бугаев не гений, гением быть и не мог, а какие-то искры гениальности в нем зажигались, стрелы гениальности, неизвестно откуда летящие, куда уходящие, в него попадали. Но он всегда оставался их пассивным объектом.
Это не мешало ему самому быть, в противоположность правдивому Блоку, исключительно неправдивым. И что всего удивительнее – он оставался при том искренним. Но опять чувствовалась иная материя, разная природа. Блок по существу был верен. „Ты, Петр, камень“… А уж если не верен – так срывается с грохотом в такие тартарары, что и костей не соберешь. Срываться, однако, должен – ведь „ничего не понимает“…
Боря Бугаев, – весь легкий, легкий, как пух собственных волос в юности, – он танцуя перелетит, кажется, всякие „тарары“. Ему точно предназначено их пролетать, над ними танцевать – туда, сюда… направо, налево… вверх, вниз…
Боря Бугаев – воплощенная неверность. Такова его природа» (З. Гиппиус. Живые лица).

«А. Белый никогда не давал себе времени додумать до конца свои мысли о символизме, в чем и признался потом (см. „На перевале“). У него была перевернутая вверх ногами логика. Ее заменяли образ, догадки, какое-нибудь внутреннее озарение. К сожалению, у мысли есть свои непреложные требования. Стараясь приспособить неокантианство и Ницше на защиту своих откровений – он прежде всего выдал чрезвычайно простую тайну – ни Когена, ни Риккерта, ни даже Ницше он не прочел как следует. Его больше всего пленил „Заратустра“ – основа религиозной мистики той эпохи. Сумасшествие Ницше тоже было истолковано определенным образом как образ „Распятого“. Но все это было пустяками по сравнению с тем, что А. Белый этого периода [1907–1917. – Сост.] пытался сделать в области более ему близкой, в поэзии и романе. Самая сильная книга этого времени, без сомнения, „Пепел“ – по крайней мере она отличается подлинным своеобразием. Но что сказать о „Кубке метелей“, этой бессильной и бессвязной эротической мистике, или мистической эротике (называйте как хотите)? Сначала кажется, что она звучит в одной тональности со „Снежной маской“ Блока, вышедшей чуть ли не одновременно, но Блок сразу учуял истинный смысл этой книги, то есть подмену подлинного опыта словесностью в самом плохом „символическом“ смысле этого слова. Известен его отзыв об этой книге. Блок сказал, что она глубоко враждебна и чужда ему» (К. Локс. Повесть об одном десятилетии).
«Как передать впечатление от Андрея Белого? Первое впечатление: движения очень стройного тела в темной одежде. Движения говорят так же выразительно, как и слова. Они полны ритма. Аудитория самозабвенно слушает ворожбу. Мир – огранен как кристалл. Белый вертит его в руках, и кристалл переливается разноцветным пламенем. А вертящий – то покажется толстоносым, с раскосыми глазами, худощавым профессором, то вдруг – разрастутся глаза его так, что ничего, кроме этих глаз, не останется. Все плавится в их синем свете.
Руки – легкие, властные, жестом вздымают все кверху. Он почти танцует, передавая движения мыслей…Он часто не замечал ни обожания, ни глубины производимого его словами впечатления. Писательница Елена Михайловна Тагер с мягким юмором рассказывала мне в 60-е годы о своей встрече с ним: „Мы проговорили с ним весь вечер с необычайной душевной открытостью. Я ходила потом, раздумывая о внезапности и глубине этой дружбы, пораженная этим. Встретились через неделю на каком-то собрании, и он – не узнал меня. Я поняла: тогда он говорил не со мной – с человечеством! Меня не успел заметить. Меня потрясли открытые им горизонты, а он умчался в иные дали, забыв, кому именно открывал…“» (Н. Гаген-Торн. Memoria).
«Главная сила Белого, мне кажется, в том, что каждое его слово и каждый жест ежесекундно напоминают о „бездонном провале в вечность“. Все у него на сквозняке, все угрожает рухнуть куда-то. По-своему Белый громче кого бы то ни было кричит: „Помни о смерти“. Среди современников Белого мало кто, говоря о нем, не обмолвится: „чудак“. Скажет и не это: „фальшивый человек“, „фигляр“ и еще более неприятные клички нередко соседствуют с именем Белого. Но почти каждый из его ругателей неизменно добавляет: „А все-таки это писатель почти гениальный“. Блестящие, но математически отвлеченные схемы, замечательная, но утомительная игра слов и созвучий, редкое по силе чувства неустойчивости и относительности всего на свете – вот приблизительно главные слагаемые сочинений этого писателя» (Н. Оцуп. Андрей Белый. К 50-летию со дня рождения).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































