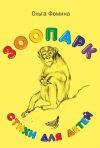Текст книги "Тайная жизнь пчел"

Автор книги: Сью Кидд
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Когда я натянула кеды и пошла обратно, свет уже лился вниз стройными колоннами, и мне хотелось, чтобы так было всегда – чтобы не было никакого Ти-Рэя, никакого мистера Гастона и чтобы никто не хотел избить Розалин до бесчувствия. Только омытые дождем леса и восходящий свет.

Глава пятая

Давайте на минуту представим, что мы достаточно малы, чтобы последовать за пчелой в улей. Первым, к чему нам придется привыкнуть, оказывается темнота…
«Исследование мира общественных насекомых»
Первая неделя у Августы была утешением, чистым облегчением. Изредка мир дает человеку такой шанс, краткую передышку; раздается удар гонга – и ты идешь в свой угол ринга, и кто-то смазывает милосердием твою избитую жизнь.
Всю эту неделю никто не заговаривал ни о моем отце, предположительно раздавленном трактором в результате несчастного случая, ни о давно потерянной тете Берни из Виргинии. Календарные сестры просто приняли нас.
Первое, что они сделали – позаботились об одежде для Розалин. Августа села в свой грузовик и отправилась прямо в магазин «Все по доллару», где купила Розалин четыре пары трусов, светло-голубую хлопчатобумажную ночную сорочку, три платья без пояса, сшитых на гавайский манер, и лифчик, способный удержать и валуны.
– Это не благотворительность, – предупредила Розалин, когда Августа разложила все это богатство на кухонном столе. – Я за все расплачусь.
– Можешь отработать, – кивнула Августа.
Пришла Мэй с отваром ведьмина ореха и ватными шариками и начала обрабатывать швы на лбу Розалин.
– От души тебе кто-то засветил, – сказала она, а мгновением позже запела без слов «О, Сюзанна!» в том же безумном темпе, как и накануне.
Джун, стоявшая над столом, изучая покупки, резко подняла голову.
– Опять ты свою мелодию напеваешь, – сказала она Мэй. – Почему бы тебе не пойти прогуляться?
Мэй уронила ватный шарик и вышла из комнаты.
Я глянула на Розалин, она пожала плечами. Джун закончила обрабатывать швы сама; ей было противно, я видела это по ее губам, по тому, как они стянулись в куриную гузку.
Я выскользнула наружу, чтобы найти Мэй. Мне хотелось сказать ей: «Я буду петь “Сюзанну” с тобой от начала до конца», – но я так и не смогла ее найти.

Это Мэй научила меня «медовой песенке»:
На могилку на мою улей ты поставь,
Пусть стекает, каплет мед, землю пропитав.
В день, когда умру я, прочь уйду отсель,
Больше ничего мне не надобно, поверь.
Золотом и солнцем красен райский сад,
Только мне милее мой мед, мой вертоград.
На могилку на мою улей ты поставь,
Пусть стекает, каплет мед, землю пропитав.
Я полюбила легкомысленную дурашливость этих стихов. Пение помогало мне снова почувствовать себя обычным человеком. Мэй пела эту песенку в кухне, раскатывая тесто или нарезая помидоры, а Августа гудела ее себе под нос, наклеивая этикетки на банки с медом. В ней была вся здешняя жизнь как есть.
Мы жили медом. Съедали по полной ложке утром, чтобы проснуться, и по ложке вечером, чтобы крепче уснуть. Мы ели его с каждой трапезой, чтобы успокаивать разум, укреплять стойкость и предотвращать смертельные заболевания. Мы обмазывались им, дезинфицируя порезы или залечивая потрескавшиеся губы. Мед шел в ванны, в крем для кожи, в малиновый чай и бисквиты. Куда пальцем ни ткни – в мед попадешь. За одну неделю мои костлявые руки и ноги начали округляться, а буйные космы на голове превратились в шелковистые локоны. Августа говорила, что мед – это амброзия богов и нектар богинь.
Я работала в медовом доме с Августой, а Розалин помогала Мэй в домашних хлопотах. Я научилась проводить нагретым на пару́ ножом по рамкам, срезая с сот восковые крышечки, правильно загружать их в центрифугу. Я регулировала пламя под паровым генератором и меняла нейлоновые чулки, с помощью которых Августа процеживала мед в чане-отстойнике. Я схватывала все настолько быстро, что она то и дело говорила, что я – чудо. Это ее собственные слова: Лили, ты – чудо.
Больше всего мне нравилось заливать пчелиный воск в формы для свечей. Августа использовала по фунту воска на свечу и вдавливала в него крохотные фиалки, которые я собирала в лесу. Ей приходили по почте заказы из магазинов, даже из таких дальних штатов, как Мэн и Вермонт. Люди покупали так много ее свечей и меда, что она едва успевала угнаться за спросом, а еще были жестяные банки с многоцелевым воском «Черная Мадонна» для особых клиентов. Августа говорила, что натертая воском леска не утонет, нитка станет прочнее, мебель будет блестеть ярче, оконные створки перестанут застревать в рамах, а раздраженная кожа засияет, как попка младенца. Пчелиный воск был волшебной панацеей от всего.
Мэй и Розалин спелись сразу. Мэй была простушкой. Я не имею в виду – умственно отсталой, потому что в каких-то отношениях она была очень даже сообразительной и читала кулинарные книги запоем. Я имею в виду, что она была наивна и бесхитростна, взрослый человек и ребенок в одно и то же время, к тому же с легкой безуминкой. Розалин любила ворчать, что по Мэй сумасшедший дом плачет, но все равно прикипела к ней сердцем. Я, бывало, заходила в кухню, и там они стояли плечом к плечу у раковины и разговаривали, позабыв, что держат в руках кукурузные початки, которые так и оставались неочищенными из-за их болтовни. Или мазали сосновые шишки арахисовой пастой для птиц.
Именно Розалин и раскрыла тайну песенки «О, Сюзанна!». Она сказала, что, пока все идет хорошо и весело, Мэй ведет себя нормально. Но стоит заговорить о неприятностях – например, о том, что голова у Розалин вся в швах, или о прикорневой гнили у помидоров, – и Мэй начинает напевать «О, Сюзанна!». Похоже, это был ее личный способ справляться с подступавшими слезами. На прикорневую гниль у помидоров его хватало, на остальное – не всегда.
Пару раз она рыдала так отчаянно, с криками выдирая себе волосы, что Розалин приходилось бежать и вызывать Августу из медового дома. Августа же спокойно посылала Мэй к каменной стене. Это было единственное, что могло привести ее в чувство.
Мэй не разрешала ставить в доме крысоловки, поскольку не могла вынести мысли о страдающей крысе. Но по-настоящему бесило Розалин то, что Мэй ловила пауков и выносила их из дома в совке. А мне это, наоборот, нравилось, поскольку напоминало о моей матери, любительнице насекомых. Я помогала Мэй отлавливать сенокосцев – не только потому что вид раздавленного насекомого мог спровоцировать у нее истерику, но и потому что, как мне казалось, так я проявляла верность заветам матери.
Без банана на завтрак жизнь была Мэй не в радость, и на этом банане не должно было быть ни единого пятнышка. Однажды утром я собственными глазами видела, как она очистила семь бананов подряд, прежде чем нашла один без изъянов. В кухне хранились целые кучи бананов, ими были доверху заполнены огромные керамические миски; после меда они были продуктом, который в этом доме держали в самом большом количестве. Мэй могла очистить за утро пять и больше бананов, отыскивая идеальный, безупречный плод, не пострадавший от побоев в жестоком мире бакалейной торговли.
Поначалу Розалин готовила банановые пудинги, бананово-сливочные пироги, банановое желе и просто банановые дольки на листьях салата, пока Августа не сказала ей: ничего страшного, просто выбрасывай лишние, да и все.
Вот кого я никак не могла понять, так это Джун. Она преподавала историю и английский в средней школе для цветных, но истинной ее любовью была музыка. Когда мне удавалось пораньше закончить работу в медовом доме, я отправлялась на кухню смотреть, как Мэй с Розалин готовят, но на самом деле приходила туда послушать, как Джун играет на виолончели.
Она играла умирающим, приходила к ним домой и даже в больницу, чтобы серенадой проводить их в иную жизнь. Я никогда не слышала ни о чем подобном и, сидя за столом, попивая сладкий охлажденный чай, гадала, не в этом ли причина того, что Джун так редко улыбалась. Может быть, она слишком часто встречалась со смертью.
Я видела, она все еще недовольна тем, что мы с Розалин поселились у них; и это было единственным, что омрачало наше пребывание там.
Однажды вечером, пересекая двор, чтобы воспользоваться уборной в розовом доме, я подслушала ее разговор с Августой на задней веранде. Заслышав их голоса, я замерла возле куста гортензии.
– Ты же знаешь, что она врет, – говорила Джун.
– Знаю, – согласилась Августа. – Но они, безусловно, в беде, и им нужно место, где жить. Кто их примет – белую девочку и негритянку, если не мы? Здесь уж точно никто.
Пару секунд обе молчали. Я слышала, как мотыльки бились о лампочку на крыльце.
Потом Джун сказала:
– Мы не можем держать здесь беглянку и никому не дать знать об этом.
Августа повернулась к москитной двери и выглянула наружу, заставив меня отступить в гущу теней и прижаться спиной к дому.
– А кому надо дать знать? – спросила она. – Полиции? Да они просто ее заберут. Может быть, у нее и вправду умер отец. Если так, с кем ей будет лучше жить, чем с нами, – во всяком случае какое-то время?
– А как же тетка, о которой она говорила?
– Нет никакой тетки, и ты это знаешь, – отрезала Августа.
В голосе Джун послышалось раздражение:
– А что, если ее отец не погиб при этом так называемом несчастном случае? Разве он не станет ее искать?
Пауза. Я подкралась ближе к краю веранды.
– У меня просто есть предчувствие на этот счет, Джун. Что-то не велит мне отсылать ее туда, где она не хочет быть. По крайней мере, пока. У нее была какая-то причина уйти. Может быть, он плохо с ней обращался. Я верю, что мы можем ей помочь.
– Почему бы тебе не спросить ее прямо, что у нее за беда?
– Всему свое время, – ответила Августа. – Последнее, что я хочу – это отпугнуть ее лавиной вопросов. Она расскажет нам, когда будет к этому готова. Давай наберемся терпения.
– Но она же белая, Августа!
Это было для меня великим открытием – не то, что я белая, а то, что мое присутствие могло быть нежеланным для Джун из-за цвета моей кожи. Я и не представляла, что такое возможно – отвергать людей за то, что они белые. По моему телу прошла жаркая волна. «Праведное негодование» – так это называл брат Джеральд. Иисус испытывал праведное негодование, когда опрокидывал столы в храме и изгонял вороватых менял. Меня так и подмывало вбежать на веранду, опрокинуть пару столов и воскликнуть: «Прошу прощения, Джун Боутрайт, но ты меня даже не знаешь!»
– Давай посмотрим, получится ли у нас ей помочь, – сказала Августа. Джун встала, и я потеряла ее из виду. – Мы ей это должны.
– Я не считаю, что мы ей что-то должны, – возразила Джун.
Хлопнула дверь. Августа выключила свет и испустила вздох, который поплыл во тьму.
Я побрела обратно к медовому домику, стыдясь того, что Августа разгадала мое вранье, но при этом испытывая облегчение, поскольку она не планировала вызывать полицию или отсылать меня обратно – пока. Пока, сказала она.
Больше всего меня возмутила позиция Джун. Я присела на корточки в траве у границы леса, ощутила горячую струйку мочи, ударившую в землю между ног. Я смотрела, как она собирается лужицей на земле, ее острый запах поднимался в ночной воздух. Нет никакой разницы между моей мочой и мочой Джун. Вот что я думала, когда смотрела на темный кружок на земле. Моча была как моча.

Каждый вечер после ужина мы усаживались в крохотной гостиной сестер вокруг телевизора, на котором громоздился керамический горшок с нарисованными пчелами. Экран было едва видно из-за плетей росшего в горшке филодендрона, между которыми мелькали сюжеты новостей.
Мне нравилась внешность Уолтера Кронкайта, его черные очки и голос, и еще то, что он знал все на свете. Вот это точно был человек, который никому не стал бы запрещать читать. Взять все, чего не было у Ти-Рэя, слепить это в форме человека – и получится Уолтер Кронкайт.
Он рассказывал нам о шествии в честь интеграции в Сент-Огастине, на которое напала толпа белых, о вигилантах[20]20
Отдельные граждане или группы, самовольно берущие на себя роль защитников закона или нравственных норм, преследующие лиц, обвиняемых в действительных или вымышленных проступках и правонарушениях.
[Закрыть], брандспойтах и слезоточивом газе. Мы узнавали от него все важные новости. Три гражданских активиста убиты. Взорваны две самодельные бомбы. За тремя студентами-неграми гнались с топорищами.
С тех пор как президент Джонсон подписал этот закон, казалось, кто-то вспорол боковые швы на американской жизни. Мы наблюдали, как на телеэкране друг за другом появляются губернаторы, призывая к «спокойствию и здравому смыслу». Августа говорила, что опасается, как бы в скором времени мы не увидели подобное и здесь, в Тибуроне.
Сидя перед телевизором, я остро ощущала белизну своей кожи и стеснялась себя, особенно когда с нами была Джун. Стеснение и стыд.
Мэй обычно телевизор не смотрела, но однажды вечером присоединилась к нам и посреди выпуска новостей начала напевать «О, Сюзанна!». Ее расстроил сюжет о негре по фамилии Рейнс из Джорджии, который был убит выстрелом из проезжавшей мимо машины. В новостях показали фото его вдовы, обнимавшей детей, и Мэй внезапно начала всхлипывать. Разумеется, все тут же вскочили на ноги, словно Мэй была гранатой с выдернутой чекой, и попытались успокоить ее, но было слишком поздно.
Она раскачивалась взад-вперед, заламывая руки и царапая себе лицо. Рванула на груди блузку, так что светло-желтые пуговицы разлетелись в стороны, точно кукурузные зерна со сковороды. Я еще никогда не видела ее такой, и это меня испугало.
Августа и Джун с двух сторон подхватили Мэй под локти и повели к двери движением столь плавным, что сразу стало ясно: им уже приходилось это делать. Пару секунд спустя я услышала, как струя воды наполняет ванну на львиных лапах, ту самую, в которой я уже дважды купалась в сдобренной медом воде. Одна из сестер надела на две из четырех лап красные носки – бог весть зачем. Я подозревала, что это сделала Мэй, которой вовсе не нужна была никакая причина.
Мы с Розалин подкрались к двери ванной комнаты. Она была чуть приоткрыта – достаточно, чтобы мы увидели Мэй, сидевшую в ванне в облачке пара, обнимающую собственные колени. Джун зачерпывала горстями воду и медленными струйками лила на спину Мэй. Рыдания ее утихли до шмыганья носом.
Из-за двери донесся голос Августы:
– Вот так, Мэй… Пусть смоются с тебя все страдания. Просто отпусти их.

Каждый вечер после новостей мы опускались на колени на ковер перед черной Марией и читали ей молитвы… точнее, мы с тремя сестрами вставали на колени, а Розалин сидела в кресле. Августа, Джун и Мэй называли эту статую Мадонной в Цепях – я тогда не знала, по какой причине.
Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами…
Сестры держали в руках низки деревянных четок и перебирали бусины пальцами. Поначалу Розалин отказывалась присоединяться к нам, но вскоре стала читать молитвы вместе со всеми. Я запомнила все слова молитвы в первый же вечер. Потому что мы проговаривали их снова и снова, пока они не начинали повторяться у меня в голове – и повторялись еще долго после того, как я перестала произносить их вслух.
Эта молитва вроде бы была католической, но когда я спросила Августу, католички ли они с сестрами, она ответила:
– Ну, и да, и нет. Наша мать была доброй католичкой – дважды в неделю ходила к мессе в церкви Св. Марии в Ричмонде, но отец был ортодоксальным эклектиком.
Я представления не имела, кто такие ортодоксальные эклектики, но понимающе кивнула, словно у нас в Сильване их было полным-полно.
Августа пояснила:
– Мы с Мэй и Джун берем мамин католицизм и смешиваем его с другими ингредиентами. Не знаю, как это назвать, но нам подходит.
Повторив молитву Богородице примерно три сотни раз, мы молча возносили свои личные молитвы, которые сводились к минимуму, поскольку к этому времени колени у всех болели нестерпимо. Впрочем, мне не на что было жаловаться, поскольку это даже в сравнение не шло со стоянием на крупе. Под конец сестры осеняли себя крестным знамением ото лба к пупку, и на этом все заканчивалось.
Однажды вечером после крестного знамения все вышли из комнаты, кроме меня и Августы, и она сказала мне:
– Лили, если ты попросишь Марию о помощи, она тебе поможет.
Я не знала, что на это ответить, и просто пожала плечами.
Она жестом пригласила меня присесть в соседнее с ней кресло-качалку.
– Хочу рассказать тебе одну историю, – начала она. – Эту историю рассказывала нам мать, когда мы уставали от своих обязанностей или были не в ладах со своей жизнью.
– Я не устала от своих обязанностей, – заметила я.
– Я знаю, но это хорошая история. Просто послушай.
Я поудобней устроилась в кресле и стала раскачиваться, прислушиваясь к скрипу, которым славятся все кресла-качалки.
– Давным-давно на другом краю света, в стране Германии жила-была молодая монахиня по имени Беатрис, которая любила Деву Марию. Однако ей ужасно наскучило быть монахиней из-за всех обязанностей, которые приходилось выполнять, и правил, которым надо было следовать. Так что, когда терпение у нее лопнуло, однажды ночью она сняла монашескую одежду, сложила ее и оставила на кровати. Потом вылезла из окна монастыря и сбежала.
Ладно, я поняла, к чему она клонит.
– Она думала, ее ждет замечательное будущее, – продолжала Августа. – Но жизнь беглой монахини оказалась совсем не такой, какой она ее представляла. Беатрис скиталась, потерянная, побираясь на улицах. Через некоторое время она пожалела о том, что сбежала, но понимала, что ее ни за что не примут обратно.
Речь шла не о монахине Беатрис, это было ясно как божий день. Речь шла обо мне.
– И что с ней случилось? – спросила я, пытаясь сделать заинтересованное лицо.
– Ну, после многих лет странствий и страданий однажды она, прикрыв лицо, вернулась в монастырь, желая напоследок еще раз побывать там. Она вошла в часовню и спросила одну из своих прежних сестер: «Помнишь ли ты монахиню Беатрис, которая сбежала?» – «Что ты имеешь в виду? – удивилась сестра. – Монахиня Беатрис никуда не убегала. Вон она, подле алтаря, метет пол». Ну, можешь себе представить, как опешила настоящая Беатрис. Она подошла к подметальщице, чтобы получше разглядеть ее, и поняла, что это не кто иной, как Дева Мария. Мария улыбнулась Беатрис, увела ее обратно в келью и вручила монашеское одеяние. Видишь ли, Лили, все это время Мария подменяла ее.
Скрип моей качалки постепенно затих, когда я перестала раскачиваться. Что же Августа пыталась мне сказать? Что Мария будет подменять меня дома в Сильване, чтобы Ти-Рэй не заметил, что меня нет? Это было бы чересчур бредово даже для католиков. Наверное, она намекала мне: я знаю, что ты сбежала, – всех нас время от времени обуревает такое желание, – но рано или поздно ты захочешь вернуться домой. Просто попроси Марию о помощи.
Я попрощалась и ушла, радуясь возможности ускользнуть от ее внимания. После этого я начала просить Марию о помощи – но вовсе не о том, чтобы она отвела меня домой, как бедняжку монахиню Беатрис. Нет, я просила ее проследить, чтобы я никогда туда не возвращалась. Я просила Марию набросить полог на розовый дом, чтобы никто никогда нас не нашел. Я просила об этом каждый день и никак не могла отделаться от мысли, что просьба моя нашла отклик. Никто не стучался к нам в двери и не тащил нас в тюрьму. Мария создала вокруг нас защитную завесу.

В наш первый пятничный вечер в доме сестер, после завершения молитв, когда оранжевые и розовые полосы, оставленные закатом, еще висели в небе, я пошла с Августой на пасеку.
Прежде я не ходила к ульям, так что для начала она преподала мне урок, по ее выражению, «пасечного этикета». Она напомнила, что наш мир – это на самом деле одна большая пасека и что там и там прекрасно работают одни и те же правила. Не бояться, поскольку ни одна пчела, любящая жизнь, не хочет тебя ужалить. Но при этом не быть дурой: приходить туда в одежде с длинными рукавами и штанинами. Не хлопать ладонью пчел. Даже не думать об этом. Если злишься – свистеть. Злость возбуждает, а свист укрощает темперамент пчелы. Вести себя так, будто знаешь, что делаешь, даже если это не так. И прежде всего, окружать пчел любовью. Каждое маленькое существо хочет, чтобы его любили.
Августу жалили столько раз, что у нее выработался иммунитет. Да и больно от укусов почти не было. Более того, по ее словам, пчелиный яд облегчал артритные боли, но, поскольку у меня артрита не было, мне следовало прикрывать тело. Она дала мне одну из своих белых рубах с длинным рукавом, потом надела на меня белый шлем и расправила должным образом сетку.
Если это и был мужской мир, то сетчатая вуаль убрала из него жесткую колючую щетинистость. Сквозь нее все виделось мягче, нежнее. Идя вслед за Августой в своей пчелиной вуали, я чувствовала себя луной, плывущей позади ночного облака.
Она держала 48 ульев, расставленных в лесу вокруг розового дома, а еще 280 были размещены на разных фермах, на приречных участках и на болотцах. Фермеры обожали ее пчел: они хорошо опыляли растения, благодаря им арбузы были краснее, а огурцы крупнее. Они принимали бы ее пчел и бесплатно, но Августа расплачивалась с каждым из них пятью галлонами меда.
Она постоянно проверяла свои ульи, разъезжая на старом грузовике с прицепом по всему округу. «Медовоз», так она его называла. А то, что она делала с его помощью, носило название «медовый патруль».
Я смотрела, как она загружает красную тележку, хранившуюся на заднем дворе, рамками для расплода – небольшими дощечками, которые вставляются в ульи, чтобы пчелы заполняли их медом.
– Мы должны заботиться о том, чтобы у матки было достаточно места, куда откладывать яйца, иначе получим роение, – объяснила она.
– А что это значит – роение?
– Ну, это если появляется матка и группа независимо мыслящих пчел, которые отделяются от остального улья и ищут другое место для жизни, тогда мы и получаем рой. Как правило, он повисает где-нибудь на древесном суке.
Было ясно, что роения Августа не любит.
– Итак, – сказала она, возвращаясь к делу, – вот что нам нужно сделать: вынуть рамки, заполненные медом, и вставить пустые.
Августа тянула за собой тележку, а я шла за ней, неся дымарь, набитый сухой сосновой хвоей и табачными листьями. Зак клал на крышку каждого улья кирпичи, подсказывавшие Августе, что надо делать. Если кирпич лежал спереди, это значило, что колония почти заполнила соты и ей нужен другой магазинный корпус. Если кирпич лежал сзади, это означало, что в улье есть проблемы – завелась восковая моль или болеет матка. Поставленный на ребро кирпич извещал о счастливой пчелиной семье: никаких Оззи, только Харриет и десять тысяч ее дочерей[21]21
«Приключения Оззи и Харриет» – самый «долгоиграющий» ситком американского телевидения, ставший синонимом идеальной американской семейной жизни.
[Закрыть].
Августа чиркнула спичкой и подожгла траву в дымаре. Я увидела, как ее лицо озарилось светом, потом снова погрузилось в полумрак. Она стала помахивать дымарем, посылая в улей струи дыма. Этот дым, по ее словам, работал лучше успокоительного.
И все же, когда Августа снимала крышки, пчелы вытекали наружу толстыми черными жгутами, разбивавшимися на ленты, – трепетание крохотных крылышек, движущихся у наших лиц. Из воздуха сыпался дождь пчел, и я посылала им любовь, как и учила Августа.
Она вытащила из улья рамку – живой холст в вихрящихся черных и серых тонах с мазками серебра.
– Вот она, Лили, видишь ее? – указала Августа. – Вот это матка, или королева, та, что самая большая.
Я сделала книксен, как положено женщинам при встрече с английской королевой, чем рассмешила Августу.
Мне хотелось, чтобы она полюбила меня и оставила у себя навсегда. Если бы я смогла заставить ее полюбить меня, может быть, она забыла бы о возвращении монахини Беатрис домой и позволила мне остаться.

Когда мы вернулись к дому, уже совсем стемнело, и вокруг наших плеч вились светлячки. Сквозь кухонное окно я увидела Розалин и Мэй, заканчивавших мыть посуду.
Мы с Августой сели на складные садовые стулья подле лагерстремии, которая то и дело роняла на землю цветы. Из дома неслись звуки виолончели, поднимались все выше и выше, улетали с Земли, стремясь к Венере.
Я вполне могла понять, почему эти звуки способны выманивать души умирающих, сопровождая их в иную жизнь. Как жаль, что музыка Джун не провожала на тот свет мою мать!
Я вглядывалась в каменную стену, обрамлявшую задний двор.
– В эту стену засунуты клочки бумаги, – заметила я, как будто Августа могла этого не знать.
– Да, я знаю. Это стена Мэй. Она сама ее сложила.
– Сама Мэй?
Я попыталась представить, как она замешивает цемент, носит камни в своем фартуке.
– Она приносит много камней из речки, бегущей в лесу. Она работает над ней уже лет десять, если не больше.
Так вот откуда у нее такие здоровенные мышцы – от перетаскивания камней.
– А что это за клочки бумаги в стене?
– О, это долгая история, – сказала Августа. – Полагаю, ты уже заметила… что Мэй особенная.
– Да, конечно, она очень легко расстраивается, – сказала я.
– Это потому, что Мэй воспринимает вещи иначе, чем остальные люди, – Августа положила ладонь на мое предплечье. – Видишь ли, Лили, когда мы с тобой слышим о каком-нибудь несчастье, это может на некоторое время нас опечалить, но не разрушит весь наш мир. У наших сердец словно есть встроенная защита, не дающая боли справиться с нами. Но у Мэй такой защиты нет. Все это просто входит в нее – все страдание мира, – и ей кажется, что это происходит с ней самой. Она не видит разницы.
Значило ли это, что если бы я рассказала Мэй о наказании крупой, придуманном Ти-Рэем, о десятках его мелких жестокостей, о том, что я убила свою мать, – словом, если бы она услышала это, то почувствовала бы все, что чувствовала я? Мне захотелось узнать, что происходит, когда это чувствуют два человека. Разделило бы это мою боль пополам, сделало бы ее более терпимой – по тому же принципу, как удваивается разделенная на двоих радость?
Из окна кухни донесся голос Розалин, следом – смех Мэй. В тот момент Мэй казалась такой нормальной и счастливой, что я не могла себе представить, что сделало ее такой: вот она смеется, а в следующее мгновение ее обуревает мировая скорбь. Меньше всего на свете мне хотелось быть похожей на Мэй, но я не хотела и быть похожей на Ти-Рэя, невосприимчивой ко всему, кроме своей собственной эгоистичной жизни. Я даже не знала, что хуже.
– Она такая родилась? – спросила я.
– Нет, поначалу она была счастливым ребенком.
– Тогда что с ней случилось?
Августа сосредоточила взгляд на каменной стене.
– У Мэй была близняшка. Наша сестра Эйприл. Они вдвоем были как одна душа с двумя телами. Я никогда не видела ничего подобного. Если у Эйприл болел зуб, десна у Мэй так же распухала и краснела. Наш отец один-единственный раз выпорол Эйприл ремнем, и, я клянусь тебе, рубцы появились и на ногах Мэй. Они были неразделимы.
– В первый день, когда мы пришли сюда, Мэй сказала нам, что Эйприл умерла.
– Вот тогда-то все и началось у Мэй, – произнесла Августа, потом посмотрела на меня, словно пытаясь решить, стоит ли продолжать. – Это не самая красивая история.
– Мою тоже красивой не назовешь, – буркнула я, и она улыбнулась.
– В общем, когда Эйприл и Мэй было одиннадцать лет, они пошли в палатку за мороженым. У каждой было по монетке. Они увидели там белых детей, которые лизали мороженое и рассматривали книжки-комиксы. Владелец палатки продал им по рожку с мороженым, но велел есть его на улице. Эйприл заупрямилась и сказала, что хочет посмотреть комиксы. Она спорила с ним на свой лад – так, как спорила с отцом, – и продавец наконец взял ее за локоть и выволок за дверь, а ее мороженое упало на землю. Она пришла домой, крича, что это несправедливо. Наш отец был единственным цветным дантистом в Ричмонде и в жизни повидал более чем достаточно несправедливости. Он сказал Эйприл: «В этом мире справедливости не бывает. Заруби это себе на носу».
Я подумала о том, что сама зарубила это себе на носу задолго до того, как мне исполнилось одиннадцать. Выпятила губу, подула себе на лицо, потом вывернула шею, чтобы увидеть Большую Медведицу. Музыка Джун лилась из окна серенадой.
– Думаю, многие дети вскоре и думать бы забыли о такой неприятности, но в Эйприл что-то надломилось, – продолжала Августа. – Она потеряла вкус к жизни – так, наверное, можно сказать. Этот случай открыл ей глаза на вещи, которых она, возможно, не замечала, пока была маленькой. У нее бывали целые периоды, когда она не хотела ни в школу ходить, ни что-либо делать. К тому времени как ей исполнилось тринадцать, у нее начались ужасные депрессии – и, разумеется, все, что чувствовала она, чувствовала и Мэй. А потом, когда Эйприл было пятнадцать, она достала отцовский дробовик и застрелилась.
Это было неожиданно. Я со всхлипом втянула в себя воздух, почти неосознанно вскинула руку и прижала ко рту.
– Понимаю, – кивнула Августа. – Ужасно слышать о таких вещах. – Она немного помолчала. – Когда умерла Эйприл, в Мэй тоже что-то умерло. После этого она больше не была нормальной. Казалось, сам мир стал ей сестрой-близнецом.
Черты Августы сплавлялись с тенями от деревьев. Я подобралась на стуле, чтобы лучше видеть ее.
– Наша мать говорила, что она как Мария – с сердцем снаружи, а не внутри груди. Мама хорошо о ней заботилась, но когда она умерла, эта задача досталась нам с Джун. Мы много лет пытались как-то помочь Мэй. Возили ее к врачам, но они понятия не имели, что с ней делать – разве что забрать в сумасшедший дом. И тогда у нас с Джун появилась эта идея со стеной плача.
– С какой-какой стеной?
– Стеной плача, – повторила она. – Как в Иерусалиме. Евреи ходят туда скорбеть. Для них это способ справиться со своим страданием. Видишь ли, они пишут свои молитвы на клочках бумаги и вкладывают их в щели стены.
– И Мэй так же делает?
Августа кивнула.
– Все эти бумажки, которые ты видела там между камнями, – это записки, которые пишет Мэй, все тяжелые чувства, которые она в себе носит. Кажется, это единственное, что ей помогает.
Я бросила взгляд в сторону стены, теперь незримой в темноте. Бирмингем, 15 сент., четыре маленьких ангела умерли.
– Бедняжка Мэй, – вздохнула я.
– Да, – согласилась Августа. – Бедняжка Мэй.
И некоторое время мы сидели печалясь, пока вокруг нас не собрались комары и не загнали в дом.

В медовом доме Розалин лежала на своем топчане с выключенным светом и вентилятором, включенным на полную мощность. Я разделась, оставив только трусы и майку, но все равно было слишком жарко, и шевелиться не хотелось.
В груди было больно от чувств. Интересно, думала я, мерит ли сейчас Ти-Рэй шагами полы и больно ли ему так, как я надеялась. Может быть, он корил себя за то, что был такой гнилой подделкой под отца и плохо со мной обращался, но в этом я сомневалась. Скорее уж придумывал способы меня прибить.
Я снова и снова переворачивала подушку в поисках прохлады, думая о Мэй, о ее стене и о том, до чего докатился мир, что людям становятся необходимы такие вещи. Меня потряхивало при одной мысли о том, сколько всего может ютиться там, между этими камнями. Эта стена вызывала у меня в памяти кровоточащие куски мяса, которые готовила Розалин, протыкая их острой шпиговальной иглой и засовывая в проколы кусочки дикого, горького чеснока.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?