Текст книги "Леонид Филатов"
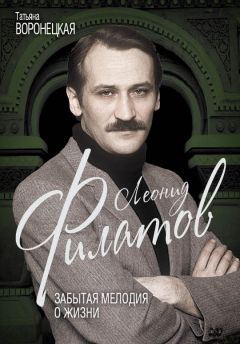
Автор книги: Татьяна Воронецкая
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
«Любовные похождения» в Париже
1992 год. Это было непростое время, время перестройки, и осознали мы это значительно позже. Как верны слова восточных мудрецов: «не дай вам бог жить во времена великих перемен». Время очень сложное, напряженное, все живут в ожидании чего-то необычного, какой-то свободы, но какой? Каких-то изменений, но каких? Никто конкретно ответа не знал.
Лене свойственно все воспринимать близко к сердцу. Он человек очень гражданственный, поэтому все новости, вести, которые тогда появились, он слушал, сидя на ковре, поджав под себя ноги и непрерывно глядя на экран: то Литва, то Тбилиси… Все замирали вокруг, когда он смотрел новости, политические передачи, потом все увиденное очень бурно обсуждалось, на таком нерве, так активно; и эти дискуссии становились частью нашей жизни. Такое открытое диссидентство, протест против всего старого и поддержка всего нового, – а что это за собой несет, никто не знал. Всем хотелось изменений, но каждый представлял эти изменения по-своему, поэтому пришли к тому, что радость ожидания сменилась разочарованием и апатией в обществе. Старое разрушилось, а новое создавалось очень медленно и не так, как хотелось. Кинематограф находился в запустении все эти 10 лет. Развалены все структуры, производственные и творческие. Люди разбегались, кто торговал всем на свете, кто становился челноком, кто чем был занят… Чтобы создать фильм, нужны были немыслимые усилия: и к доставанию средств, и к организации процесса съемок. Доходило до анекдота: инвесторы могли дать шампанское и сказать: продайте это шампанское, а на эти деньги снимите фильм, потому что в качестве спонсорской поддержки мы можем дать только товар, а не деньги. Такой же анекдотичный случай был на нашей студии, когда к нам пришел режиссер Евгений Матвеев. Тогда он искал средства на свой фильм «Любить по-русски», и совхоз «Белая дача», где он был почетным колхозником, предложил ему покупать огурцы дешевле в колхозе, а затем продавать дороже в Москве, а на вырученные деньги снимать кино. И люди серьезно за это брались, потому что не знали, как выходить из сложившейся ситуации. Потихоньку у нас стала появляться такая профессия, как продюсер, которая до сих пор достаточно загадочна: Кто такой продюсер? Что он должен делать? Откуда должен брать деньги?
И именно в это тяжелое время перестройки Лене пришлось стать режиссером и начать снимать свой второй фильм «Любовные похождения Толика Парамонова». Сценарий им был написан по собственной пьесе «Свобода или смерть». Эта повесть посвящена диссиденту, который в России писательствует и считает себя таким истинным борцом за свободу, добивается отъезда на Запад. События происходят в 80-е годы, во время правления Черненко. Герой добивается отъезда во Францию непростым путем, он предает своих товарищей, сдает их КГБ, говоря, что они делают подпольный журнал, уезжает. Там, в Париже, он волею судьбы понимает, что его литераторство никому не нужно. Это ничтожество возомнило себя великим литератором и великим борцом. На Западе он опять в борьбе, теперь уже примыкает к коммунистам из Латинской Америки, так как он не бороться не может и практически погибает на коммунистической тусовке-демонстрации, глупо, неожиданно для самого себя, выстрелив во французского полицейского, за что и был расстрелян на месте.
Казалось бы, такая странная судьба – демократа-коммуниста. По тем временам, когда картина задумывалась, герой был необычайно актуален, потому что тогда происходила сильная трансформация общества, которую понять умом было очень тяжело. Когда я смотрю трансляцию Рождества из Кафедрального собора и вижу со свечами людей, которые раньше были на митингах, были членами КПСС и страшными атеистами, для меня становится загадкой их поведение. Загадкой в том смысле, что я не знаю, когда они были искренними? И это страшный момент, когда ты не знаешь, когда человек был искренен, что, собственно, и рождает недоверие в обществе. Что интересно, когда подозреваешь этих людей и думаешь, когда они были искренними, сейчас или тогда, вдруг понимаешь, что они могли быть искренними и тогда, и сейчас, это определенное состояние их души и характера. Они верят своему лицемерию. Леня это очень хорошо уловил в своем герое. Это был трагифарс, вернее, попытка создания трагифарса, что само по себе тяжело, потому что трагедию в чистом виде в наше время создать невозможно и с фарсом такие же большие сложности. Необходимо какое-то удивительное сочетание времени и места для того, чтобы что-то создать в этом жанре, и именно тогда такое было время, время самого трагифарса, и фильм удивительно бы прозвучал, выйдя на экраны. Судьба фильма была очень непростая, съемки начинались, потом опять замораживались, потом Леня пускался в поиски денежных средств, и тогда я, киновед и кинокритик, которая только писала и читала, как и многие другие в то время, стала приобретать новую профессию – продюсера. Мы обивали пороги, искали средства, и средства были найдены. Президент банка, который финансировал картину, обожал искусство и всячески поддерживал его. Правда, иногда деньги задерживались, поэтому время от времени приходилось навещать банкира, деликатно напоминая о сроках. Встречи эти были незабываемые. Президент, очень обаятельный кавказский человек, обожал пение и часто исполнял нам свой любимый репертуар. Однажды, мы с директором фильма и бухгалтером тоже запели на три голоса «Тбилисо», чем привели его в восторг, и деньги были незамедлительно перечислены.

С Ниной и Анфисой
Нам надо было снимать в Париже, потому что по сценарию герой отбывает туда. Съемки в Париже по тем временам чудовищно дороги и сложны. Денег, как всегда, мало. Минимум надо отправить туда съемочную группу, максимум снять фильм. К сожалению, мы были сильно ограничены в средствах и активно искали спонсоров. Даже писали в Аэрофлот – мол, помогите переправить съемочную группу в Париж. Аэроначальники нам ответили не без юмора: против любовных похождений Парамонова на территории Франции не возражаем, но помочь не можем.
По сценарию в Париже была съемка демонстрации коммунистов, причем эти коммунисты были не простые, а латиноамериканцы, нам нужно было человек 200–300, которые шли на манифестацию с горящим сердцем и взором. В Париже сделали круглые глаза и сказали, что они уже не видели лет сто подобных сборищ, да еще со смертельным исходом. Когда мы подсчитали, во что обходится массовка, поняли, что нужен колоссальный штат людей, чтобы за каждую группу в 5–6 статистов отвечал человек. На каждого человека должна оформляться страховка, и мы должны были с ним возиться как с супергероем. Средства нам это не позволяли. Леня говорит: «Мне нужна правда жизни на экране, и если у нас не будет этой ключевой сцены, то не будет и фильма, поэтому идите и ищите именно латинамериканцев. Никаких армян, грузин, как замены на экране быть не должно». Мы совершенно расстроенные с директором фильма Маей Кантор отправились на поиски этих «коммунистически настроенных» латиноамериканцев, понимая, что у нас нет средств, чтобы пригласить их через французскую фирму. В одном джазовом кафе, где мы снимали несколько эпизодов с участием нашего героя, мы увидели прекрасно играющего на скрипке румынского цыгана, а внешне вылитого латиноамериканца, который находился в Париже со своим табором, и цыгане с радостью согласились сниматься в фильме. Мы их очень просили, чтобы они не проговорились, что они не латиноамериканцы: на вопрос, какой они нации, должны были молчать. И вот табор прибыл на съемки демонстрации. Мы сами все загримировались и нарядились, чтобы присоединиться к этому коллективу и выглядеть, как можно массовей, но демонстрация все равно получилась очень жиденькой, но и очень правдоподобной. Во Франции, как правило, это небольшие группы людей, которые несут плакаты и транспаранты. У нас так и получилось. Леня сказал: «Теперь я вижу правду жизни на экране. Латиноамериканцы очень убедительны». Потом кто-то в группе нас предал, сказал Лене, что это были цыгане. Леня очень обиделся, но другого выхода из этой ситуации у нас тогда не было.
Была еще сцена, в которой Толик встречается в кафе со своей возлюбленной. Туда же забредают его соотечественники, молодые люди, которые оторвались от своей группы и, пугливо озираясь, ходят «куда не положено». Нам снова понадобились статисты, и мы нашли несколько русских с выразительными лицами. А в этом же кафе сидела пара французов-провинциалов, которая проводила в Париже медовый месяц. Молодой муж выглядел вполне по-русски и согласился сняться бесплатно, потому что мы пообещали прокат во Франции. Он даже не играл – просто стоял среди «комсомольцев» с серьезным выражением лица.
По сюжету Толик должен заговорить с ребятами, а они ему рассказывают о переменах на Родине: умер Андропов, пришел Черненко… Тогда Толик бросает: «Передайте вашему Черненко…», – и посылает все политбюро далеко и надолго. Мы, «комсомольцы», долго бежали от психа из кафе, а Филатов вслед нам громко пел: «Комсомольцы, добровольцы…» Сцена великолепная, но никак нам не давалась – на всех нападал гомерический хохот, дубли портили один за другим. И только этот молодожен оставался невозмутимым, потому что вообще не понимал, что происходит. Когда же посмотрели отснятый материал, оказалось, что именно его недоуменная физиономия выглядит наиболее убедительно.
Наши люди устроены так, что всегда сравнивают себя с жителями Запада. Вот и наша съемочная группа, проходя мимо витрин французских магазинов, решила, а чем мы хуже Голливуда! Вот в Голливуде… вот там… так и мы хотим, чтобы нам платили больше. Однако командировочные – 30 долларов, больше мы платить не могли. Я всех предупредила: не устраивает эта сумма, можете оставаться в Москве. В Москве с этим условием все были согласны и молчали. Когда прибыли во Францию, с людьми творилось что-то невообразимое, просто лучше латиноамериканцев боролись за свои права. Все это осложняло работу. Но и это мы преодолели.
Наше кино не имеет такого проката в стране, который может вернуть хотя бы часть тех затрат, которые сегодня идут на съемку картины. Такая ситуация была и в 1993 году, когда мы снимали «Толика Парамонова» в Париже.
Конечно, когда я вывозила на съемки в Париж около 30 человек, по тем временам это была крутая поездка и очень сложная. Дерганое финансирование, которое не давало нормально работать. Много происходило накладок: смешных и грустных. Вся съемочная группа уехала в Париж, а Французское посольство не дало визы трем главным героям процесса – Л. Филатову, оператору Н. Немоляеву и актеру Н. Губенко, играющему одну из главных ролей. Вы можете себе представить наш шок: время идет, мы сидим в Париже, а те люди, без которых мы не можем снять ни метра, остались в Москве. Пришлось задействовать массу людей, чтобы к нам быстрее прибыли задержанные. Мы «отомстили» посольству тем, что они вынуждены были выйти на работу в воскресный день, чтобы выдать визы, а для посольских людей работа в воскресенье, все равно, что конец света. Когда Леня приехал в Париж, французы ко мне прибежали и сказали: «Это и есть ваш режиссер? Это тот, кто и будет снимать кино?» Я говорю: «Да. А что, собственно, за переполох? Чем он вам не нравится?» – «Но у него какой-то странный вид, он что – пьет или что с ним происходит?»
И тогда я впервые обратила внимание: конечно, я видела, что Леня изменился, но не придавала этому значения, сваливала на усталость. А здесь я впервые заметила, что движения у Лени замедленные, ватные, как бы нарушена координация. Тогда уже явно проявились первые признаки болезни. Леня себя очень плохо чувствовал на съемках фильма. Роль, которую он играл, требовала необыкновенной энергетики, которая вообще присуща Лене. Он всегда был как один нерв, как один мускул. Весь настроенный на движение, постоянное напряжение. Он стремительно двигался, говорил, у него особенная дикция, его никто не мог дублировать, это было безумно сложно. Его речь как бы интонационно бежит впереди него. Роль Толика была трагифарсовая, комедийная, необычная для Лени, потому что все герои Лени так или иначе были такими советскими супергероями. В этом фильме Толик – пародия на героя. Определенный имидж: стрижка бобриком, очечки кругленькие, облик полуподлеца и полугероя. Для Лени-артиста этот образ необычен. Тем более роль предполагала много сложных комедийных сцен, поэтому одновременно быть актером, режиссером и сценаристом было безумно тяжело – эта нагрузка ему была непосильна, что становилось очевидно. У меня не было опыта работы с Леней на съемках, в основном мы беседовали, когда я писала книгу, ездила с ним на съемки к другим режиссерам, ходила на репетиции в театр, беседовала с людьми, с которыми он работал. Здесь я впервые столкнулся с тем, что Леня отпустил ситуацию на съемках, оператор был предоставлен сам себе. Леня как будто очень устал, и такая была усталость, что возникало чувство, что он ко всему безразличен.
В это время Леня себя чувствовал уже плохо. Его долго везде изучали, в разных клиниках, больницах, ставили разные страшные диагнозы, один из них – злокачественная гипертония реактивного типа. Леня не поддавался, болезнь существовала параллельно, он старался жить не обращая на нее внимания. Съемки продолжались…
Когда мы сняли в Париже все, что нам нужно, финансирующий нас банк, вообще имевший больше отношение к сельскому хозяйству, чем к кино, где даже не понимали, как нас надо финансировать, не доплатил некую сумму французам. Мы сидели каждый день на факсах, переговаривались с этим банком, где нас заверили: деньги почти отгружены, ждите! Но французы верят не факсам, а чекам. В аэропорту, перед самой посадкой, они забрали в залог нашу съемочную технику и отснятую пленку. Я поспешила в Москву выколачивать долг, а в Париже оставила нашего директора, тоже без денег. Она тогда говорила, что хорошо поняла, что такое безработный в Париже. Когда ходишь с пустыми руками мимо шикарных витрин «Шанелей», «Диоров», ешь одну булочку раз в три дня и экономишь на транспорте, ожидая каких-то средств из Москвы. Это был первый опыт тех капиталистических отношений, которые мы хлебнули позже. В итоге, когда директор отбывала назад с дорогущей техникой в Москву, от радости, в эйфории свободы, она забыла негатив картины в аэропорту Парижа. Весь ужас был в том, что во Франции полицейские, опасаясь терроризма, с такими находками поступают просто: расстреливают на месте из пулемета-робота. Но нам необыкновенно, просто фантастически повезло. Несмотря на то, что коробки с пленкой выглядят как мины, полицейские все-таки открыли их и убедились, что бомбы нет. Хотя при этом неминуемо должны были засветить негатив. Оператор упаковал пленку, так надежно, что она не засветилась! Так что ее удалось быстро вернуть в Москву. Сейчас это вспоминается с юмором. А тогда мне казалось, что надо ложиться и умирать.

С Денисом и внучкой Оленькой
Нашей работе все время чинились какие-то препятствия, на нас лежала тяжелая печать невезения, которую мы все время преодолевали, как в мелочах, так и в состоянии здоровья Лени, которое в Москве совсем ухудшилось. И уже наступил момент, когда Леня совсем разболелся, и мы зарезервировали картину в ожидании, что он выздоровеет, с надеждой, что это произойдет, что Леня поправится, что картину мы доснимем, потому что впереди оставались самые сложные сцены для Лени-актера. Без этих ключевых сцен, хотя у нас было снято много материала и мы стали уже отбирать и вчерне монтировать его, было ясно, что без этих сцен картину невозможно будет показать на экране.
Это было время, когда в жизни Лени начался непростой этап борьбы за выживание. Ясно, что Леня стал тяжело болеть. Он был очень стойкий в борьбе с болезнью, ему удалили обе почки, и он год прожил без них. Другой психологически поддался бы этой ситуации. Ее очень тяжело преодолеть, и прежде всего физически. Через день он являлся на аппарат искусственной почки, потому что кровь должна очищаться, так как лишний глоток воды может привести к самым непредсказуемым последствиям, начнутся реактивные отеки или в области ног, или в области легких. «Около шести-семи реанимаций пережил Леня», – говорила его жена Нина Щацкая. Это была чудовищная нагрузка на семью Филатовых. Нина ухаживала за Леней, всегда и везде была с ним. Вместе с ним лежала в больнице, ночами Леню надо было переворачивать с бока на бок, потому что, если это не сделать, не поменять ему позу, то к утру Лени может и не быть. Ситуация была экстремальная, вся семья жила в состоянии постоянного риска. Конечно, это тяжело и психологически, и физически, но Леня вел себя необыкновенно стойко. В этот момент он писал очень смешную сказку «Любовь к трем апельсинам», начал работать над «Декамероном» и, даже готовясь к операции, диктовал Нине текст сказки.
Повлияла ли болезнь на Леню? Безусловно, он очень изменился. Его необыкновенная энергетика, не ушла, просто раньше он был настроен на внешне активное общение, а сейчас его энергия ушла вглубь души и дает ему внутренние силы для писания. Больше всего он сегодня ценит очень простые и ясные вещи в жизни: солнце, небо, тепло, уют, близких людей, все что первостепенно, то, к чему человек приходит или в определенном возрасте, или в определенный моменте своей жизни, когда какая-либо ситуация открывает ему глаза на основную ценность человеческого бытия. Для Лени сейчас произошло такое открытие, и он отошел от всей ненужной суеты, и сейчас вся его энергия погружена в ценность жизни каждого дня.
…Леня – человек с большим юмором, и юмор помогал ему всегда. У него юмор философского склада на все житейские ситуации, и это то состояние, в котором ему приятно находиться. Он любит новые анекдоты, смешные случаи, парадоксальные вещи. Всегда предвкушает встречу с друзьями, которые придут к нему, и они на кухне будут пить чай, кофе, курить и рассказывать анекдоты, байки. Все это ему очень нравится, он любит этим жить, делиться тем, что сделал, написал, и смотреть, какая на это реакция. Он любит общение, но, как вы понимаете, оно бывает разным. Леня стал избегать случайных людей, суетные разговоры, уносящие у него много сил, к которым раньше был очень терпим. Сразу чувствуешь, как он закрывается внутренне, начинает заниматься своими делами…
…Он любит кино. У него удивительное отношение к кинематографу. Он любит его как зритель, наивный и простодушный, и как специалист, который знает все изнутри, как-то все очень «ведчески» – какие это года, какие это картины, какие сцены… Он удивительно в себе совмещает разную любовь к кино, поэтому до бесконечности может смотреть детективы, триллеры и находить для себя массу зрительской радости. Леня очень любит читать детективы, это такая страсть для него, он обожает все детективы, что там будет и как. С таким напряжением смотрит и читает. В этот момент ничего не должно обсуждаться, вся жизнь должна затихать. Смеяться над какими-то ситуациями, происходящими в этих детективах, нельзя, потому что здесь все главное и серьезное. Он уже зритель и наслаждается этой картиной, поэтому обсмеянию нюансы не подлежат. Я всегда удивлялась, как Леня со своей эрудицией, со своим интеллектом может смотреть какой-нибудь детективный сериал и так в него погружаться. Это удивительная черта его натуры, сочетание простодушности, детскости и интеллекта… Он широко одаренный, творческий человек, и это проявляется во всем, что он делает, чем просто интересуется.
Сейчас Леня много пишет. Кино для него тема закрытая и перешедшая в другую область, пока это только создание телепередачи «Чтобы помнили». Леню очень поразила в свое время фраза, которую Высоцкий написал в своей анкете, во времена каких-то социологических исследований. Высоцкого спросили: «И что же главное остается для вас в жизни?» Он сказал: «Чтобы помнили, когда меня не будет». Это так горько, когда из жизни уходит так много талантливых людей и потихоньку они нами забываются. Иногда мы смотрим фильм и не осознаем, что тот, кто снимался в фильме, уже давно не с нами, но великая магия кино в том, что люди остаются и молодыми, и любимыми, и веселыми на экране. Этот трагизм ситуации очень хорошо почувствовал Леня, когда создавал цикл передач. Конечно, самые первые передачи были с большой отдачей, они делались на каком-то внутреннем подъеме. Леня загорелся идеей, отдавая ей много сил. Сейчас его участие не столько определяет, сколько направляет передачу. Я помню, как он смотрел свою передачу об актере Юрии Каморном, трагически погибшем, и плакал…
Особенность Лени еще и в том, что люди, которые вокруг него, в какой-то мере живут им. Он настолько большое дерево… Мне запомнился такой случай. К Лене пришел его друг – артист Володя Качан – и говорит, что выпустили какую-то юморную энциклопедию и там написано так: Качан – друг Леонида Филатова, актер. И Качана потрясло то, что ему дали характеристику в первую очередь как друга Л. Филатова. А потом уже актера. Володя на самом деле большой друг Лени и очень морально, психологически поддерживал семью Филатовых, когда Леня болел.
Лене повезло с друзьями. Они не отказались от него во время болезни, казалось бы, больной человек – покой, больницы, капризы, какая тут дружба, иной раз и близкие сбегают и устают, но Леню миновала сия участь, а его друзья и близкие прошли одно из самых страшных испытаний – долгой болезнью ближнего.
Леонид Ярмольник появился в жизни Леонида так близко совершенно неожиданно. Они знались по театру, но не более того, Ярмольник принадлежал как бы к другому, молодому поколению театра, однако одним из первых на помощь Филатову пришел именно он и стал по праву, уж если не ангелом-хранителем, то другом-хранителем Лениной жизни.
Леня с Ниной отдыхали в одном из подмосковных домов отдыха, веря, что отдых вернет силы Лене, но когда местный врач посмотрел результаты анализов Леонида, то вызвал к себе Ярмольника (именно он устроил Филатова полечиться в доме отдыха) и попросил забрать Леонида прямо сейчас, так как, судя по результатам анализов, Лене оставалось жить считанные часы. Что в таких случаях можно сказать… Когда случается беда, большое счастье, если есть люди, которые могут тебе помочь. Ярмольник погрузил Леню в такси и повез в медицинский центр к профессору Шумакову.
С тех пор он постоянно помогает Филатову. Два года стоял Леня в очереди на донорскую почку, и именно Ярмольник добился, чтобы ее быстрее выделили Леониду, именно он организовал диализ – очищение крови для Лени, добился закупки необходимой новой аппаратуры. Заботился он о Филатове даже в мелочах: зная, как он любит смотреть телевизор, установил у него антенну «НТВ+». И еще много других знаков внимания. Видимо, возраст для дружбы не так уж и важен, видимо, два Леонида одной группы крови, общих духовных устремлений, и Леонид Ярмольник – хороший, добрый человек. Многие забыли, что можно быть просто хорошим человеком и уметь сострадать и помогать ближнему своему.
Я помню, когда мы с Леонидом собирали деньги на картину, на него напала икота, которая не отпускала его несколько дней ни днем, ни ночью. Что мы только ни делали: били по спине, пили воду, задерживали дыхание по разным рецептам всех стран и народов, ничто не помогало. Пришли мы в серьезный банк на переговоры, где он не переставал икать, все вокруг сделали знающие лица и сказали мне потом: «Пить надо меньше». И это было очень обидно, потому что Леня вообще не пил в тот период и был далек от этой мысли. Тогда, борясь с икотой, мы смеялись, позже мы узнали, что икота означала: он перенес инсульт на ногах. Видимо, это тоже повлияло на его речь, общее состояние, потому что эта чехарда с почками приводила к тому, что он переносил микроинсульты на ногах, сам того не зная.
Во всех поездках, когда ездил на съемки в другие страны, а тогда было очень сложно все купить, представлялись целой эпопеей и сапоги, и пальто – попытки приобретения были равны полету в космос. Леня всегда все вез из командировок, своей жене Нине Щацкой он старался максимально доставить какую-то радость, какие-то счастливые минуты в жизни. Лене значительнее, приятнее доставить радость ближнему, чем себе. Такой вот человек, сам очень неприхотливый, но желающий своим близким людям, к которым он очень привязан, которых он очень любит, сделать хоть какой-нибудь пустячок, но приятный. Я помню, он своему сыну Денису готовил сюрприз на день рождения, тот очень любил «Баунти», и Леня закупил какое-то грандиозное количество, большой ящик этого «Баунти», чтобы обрушить эту сладкую массу на него и произвести впечатление на парня этим «райским наслаждением».

С близкими друзьями
Сегодня, когда я иду к Лене, мне все время говорят: «Если пойдете к Филатову, передайте… или возьмите нас с собой…» Казалось бы, сейчас Леня уже не в центре событий, он не снимается в кино. Не то его физическое состояние, однако число поклонниц не уменьшается, как говорил Михаил Жванецкий: «Вот такой он секс-символ в нашей стране». Его внутреннее начало, его человеческая стойкость притягательны по-прежнему для большинства людей. Он не перестает быть интересным.
Мы снимали сцену из фильма «Любовные похождения Толика Парамонова», где наш герой должен, обливаясь горючими слезами, пить водку на могиле Бунина на Русском кладбище неподалеку от Парижа. А нас несколько раз предупредили: это мемориал, здесь водку пить нельзя! Да и по сценарию кладбищенские служащие должны были, увидев пьющего русского, прогнать его. Ну, думаю, найдем статистов прямо на месте. Пробежались по кладбищу, и точно: идет по аллее пожилой человек, на лицо – копия покойного актера Жана Габена. Мне даже как-то не по себе стало. Но отбросила суеверие и попросила подыграть в эпизоде. Умоляла. Чуть ли не на коленях стояла. Вы, говорю, второй Жан Габен. Он об этом великом актере слыхом не слыхивал. В общем, все зря. Стала искать дальше и нашла польских эмигрантов, которые работали могильщиками. Те и вовсе перепугались: а вдруг их узнают на экране и вышлют из страны! Пришлось уламывать водителя-француза. Сыграл не хуже профессионала. Сцена фарсовая, в духе героя Толика Парамонова. Пока мы снимали, нашу съемочную машину ограбили, разбили стекла и вытащили все, что можно было украсть у нашего французского директора картины. Украли все бумаги, документы, банковские карточки, и среди них была моя книжечка о Леониде Филатове, которую я подарила директору, на русском языке. Известно, что в районе кладбища живет очень много русских эмигрантов, русских семей, которые стараются поддерживать традиции русского языка. Почему-то внутренне я была уверенна, что все найдут и вернут. Говорила директору, что все будет в порядке, чтобы он не расстраивался, что все найдется. Искренне в это верила. Он мне говорит, что такого не может быть, что чудес не бывает. Потом выясняется, что все нашлось, полиция вернула ему все бумаги, которые бросили грабители; все было возвращено, кроме книжечки о Леониде Филатове. Я про себя подумала и улыбнулась, может быть это знак какой-то и что-то в этом есть, если русские в Париже могут заинтересоваться нашим русским актером Леонидом Филатовым.
Из беседы с Леонидом Филатовым (продолжение разговора, январь 2000 года)
«Послушай, какое замечательное стихотворение “День поздней любви”:
Мы зорче и мягче, старее
В осенних любовных объятьях.
Глаза наши видят острее.
Тогда нам пора закрывать их.
Ну ладно, поговорим лучше о жизни…»
Так начинается наша беседа с Леней.
«…Относительно моей повести “Свобода или смерть”… Видишь ли, есть формула хорошая, давнишняя, с которой как бы можно спорить, но не нужно. “Свобода есть осознанная необходимость”. Это то, чего русский народ не может никак впустить себе в мозги. Хотя как бы среди прочего – мог бы… Если бы эта формула была как бы воспринята хоть немножко – многих бы гадостей не было сегодня. Но, к сожалению, в сценарии и в картине имеется в виду как бы другая свобода. Свобода дикаря. Вот свобода, не хватает свободы, хочу самовыражаться. Мне не дают. Я приехал на Запад, а там не ждут. Дают – пожалуйста, только никому это не интересно… Поэтому самовыражаться можно всем. Но как бы требовать за это внимания могут далеко не все. Ни при каком режиме…»
«…Вот мы говорили о герое нашей несостоявшейся картины, о Толике Парамонове. Это тип, который сегодня победил. Это тип, который как бы ничтожество, но активное, амбициозное. Активность в жизни хороша, но не осознание того, что ты ничтожен… Вот сегодня включи телевизор – нельзя сказать, что сплошные ничтожества, так не бывает, но много. Много. Причем все наглецы… Все звезды – как будто в России не было ни Карамзина, ни Пушкина, никого. Не хочу называть сегодняшние имена, фамилии. Не хочу быть агрессивным… Это время пройдет. Это время ложных богов, а значит, и ложных личностей…»
«…Вероятно, любая жизнь, нам кажется, предполагает импровизацию. Как бы на скрижалях, на небесах все поставлено, но есть какая-то импровизация, зависящая от человека… Думаю, в жизни моей было всего понемножку. Во-первых, я как бы не верю, что можно желать чего-то такого, что еще в жизни не было. В любой жизни, конечно, чего-то не хватает. Не помню – какой-то умник, но талантливый человек сказал (по-моему, чуть ли не Михаил Жванецкий): “Я уже никогда не сыграю Гамлета… мне уже никогда не будет семь лет…” Ну и так далее. То есть таких можно вещей насобирать много. Но в принципе я сторонник того, что как бы грех сетовать – кому бы то ни было, даже человеку, которому многое выпало. Грех роптать. Как говорится: “У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать”. В общем надо благодарно принимать все. Смысл такой у жизни, простой…»
«…Замечательно, когда ты можешь заниматься как бы тем, что любишь, и тебе за это платят, то есть ты можешь еще жить на это. Не думаю, чтобы это была главная драма, когда не можешь заниматься этим вообще, но не драма, когда ты не можешь за это получать, скажем, в полной мере или как тебе кажется – в полной. Человек честолюбивый всегда предполагает, что в своей профессии он будет если не первым, то где-то рядом – вторым, третьим, десятым. А когда он две тысячи пятьсот тридцать четвертый – он должен понимать, если он не полный дурак, ну не совсем, видимо, то выбрал себе в жизни, что следует. И я имею в виду только это, когда говорю, что не рожден артистом. Это как бы не от избытка скромности, а от простого понимания, что есть лучшие. Но и такое понимание тоже необходимо. Прежде всего нормально, чтобы не умереть дураком полным в обольщении, что ты из себя что-то вроде представляешь особенное. А такие есть у нас, мои коллеги сегодняшние, – в большом количестве… Я имею в виду особо яркую фигуру, которую не назову. Яркую в своей глупости, амбициозности, а не в профессии, но не назову…»
«…Нельзя требовать от общества, чтобы оно как бы оценивало что-то или не оценивало. Понимаешь, во-первых, а судьи кто? А во-вторых, кому надо – тот оценил. Я вполне доволен… И вот как бы от кого мне надо услыхать оценку… Я услышал. А остальные меня мало интересуют…»
«…Нельзя сказать, что все, что я делаю в жизни или делал, имеет какую-то ценность и для меня. Нет, конечно, очень много чепухи. Но чепуха или нет – становится понятным только спустя годы. А в тот момент, когда ты что-то делаешь, какое-то отправление, какое-то… в искусстве или там не знаю… тебе кажется – это серьезно. Это как бы должно быть услышано, увидено. Но потом проходит время, и ты сам понимаешь, что это не должно быть увидено. И хорошо, что не заметили. И хорошо, что никто не видел… Прошло время, поглядел на материал фильма моего последнего “Любовные похождения Толика Парамонова”, отснятый, – и думаю: слава Богу, что этот материал никто не увидел. Потому что работа работе рознь. А эту работу я делал уже больной. Делал некачественно, кое-что пропустил, очень много чего как бы не уследил. То есть получается: все, что Бог ни делает, все к лучшему».
«…В то время – а как же? – любой нормальный человек моего возраста хоть раз, хоть как-то рикошетом, но, конечно, столкнулся с КГБ. Я был на Лубянке. Меня… вызывали по поводу какого-то человека, которого я знал. Который вздумал удрать куда-то на корабле на каком-то. И долго допрашивали меня… вот хочу ли я за рубеж, здесь, мол, плохо жить? Не говорил ли чего похожего… Им чего-то надо было, а чего им надо – я понять не мог. Какое… петушиное слово они хотели от меня услышать?»
«…Не по причине какого-то патриотического чувства, а я слишком завязан с… культурой и с этим языком. Я понимал, я имел несчастье однажды по-английски рассказывать русские анекдоты в Марселе, в доме тамошнего режиссера Марешаля. И была большая компания, и я долго и мучительно рассказывал какой-то анекдот; и тогда понял в конце, что нюансы я не могу передать по-английски – знание английского не позволяет, и потом, нельзя какие-то вещи ни на одном языке, кроме русского, передать. Я понял, что, если такое случится… второй раз, я просто сойду с ума, взорвусь. Бывать за границей я любил, но очень коротко, потому что тоска, отсутствие аудитории, отсутствие людей, с которыми мне было бы интересно разговаривать на разные темы. Две недели – это уже невыносимо. Даже в очень неплохой стране».
«…Были люди, которые в моей жизни, конечно, оказали – я так думаю – влияние большее или меньшее, – уж я не знаю, на меня. Ну, конечно, Владимир Высоцкий в первую очередь. Он один, пожалуй, он один. Ну, Давид Боровский… А Володя прямым учителем не был, он никогда ничего не преподавал, не внедрял. Как бы такое наблюдение со стороны. По тем временам он мне казался сильно старше меня… Сказать, что мы были друзьями, – нет. Это было бы неправда. Друзьями мы не были. Была разница в возрасте. Как бы в театре это очень заметно. Семь-десять лет в театре – это очень большой срок. Особенно первое время, когда приходишь новичком. То есть тебя так – полувидят… Я вообще занимался другим делом. Я пришел в театр, меня тут же позвали в кино, через короткое время, и моя работа, и мое честолюбие лежали уже в русле кино. А в театре меня мало что занимало. Сказать правду, позже, когда появилась какая-то работа, ну когда появилась любовь, которая тоже связана с Таганкой, – конечно, появились какие-то нитки, которые меня связывали уже с этим домом. Я понял, что это дом для моей жизни неслучайный. Но это позднее гораздо было… Я почему не назвал Любимова? Ну, он как бы учитель абсолютный вообще, что же тут говорить. Любимов – это был такой заспанный лев. В ту пору он был еще сам молодой человек – я ничего не понимал, потому что он мне казался уже пожилой, ему было чуть за сорок. Такой совершенно царственный, еще не весь седой, но седеющий… Он фактурно подавлял меня первое время… Он большой во всех отношениях – а я субтильный, узкоплечий. Он красивый – я как бы наоборот. Было много чего-то такого, на что я всегда смотрел с большим любопытством и с большим уважением…»
«…В Театральном училище имени Щукина, в моей альма-матер, конечно, у меня были люди, которые как бы меня определили во многом, на многие годы вперед. Это мои учителя в первую очередь. Конечно, Владимир Абрамович Этуш, мой просто драгоценный учитель. Я и поступил благодаря ему, и вообще стал артистом, я думаю… Это Альберт Григорьевич Буров, которого все звали за спиной “Алик” – и студенты, и учителя, все… Он был молодой, обаятельный человек, который тоже принял участие в моей судьбе очень сильное. Достаточно сказать, что он просто организовал показ в Театре на Таганке, первый показ, но в который Любимов взял только меня. А спустя год в театр уже пришли мои однокурсники: Боря Галкин, Ванька Дыховичный… Стас Холмогоров, Володя Матюхин – но эти позднее уже. Буров очень суетился за кулисами – я знаю, по поводу меня. Разговоры с Любимовым, всякие аттестации меня. Тогда казалось, в училище – то, что я сочиняю стишки, – это как бы, ну, невероятный дар. Хотя ну кто не писал! Все писали. Не писали только ленивые… Ну а меня как-то особо преподносили в этом плане… Учителя в первую очередь, хотя и курс был непростой. На курсе были и Нина Русланова, и Ваня Дыховичный, Володя Качан, Боря Галкин, Саша Кайдановский».
«…На каком-то этапе, когда я стал киноманом, мне дико нравился Делон. Мне казалось – вот если бы я был как Делон, у меня было бы все, полный порядок. Делон как бы заслуживает, кроме того, внимания, но вот сказать, что это как бы ориентир или кумир, – конечно, нет. Ничего похожего не было».
«…Думаю, человек с годами все-таки начинает думать иначе… смотреть на жизнь иначе. Я, например, с годами больше успокаиваюсь. Я становлюсь великодушнее, хотя как бы былая злость нет-нет да и дает себя знать. Но это как бы уже такие рецидивы. А в основном, конечно, спокойнее гораздо. Переживаю многие вещи спокойно. Не равнодушнее, но так… Вот там, где в юности было бы потрясение, – сейчас его не будет точно. Конечно, и болезнь сыграла свою роль в моем сознании».
«…Понимаешь, у меня как бы долгое время возникало часто ощущение собственной правоты. Но, как правило, длилось оно очень недолго… Но как-то жизнь вносила коррективы даже не в мою правоту, а в то, что вот – прав, прав – ну и что? А в отношении к миру-то какая она, твоя правота? Вот, скажем, ушел я от Эфроса, бомбил его критикой своей, а Эфрос – раз – и умер. Вот вся твоя правота. Она как бы осталась правотой как бы при живом Эфросе, но Эфрос-то уже не живой. И что означает твоя правота, сколько она весит? И имела ли она смысл в виду такого мощного аргумента, как смерть? То есть абсолютной правоты такой – того или иного человека, – я думаю, ее и не бывает. Чьей-то абсолютной правоты. Те экстремальные попытки доказать свою сиюсекундную правоту – тоже эти соблазны потихоньку у меня исчезли с годами. Хотя Станислава Говорухина я вижу иногда в телевизоре – я понимаю, что он говорит, и зачастую соглашаюсь. Вот я уже на той стороне, вот я уже там, вот я уже и флаг повесил, водрузил, как говорится. Ну и что? А что поменяется в пейзаже?.. Я как бы согласен с человеком на том берегу уже, который как бы это же утверждает: и все-то он победил, он пробился, он проплыл – но смысл? Я смысл имею в виду не прагматический такой сиюсекундный, а как бы с забегом вперед… Но должен сказать, помимо прямого полезного смысла я очень разделяю движение тех или иных людей, как реакцию на несправедливость… как такая рефлексия чести. Это тоже немаловажно… рефлексировать на тему чести и благородства».
«…Задуман я был как поступочник… Случились всякие помехи, которые мешают мне активно существовать в жизни. Но я думаю, что я человек-созидатель, но такой визуальный, на то, что я делаю, я должен иметь отзвук, и лучше сейчас. А когда говорят – вот потом, после смерти… не надо после смерти ничего уже. Сейчас хочу… Хорошо или нет… Занятно или нет…»
«…Мы же все путаем в юности. То есть освоение Москвы – не будем говорить – завоевание, потому что, приехав только в Москву я понял, какой же это здоровый мир. Какой же гигантский город Москва. Я никогда не только в таких городах не был, но я вообще как бы – про Землю не думал, что она такая большая… Москва, конечно, подавляет в первую секунду и в первые дни. Видимо, у провинциалов есть такое нахальство от незнания масштаба, даже непонимания. Как провинциалам – им надо пробиваться. Такие грезы вперед, конечно, есть – вот я когда-нибудь буду знаменитым. А чем жить каждый день? Для меня это была первая влюбленность в училище, в уже знаменитую артистку, хотя студентку, которая длилась несколько лет. Мне казалось, это любовь. Но вот прошли годы, и вот сейчас, когда я об этом думаю, – может, это и была попытка завоевания Москвы. Она казалась в те годы сильной принадлежностью Москвы. Вообще… и кино, и все вместе… здесь все сошлось».
«…Тогда, правда, кино меня в упор не видело. Вернее, я ходил, как все, на пробы. Я тогда не понимал, что эти пробы – сутолока просто. У дверей тебя никто не видит и с тобой всерьез никто не говорит. Проходят вереницы, и их никто не запоминает ни по именам, ни в лицо, но аккуратно ездил… Когда лет 27 стало – я перестал ездить. Я тогда понял: не сложилось. Что делать – и без кино люди живут. Но сказать, что я как бы оставил мысли о кино вообще, – наверное, неправда. Так, греза оставалась…»
«…Еще в школе в Ашхабаде я не пропускал ни одного фильма, который выходил на экран. Венгерское, польское, “Новости дня” и науч. – поп. – я смотрел все. И вот я поступил в Театральное училище имени Щукина и стал актером, меня позвали в Театр… на Таганке. Я уже играю. А в кино не зовут. Но я продолжал усердно ходить в кино в Москве. Я прорывался в Дом кино на закрытые просмотры… дружил и дружу с Владимиром Владимировичем Дмитриевым – это наш киновед, ученый… работает в Госфильмофонде, в Белых Столбах. И он меня пригрел вниманием, позволял смотреть самое разное кино. И когда мне было уже чуть за тридцать, меня позвал в свою первую картину на “Мосфильме” Костя Худяков, называлась она “Иванцов, Петров, Сидоров”. Фильм этот, по счастью, увидел Саша Митта, с которым мы были знакомы, но не работали никогда вместе и даже особенно не общались, а почему-то он меня позвал в картину “Экипаж”. Так началась карьера киношная. Хотя я в ту пору еще не до конца верил, что вот сейчас начнется работа, сейчас начнется кино, хотя Саша Митта сам сказал – ты будешь знаменит. Завтра же… Посыпались всякие сценарии, звонки, приглашения, но как-то все очень быстро… Все это стало обыденным, обычным. Кто-то правильно сказал – сбывшаяся мечта перестает быть мечтой, той недостаточностью, за которой все время следует идти, к чему надо стремиться».
«…Наверное, те двигатели, которые как бы мной руководили на том или другом этапе жизни, – верные. Наверное, ушел бы опять от Эфроса, – конечно, ушел бы, но я ощущал свою правоту, и мне было там противно. Но – другой вопрос – как бы это я сделал? Я бы это уже сделал без шума и без желания соучастия других. Я бы ушел тихонько, притворив дверь и сильно не обращая на себя внимания. Вот это точно. И массу вещей я сделал бы так же… Я сделал бы так же, но все тише и скромнее раз в сто».
«…Распалась Таганка – лучше, если бы не распалась. Что касается меня – я все равно в театре не работал. Я ушел. Рано ли поздно ушел бы. При болезни ли, без болезни. К сегодняшнему дню я, так или иначе, был бы уже не в театре. Так советская власть, как понимаешь, ни при чем. А то, что были какие-то перипетии, связанные с Эфросом, всегда были порядочные поступки и малопорядочные. И при советской власти, и без нее. Без нее просто их стало больше. Не благодаря советской власти – как бы она порядочнее была, просто люди в целом были неправильно воспитаны, но все-таки читали много книжек, скажем так. И меньше слушали Алену Апину».
«…Если принять по поводу Моцарта и Сальери такую знаковую систему – не добро и зло, как принято говорить; если отбросить эту как бы сплетню, которая, кстати сказать, не имеет подтверждения в истории, но поддержана Пушкиным, что Сальери-де злодей, завистник, бездарь, неумеха. Это неправда… честный, труженик, но… не хватал звезд с неба. Моцарт – гений… духа. Гений. Это уже Промысел Божий. Трудом не всего можно добиться… хотя труд, конечно, много значит, можно и гениальность проиграть, если не трудиться. Так вот применительно к Моцарту и Сальери – я, конечно, хотел бы быть Моцартом, хотел быть гениальным человеком. Но – так у меня не получилось. Мне вообще в жизни мало что давалось легко. Все давалось с трудом… какая-то часть Сальери есть и во мне… Я людей-то не травил. И завистником, честно говоря, не был, по счастью, никогда. Потому что я не могу назвать человека, которому бы я завидовал. Хоть сколько-нибудь. Во-первых, я рано понял, что чувство неплодотворное – зависть. Оно как бы разрушает тебя самого, ничего тебе не добавляет. А во-вторых, просто не было такого объекта, которому я хотел бы завидовать. А что касается продукции, которую я выдавал всю свою жизнь, было по-разному: что-то давалось легко, что-то очень трудно. То есть я, наверное, и Моцарт, и Сальери в каком-то процентном замесе. А самого процентного расклада – не знаю…»
«…Если записывать всю жизнь – выясняется, что ничего не сделал из того, что человек как бы определил для себя. Любой человек. Но когда счеты в жизни… Кому можно предъявить счет? Глупо догонять вчерашний день. Конечно, много плохого могло бы не быть. Мог бы быть и менее агрессивным, поумнее бы. Удачливее? Не могу сказать, грех жаловаться, все-таки мне много везло…»
«…Нет, это уже правда, железно, без всякого кокетства. Опять же… к себе, тут нет никаких формул для всех. Ну вот я и сейчас для себя уже не вижу смысла в профессии актера. Я все равно сегодня занимался бы чем-нибудь другим. Чем-нибудь, наверное, рядом, чем-нибудь в искусстве, но не в профессии актера. Все-таки это профессия, где многое зависит от количества физических сил, от здоровья… То есть любая профессия, и писательская, требует здоровья. Любое творчество, но актерство… мне кажется, что в актерстве как бы – это такая топка: кидаешь, кидаешь, кидаешь и… никакого ответа».
«…Слово “звездность” оставьте себе, потому что я не понимаю и не понимал никогда… и сегодня звезд этих немерено… Девицы внимание проявляли ко мне некоторое время. Не будем обольщаться. Девицы – в основном воспитанницы ПТУ. Ну неважно. Все равно женского пола. Проявляли, да. Но это как бы заслуга кино, а не моя… У нас народ смешной, все путают. Воспринимают все впрямую. Вот и девочки предполагали, видно, что я только гляну – и только держись. Девочки были молоденькие, надо сказать, совсем молоденькие – лет шестнадцать, но это был период короткий, и мне хватило ума сообразить, что это имеет малое ко мне отношение. Примерно это выглядит так – а ты любил, когда тебе под елочку в детстве подарочек кладут? Да, приятно, любил…»
«…Может такая связь и есть. Вообще у артистов есть такая байка наоборотная. Что когда много играешь смерть свою на сцене или в кино, в особенности в кино, потому что фиксация, то тебя все беды минуют. Пятнадцать-то уж точно раз умирал в картинах. На экране я умирал. Когда стреляли, убивали, резали. А если играть классику? Шекспира, скажем? Сама профессия предполагает – тут ничего не поделаешь. Есть люди, которым не везет, не касаясь, скажем, каких-то имен в драматургии, в театре. Которые как-то проехали мимо смертей. Но это бывает редко. А театр, когда подумаешь? Ну, вот “Свобода или смерть”. Расстрелял себя на улицах города Парижа. Уже будучи сильно больным. Этого не следовало делать, мне кажется. А моя мама фильм “Забытую мелодию для флейты”, последнюю часть, смотреть не может – выключает телевизор. Где я помираю, реанимация… “Не могу, и все… Плачу и не могу, мне плохо”, – говорит».
«…Проблема не только русских артистов вообще, но русских прежде всего: видимо, во-первых, нет того, западного уровня благополучия… Скажем, человек отдыхает во всем мире иначе, чем в России, где ничего, кроме водки, не придумано. А усталость… А количество получаемых денег… заработанных… и насыщенный трудом день, и скитания по гостиницам не высшего качества – все предполагает… И что?.. Не спится?.. Каким образом отдыхать? Человек даже непьющий: сначала полстаканчика, полстаканчика… вот и… какое-то время… он не понимает… любой здоровый человек, даже предупрежденный, не понимает, что это не может длиться вечно. Но год так продержитесь – даже сил уже остается в три раза меньше. Человек устает, а уже привычка. Так что очень многие артисты наши – спивались, и это не секрет. Это трагедия как бы наша, искусства нашего актерского вообще. И на Западе пьют очень сильно. Кто пьет, кто колется. Человек, все время изображающий другого, чужие эмоции, чужие страсти, – он стареет быстрее, чем люди других профессий. Это эмоциональное полустрессовое состояние – оно диктует свои условия. Я не оправдываю артистов, хотя уверен, что в Росси пьет все общество. Инженеры пьют не меньше актеров. Но артисты – люди на виду. Артисты выпивают – значит, пьяницы. Все они пьяницы. Что не совсем так. Но спорить с этим – неохота, потому что подтверждение обратному тоже есть».
«…Я не очень имею право рассуждать на темы церкви, поскольку имею о ней самые общие, самые литературные общекультурные сведения. Я считаю, что роптать на жизнь – это роптать на Бога. А роптать на Бога – это грех всегда. Как бы жизнь включает и такие моменты, как болезнь и смерть. Нельзя, потому что как бы мы вот рассуждаем так по-людски: ну бандиты ходят, убийцы, сколько людей убили, а живут. Но мы же не знаем, какой Бог. И что это за субстанция. Счеты могут быть самые разные. И почему Бог щадит, как бы оставляя на земле убийцу, – откуда мы знаем, что Он щадит? Мы не знаем. Потом как бы это долгий такой разговор. Про небеса и как бы это все я включаю в сферу своего жизненного внимания. Не только православный человек, повторяю, я про это мало знаю… на эту тему рассуждать, но… думаю, что жизнь идет справедливо по отношению ко всем. Вопрос социальный-несоциальный – это да, вопрос это уже земной… Какие-то магистральные вещи – они как бы уже назначены, как бы грех… да, и грех, и глупо говорить, а что же мне-то – представляете – сколько людей тогда будет на планете – мне за что? А кто ты такой – хочется спросить. Правильно тебе. И тебе. А ты чем лучше? Задавал себе вопрос? Не задавал, оказывается, нет, он считал, что он приличнее, он хорошо живет. А покопаться в памяти – каждый найдет – за что. Так не надо вопить – за что?! Подумай – и поймешь – за что…»
«…Не очень удобно, но как бы из приобретений – наверное терпимость. Терпимость».
«…Достоверно знаю я, что “инженером” я себя не ощущаю, не ощущал и не буду ощущать никогда. А конструирует – опять же Господь. Никакие инженеры человеческих душ ничего не конструируют».
«…Я понимаю, что живем в стране с таким культурным контекстом, где и Пушкин, и Тютчев, и Блок, и Пастернак, – и еще иметь намерение кого-то просветить в своем художественном творчестве… Я делаю это, потому что мне это как бы занятно, заполняет мою жизнь. А других претензий нет…».
«…Мои реакции на сегодняшние новаторства весьма консервативны. Не думаю, чтобы я имел отношение к староверству. Все-таки староверы – это люди определенным образом воспитанные. Это к генетике как бы никакого отношения не имеет. Видимо, в роду у меня были люди и такие, довольно нетерпимые, довольно жесткие, и вспыльчивые. Бабушка моя, покойная, уж точно была такой. Надо хорошо знать свои генеалогии, а я знаю плохо».
«…Я про это плохо понимаю, плохо понимаю. Я только знаю, что многие наш национальный путь визуально видят так: босыми, по траве, с хоругвями, по росе куда-нибудь… В крайних выражениях я не сторонник ни тех, ни других. Не сторонник Аксакова, не сторонник Чаадаева. Я назвал две фигуры, которые определяют эти крайние точки. Мне противны как бы такие славянофилы с кусками борща в бороде, которые непременно босиком по пашне, понимаешь, не симпатичны. И такие западники, которые говорят, что новое поколение выбирает пепси-колу. Это тоже мне отвратительно».
«…Я думаю, человек, какой бы он ни был, – не может стоять в какой-либо позиции по поводу смерти. Это смерть может стоять в определенной позиции по поводу человека. Тут надо говорить не о смерти, ибо мертвым еще ни разу не был. Полумертвым был, но мертвым – никогда. Поэтому мне трудно говорить… Надо говорить о Боге. То есть бессмертна ли душа, есть ли какая-то жизнь после смерти, если грубо, или нет? Уверен, что есть. Есть, конечно. Ну как бы весь пейзаж за окном, без Бога. Такого представить себе нельзя».
«…Бог есть, загробная жизнь. Люди безграмотные даже, дремучие, допускающие над собой существование Бога, наличие Бога – они все верят в бессмертие души… Я верил, но… на разных этапах как бы с разной степенью допущения. А сейчас верю абсолютно. И не верю… наоборот даже, не верю, что эта стажировка грязная на пятачке здесь – это есть жизнь? Это все? Да как же так? Так не может быть просто. Это как бы репетиция. Это жизнью всей быть не может. Черновик. Другой вопрос, что лучше бы черновики тоже писать почище. Без клякс…»
«…Двадцать лет уже прошло со дня смерти Володи Высоцкого. А было как вчера. Само сообщение о смерти Володи не оглушило меня, потому что я… не поверил. Много ходило слухов… что Володя повесился, порезал вены, в общем – умер… все ерунда, даже на эту тему ходили шутки, что, когда про артиста говорят, что он умер, это вроде к добру – долго будет жить. Поэтому и в этот раз как-то отнесся спокойно. Только когда увидел его в гробу… Мы друзьями не были и как бы близкими людьми не были, но… меня, в общем, оглоушило, как всех: видимо, это тот случай, когда человека начинаешь ощущать по-настоящему только в виду его отсутствия. Похороны проявили, что такое был Володя для страны. Похороны. Для всех, не побоюсь сказать, думаю, даже для жены Марины и для родителей. Было понятно – талантливый, знаменитый, но как бы истинных масштабов никто не понимал. Только смерть это проявила».
«Передача “Чтобы помнили” – простой толчок. Как-то вот началось перестроечное время, и хором загалдели молодые люди, не знающие своей истории: что было в прошлом, имеется в виду в советском, – это все плохо. И как бы это не дало мне покоя. Ну, как это все? А Платонов, а Булгаков? А Пастернак? Дай Бог в сегодняшнее, в несоветское время того хотя бы… одного хотя бы – вполовину этих масштабов талант – нет. Как можно говорить – это была, в общем, ужасная жизнь, а эта вроде – хорошая. Жизнь – такая мощная вещь, что ее нельзя делить на режимы. Как сказал Кушнер, “времена не выбирают, в них живут и умирают…”. И тогда было солнышко и красивые женщины, была любовь… Люди жили, страдали, умирали. Я понимал, я не обольщался ни секунды, что получасовая передача может заставить не забыть этих людей. Нет, ерунда. Но хоть что-то, хоть для семьи, для близких, для родных… родные же пишут письма: спасибо Вам, что вот страна наконец вспомнила. Люди наивные… думают, что страна вспомнила. Они же не могут предположить, что это пятеро сумасшедших, которые делают передачу. Надо сказать, что я давно уж не работаю в полной мере над “Чтобы помнили”. Работают уже другие люди. У меня группа. Я долгое время работал с редактором Людмилой Гордиенко. Замечательно работал. Фактически со времени моей болезни она все взяла на себя. Хлопоты творческие и административные, все. И сейчас работает новый редактор Елена Тимошина, тоже замечательно работает. Оператор, осветители, звукооператоры – такие толковые, очень сердечные, совестливые люди. Так что передача уже не на мне. Я как бы родоначальник, но продолжают уже другие. Да и вообще такую задачу ставить – это не в силах одного человека в принципе, не в силах одной человеческой жизни – нельзя эту тему объять. Об ушедших. Ибо они уходят каждый день: и сегодня, и будут уходить завтра. Так будет еще долго, так будет всегда. Эта передача, к несчастью, вечна…»
«…Профессия актера греховна, потому что… нельзя имитировать мысли и чувства – греховно, ибо человек вольно или невольно… чем лучше он их изображает, тем он как бы оскверняется больше себя. Ну а хорошая мысль, а благородная, а сыграть Христа? Это как? В смысле греха? А как быть с такой постановкой вопроса, что театр начался с религиозных мистерий. Так что это вопрос, мне кажется, непростой. Тем более церковь на сегодняшний день относится крайне умеренно к людям моей профессии. Уже умеренно…»
«…Съемки моего фильма были в Париже. В разные годы для меня Париж был… разный. Первый приезд был такой… Все знаешь по книжкам. Лувр! Ах, Лувр… помимо того, что музей – это еще дворец королей. Резиденция их… Смотровая площадка Эйфелевая башня. Палас де Шайо – это там, где был театр ТНП, где играл Жерар Филипп. Куда ни кинь, где ни встань, обязательно с чем-то связано. Ярче был для меня второй приезд. Париж ведь небольшой город, если пригороды все исключить, так вообще ерунда, а не город, по территории. Его легко исходить пешком. И когда я уже с улицы Виктора Гюго, где был мой отель, бежал на площадь Звезды искать Шанз Элизе – это было в сумерках уже, – не могу найти, и все. Бегал, бегал и думал, а где же эта сверкающая улица – все серенько, и главное – языка не знаю. Кидаюсь я к какому-то господину: не знаю, на каком языке, – месье, у… э… Шанз Элизе. Он понял как бы, что мне надо, – и только он руку протянул – зажглись огни – Елисейские Поля. Удивительно красивый город».
«…Это ведь меняются взгляды на жизнь у того, у кого они в соответствии с чем-то, а у меня никогда не было такого соответствия. Я с флагами не ходил, в партии не состоял. Какая мне разница? Ну, сменили флаги, и все. Говорят другое. А я и того никогда не говорил. Того, как бы прежнего. Так как же на меня должно повлиять?»

На похоронах Владимира Высоцкого
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































