Текст книги "Леонид Филатов"
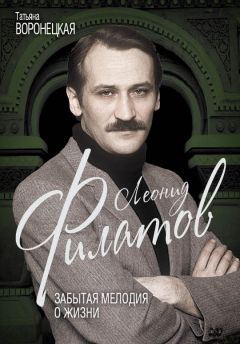
Автор книги: Татьяна Воронецкая
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Адская пахота
В 1983 году Филатов начинает сниматься в фильме Сергея Соловьева «Избранные». Приглашение работать в фильме для Леонида было неожиданным и произошло как бы заочно. «С Сережей, – вспоминает Леонид, – до работы над фильмом мы были мало знакомы. Мелькали мимо друг друга на “Мосфильме”. Я очень любил кино С. Соловьева, но считал, что я ему не нужен, так как его фильмы строятся совсем по другим законам. К тому времени я уже наработал как бы собственный имидж. Мне нужно было что-то такое реактивное играть. Я еще плохо понимал, что можно просто остановиться и, думая, долго смотреть на какой-нибудь предмет. Это, оказывается, тоже может быть моментом кино…»
Филатову позвонили из Госкино и попросили срочно начать оформление в Колумбию, где его уже ждал Сергей Соловьев. Леониду дали роман Микельсена, который он смог прочитать только в самолете и составить хоть какое-то представление о будущем герое – немецком бароне Б. К. Однако, как оказалось, это были очень приблизительные прикидки роли, так как С. Соловьев совершенно перекроил роман, создав, правда вместе с автором, как бы вариацию на тему романа.
Из беседы с кинорежиссером Сергеем Соловьевым (июль 1989 года)
«…Как я работал с Леонидом? Честно могу сказать, что никаких принципов работы с актером у меня нет. Важно, чтобы встретился человек моей группы крови, тогда все пойдет хорошо… Я к Лене во всех его проявлениях, включая и литературную работу, отношусь хорошо. О Филатове нельзя сказать: вот эта его роль – удачная, а вот эта – нет. Он настолько личность, что такой подход невозможен… К сожалению, славу Филатову принесли роли, которые никак не раскрыли его возможностей… Для меня Леонид – актер только начинающийся. Ему идет возраст. Так, в свое время необыкновенно шел возраст Вячеславу Тихонову, когда он вошел в пору роли Штирлица. Я считаю, что у Леонида все еще впереди, даже по возрасту. Мечтаю поставить пьесу Чехова “Иванов” в театре с Филатовым в главной роли, но никогда этого не делал раньше, потому что не было Иванова. Может быть, это была бы самая главная роль Леонида, если бы все удалось…
Леша Герман сказал как-то очень точно, что для него люди делятся на две категории: одни осуществили себя на 680 процентов, хотя там уже давно и осуществлять-то нечего, а процентовка осуществления все идет и идет, другие – на 0,001 процента. Конечно, это не оценочная категория, а категория как бы судьбы, везения, обстоятельств… У Лени процент осуществления себя в кино, в театре очень мал, в то время как многие из его поколения выработали эти 680 процентов… Поэтому я всегда держу его в голове, но, к сожалению, режиссер – профессия зависимая, так как он живет в атмосфере порой даже непонятных ему закономерностей, где режиссерское своеволие – полная химера. Почему нужно делать так, ты не знаешь, но чувствуешь, что именно так. Когда начинаешь своевольничать, что-то ломать, то абсолютно уродуешь, искажаешь самое главное в своей работе. Если бы моя воля, я Леонида снял бы уже десять раз.
У Филатова есть звездная аура… На мой взгляд, он звезда “китчменная”. Свою звездность Леонид несколько раз на дню растаптывает: с утра он ходит как птица Феникс, а потом делает все, чтобы быть не звездой, а перейти чуть ли не в охранники Театра на Таганке. Сама по себе внешность у Леонида благодатная. У него прекрасное сочетание романтического сердцееда Кларка Гейбла и комика Бестора Китона. Редко встречающееся романтико-комическое сочетание. Если говорить о чистоте этого свойства, то ничего такого Леонидом еще сыграно не было… Самое драгоценное у Филатова – необычайный спектр его составляющих. Более несовместимых, взаимоисключающих, кошмарно-китчевых соединений я в своей жизни не видел, прибавьте к этому ко всему необычайную искренность… Вот так посмотришь со стороны – может быть, это самый главный советский китчмен, которого я видел. Иногда как током бьет от того, что он “вытворяет”, – в каких картинах снимается… Однако за всем этим стоит колоссального обаяния и красоты человеческая жизнь… Самое бессмысленное дело Лене что-нибудь советовать или в чем-то его поправлять. Знаете, как иногда говорят: вот попался бы он в хорошие руки и отшлифовали бы этот алмаз. Никуда он не попадается, шлифовка его бессмысленна. Брильянт он или не брильянт? Кто его знает, будешь шлифовать, а там – булыжник, но как брильянт-булыжник, через черточку, Леня мне ценен… Любой бы актер на месте Леонида давно бы спрятал все невыгодные черты, а все выгодные отработал. Актеры к этому возрасту уже становятся совершеннейшими продувными бестиями, даже порой и не поймешь, кто он такой, настолько все сделано. Леня – человек бесконечно искренний, незащищенный… Актеры театра, кино подрабатывают на разного рода концертах, причем другие “халтурят” в миллион раз больше, чем Леня, но это все предмет дикой тайны, даже по радио ухитряются говорить не своими голосами. Как же так вдруг: Я – и Буратино! Леня никогда не скрывается. Все говорят: “Как так?” От искренности, понимаете, и нежелания прикидываться кем-то другим, нежели он есть… Как и все советские актеры, он абсолютно одинокий волк, и, кстати, более неприспособленный волк, чем большинство других, более наивный, открытый, незащищенный. От этого его “халтуры” были видны всем… У нас у всех все-таки тяжелая жизнь; если возникает желание судить человека, то нужно это делать по лучшему, что у него есть, а не по худшему. На каждого из нас можно “сшить” дело, омерзительное общественное дело, раздуть которое ничего не стоит. И суть не в том, что мы такие плохие, а в том, что мы жили в таких условиях, что это уже испытание всех человеческих возможностей… Или надо отказаться вообще от жизни… Единственное суждение, которое имеет смысл в нашей жизни, – брать тебя по лучшему, что у тебя было, а не выискивать недостатки. Тем более что Леня – редкий человек, худшего у него мало…
Я очень уважительно отношусь к режиссеру К. Худякову. Он как бы открыл Леню и соблюдает обряд верности по отношению к нему. В жизни актера чрезвычайно важно иметь такого режиссера. Мне очень нравится роль Леонида в фильме “Успех”, но эта роль по отношению к Лене как бы его парадный портрет: так, если бы состоялась встреча поклонников Филатова с ним, то можно было бы торжественно сказать: “Вот он такой!” В этой работе есть некая академичность. Как демонстрация Лениных возможностей, взятая в идеальном аспекте…
В ближайшее время, если будем живы, хотелось бы поработать вместе… Может быть, это будет Иванов…»
Продолжение разговора с Сергеем Соловьевым (январь 2001 года)
«…История забавная, и на самом деле сложная, и хитроумная, потому что сниматься в фильме “Избранные” должен был Саша Кайдановский. У него прошли пробы в Москве, замечательные, и всем он очень понравился… Кроме всего прочего, у меня был очень забавный соавтор – автор романа “Избранные”, – Президент Республики Колумбия Альфонсо Лопес Микельсен. Оказывается, когда-то А.Л. Микельсен попросил Леонида Ильича Брежнева, во-первых, почитать роман, а во-вторых, на основе этого романа помочь создать колумбийскую кинематографию, потому что А.Л. Микельсен не только любил пописывать, но и еще страшно обожал кино. А кино в Колумбии не было, то есть был кинофонд и было довольно много денег, так что в Колумбии существовало национальное кино, а как такового кинопроизводства не было. И вообще вся эта афера – она носила такой невероятный межконтинентальный политический характер: значит, вместе с созданием фильма “Избранные” мы создавали колумбийскую кинематографию, и как бы все это находилось на личном контроле и при личном участии двух столь могущественных президентов. Про одного рассказывать не надо, сколь он был могуществен, а второй тоже был страшно могуществен, потому что на самом деле мы в Колумбии действительно могли делать все, что хотели. И делали все, что хотели. Там невероятные какие-то дела были. Самолеты взлетали не в том направлении, в котором они должны были взлетать, и как бы отважные колумбийские асы ни говорили, что сделать этого, конечно, нельзя, но “постоку-поскоку”, значит, Альфонсо Лопес Микельсен приказал – они это сделают. И так вся картина снималась. Так вот соавтор мой, посмотрев пробы Кайдановского, пришел в восторг и сказал: “Вот-вот, именно вот такого Б. К. я и хотел”. А в это время одновременно с соавтором моим эти пробы смотрели в КГБ на Лубянке. И они тоже смотрели внимательно и говорили: “Вот-вот-вот, именно этого хрен мы и разрешим. Вот этого-то именно и не будет никогда ни за какие коврижки”, потому что уж более ненадежного создателя колумбийской кинематографии, чем Кайдановский, и представить себе нельзя. А я не мог участвовать в диалоге никак, потому что я в это время уже был в Колумбии, пока обсуждались фотопробы Кайдановского в комитете госбезопасности. И потом мне прислали какой-то шифрованный ответ (там же участвовали, во всем этом деле, какие-то международные чекисты и все время как бы с лупой разбирали шифровки разные). И в шифровке было написано, что забудь про Кайдановского, он тяжко болен. Я там стал звонить Сизову, он говорил – ни в коем случае не говори открытым текстом, что К. страшно болен. Короче говоря, через много-много таинственных ходов КГБ я узнал об окончательном решении, в котором даже принимал участие Андропов: он сказал: “Не-не-не…”, потому что одновременно тогда запретили Саше сниматься и у меня в картине, и у Андрея Тарковского, который его пригласил в “Ностальгию”. А в “Ностальгии” уже нашелся Олег Янковский, который заменил совершенно негодящегося к международной деятельности Кайдановского, а мне сказали – в трехдневный срок – искать своего Янковского. И я погрузился просто в пучину маразма, в бездну маразма, потому что, во-первых, как бы голова была уже устроена на тот план, что это должен быть Кайдановский, а во-вторых, я, значит, стоял перед такой задачей – как же мне сейчас изобрести такого актера, который одновременно понравится мне и Андропову? Это была уже какая-то сверхнепосильная задача, да еще и решалась она на койке в Колумбии при большой температуре воздуха. Суток двое я провел в таком горячечном бреду, и наконец я вспомнил Леню Филатова, с которым был едва знаком. Я его встретил как-то в Театре на Таганке. А в Театре на Таганке у меня было много приятелей, хороших друзей – и Коля Губенко, и Володя Высоцкий, как бы вроде в одно время учились в институте, мы друг дружку знали, и я к ним любил ходить, и не только на спектакли, а вот так просто – болтаться по фойе театра. И в одно из болтаний они меня познакомили – не помню кто – то ли Коля, то ли Володя, – познакомили с очень изящным, худеньким и совершенно, как мне показалось, не для Таганки сделанным молодым человеком с усами. А почему не для Таганки сделанным – они там все, конечно, были такие – не то ломом, не то топором рубленные, – как бы Любимову очень нравилась такая обработка человеческого материала. А этот был ручной работы, совершенно, это было видно невооруженным глазом, абсолютно ручной работы, шестнадцатый век, секрет утерян, и вообще он походил на Бестера Китона, на Феррера: что-то такое необыкновенно изящное, с усами, интеллигентное и совершенно ненахальное, которое как бы этому театру совершенно не соответствовало. Только усы у Дыховичного были, может, по усам он туда и попал, потому что все остальное как бы совсем не совпадало с “любимовскими” вкусами. И мне он очень понравился. Чем понравился? Вот именно таким абсолютным несовпадением и непопаданием, потому что я, как животное общественное, ну как бы в лад всем качал головой и говорил, что Театр на Таганке – это совершенно гениальное явление, а, по сути-то, мне не нравилось многое – ни “Маяковский”, ни “Пушкин”… Я понимал, что это общественно нужное дело, честно-полезное дело, но на самом-то деле я почему-то все время, глядя на все любимовские спектакли, вспоминал, как мы в школе пирамиды делали: кто-то ложился на пол, кто-то кому-то вставал на голову, сверху кто-то на голове стоял на плечах, а на башку ставил звездочку и что-то такое читали. Вот эта стилистика у меня не вызывала особого восторга. И я как раз и подумал – вот у Любимова, может быть, в голове что-то сейчас изменилось, если он таких актеров берет, то, может быть, период пирамид закончится и начнется новый период. Леня бледный, умный, интеллигентный и – вообще явление для Таганки дикое. Леню трудно представить себе на таганковской пирамиде, да? Где они друг друга все на плечах держат, вот одновременно распятые и одновременно физкультурники и что-то одновременно против советской власти и одновременно очень здоровое и физкультурное я думаю – как он туда втемяшится, впишется, повиснет – не ясно, к тому же не очень-то он туда втемяшился, вписался и повис, как мне кажется, хотя человек таганковский, удивительно таганковский, но вот если есть, как говорят, “таганковский” тон, то Леня был прекраснейший “таганковский” обертон. Он дополнял Таганку той тонкостью, тем душевным изяществом, тем складом вообще старого русского интеллигента. Вот такой странник на Таганке был Леня Филатов.
У меня какое-то очень доброжелательное отношение к знакомству с ним было (а нужно учесть, что, несмотря на то что мы с Леней, по-моему, ровесники или он меня чуть младше, но как бы по тем временам я был очень сильно старше – он был недавний выпускник Щукинского училища, а я уже вроде как такой мастодонт, такой битый жизнью и Таганкой). И через некоторое время я услышал Ленины пародии – жутко смешные пародии – и какие-то обрывки стихов. И тогда я понял, что как бы Леня адаптируется к Театру на Таганке, поскольку это уже не походило на пирамиды, но тем не менее было задорным, несло в себе полезный общественный пафос и в то же время выдавало в человеке яркую поэтическую одаренность, такую одаренность, которая к пирамидам не имела никакого отношения. И вот все это вместе мне как бы в башку затемяшилось, по-моему, на исходе первых суток раздумий, и я бросился к моим родным чекистам, к передатчику передавать в Москву шифровку, что, может быть, Филатова попробуем на роль. Правда, руки-ноги у меня холодели, поскоку я думал – а если не попаду опять во вкус Андропова, потому что, во-первых, Таганка и вряд ли там уж особо благонадежные все, вот, а во-вторых, с другой стороны, кто же, кроме профессиональных осведомителей, так сказать, знает что-то на самом деле. Тем не менее, значит, вот я закончил сеанс связи с Центром, и через два дня из Центра радистка “Кэт” передала мне шифровку, что Филатов выезжает. И тут на меня напал ужас совершеннейший, потому что, с одной стороны, конечно, странно, что ряды резидентуры так безболезненно пополнялись нужными людьми, а с другой стороны – а если я ошибся? Если воспоминания о том, что я видел в фойе на Таганке, окажутся не такими радужными и прелестными, как на самом деле. И я с чувством ужаса ехал в аэропорт, потому что как бы у меня два раза в жизни было отсутствие радости победы: первый раз, когда я совершенно нехотя утвердил на роль пионерки Таню Друбич в силу какого-то общественного сопротивления вкусу генерального директора, и в тот момент, когда я его сломал, у меня радость ушла просто совсем, потому что я снимать ее не хотел, абсолютно. И вот здесь у меня тоже радости от победы не было, когда я ехал в аэропорт, – было чувство ужасного страха, и я думал: “Куда же я его девать-то буду, если не понравится. Как его назад-то депортировать?” Я уже обдумывал варианты, как я, значит, по своим чекистским каналам объявлю его больным или там психически неустойчивым и в каком-нибудь ящике отправлю назад в случае чего. Но когда Леня прошел через таможню, мы сразу уехали на съемку, причем уехали на съемку эротической сцены, в которой снималась такая звезда Латинской Америки, как Ампара Грисалес… и Леня… В аэропорту Леня спросил – а какую сцену (у него уже был сценарий в тайнике, где-то там, в Москве, бросили в урну сценарий, он его, значит, прочитал). И вот спрашивает:
– Какую сцену снимаем?
Я говорю:
– Вот эту сцену.
– Да? – сказал Леня. – Мне нужно будет обязательно… ну, минимум 150 граммов выпить, вот – и пойдем тогда.
Мы с ним выпили так 250 и пошли. И вот уже в первый же день я почувствовал, во-первых, – ясное такое, профессиональное понимание, что я нашел идеального совершенно просто исполнителя для этой, в общем, хитроумной роли Б. К. Второе – что я встретил совершенно обворожительного человека по обаянию абсолютной наивности. Вообще в принципе это один из самых по-детски наивных людей, которых я видел в своей жизни. Очень странная у Лени организация, потому что, будучи действительно абсолютно наивным человеком, он очень умен, по-настоящему умен. Я бы даже сказал – мудр. И это редчайший в моей жизни случай, когда я видел, как настоящая мудрость человеческая, зрелость, я бы даже сказал – сознание, лишенное иллюзий, – уживаются с такой детской открытостью и детской наивностью в отношении к миру. И работа с ним была огромным удовольствием. Она положила начало – я не могу сказать, что мы с Леней часто видимся, что я каждую секунду звоню по телефону Лене и говорю, как там, получше или похуже, – ничего этого нету, но я могу сказать честно, что в подсознании моем я помню его всегда и это одно из самых, что ли, наиболее надежных и светлых моих воспоминаний.
Как мне кажется, одна из главных проблем Лени, внутренних проблем, на которых он держится, на которых он существует, на которых он стал Филатовым, которого мы знаем, – это проблема честности и откровенности его взаимоотношений с людьми. Он мне озвучил двух актеров. Отца из фильма “Чужая белая и рябой”, которого играл выдающийся литовский артист, но с очень большим литовским акцентом, и Леня мне его перевел на русский язык, причем сделал это с потрясающим, с блистательным самоограничением. Он делал только то, что делал выдающийся литовец. А вторая вещь, которую он мне тоже помог сделать, – Отто Зандер играл в “Трех сестрах” Вершинина. И играл тоже на своем немецком языке, с которого нужно было потом сделать русского чеховского Вершинина, а не Вершинина-Штайна, которого привык играть Зандер. И вот Леня, стоя перед экраном, не мог не сказать… Он говорит: “Слушай, какой бред он все-таки несет”. – “Кто?” – “Да Зандер”. И стал чеховский монолог пересказывать. “Вот посмотри, что он мелет, ты только послушай, что он несет…” Это уже на озвучании картины – ну, мог бы промолчать… Не мог. Ему противно было произносить то, что написал Антон Павлович Чехов. И вот, несмотря на то, что все… вокруг – ах, ох, как же – то, что в нашей душе всегда было, а он как бы… проартикулировал. Леня говорит: “Не было никогда этого в моей душе, чушь это собачья. Ложь и фальшь”. И не может он этого не сказать. Он должен это сказать. То же самое и о самом Зандере: “Как же он плохо играет! Давай его хоть поправим, что-нибудь подвинтим…” А Зандер где-то получил за роль Вершинина премию “лучший Вершинин” всех стран и народов! Леня говорит: “Так в Пензе у нас не играют”. Зачем это ему – конечно, не затем, чтобы унизить Зандера, он не мог этого не сказать, потому что у него возник живой контакт с материалом. Он не мог фальшиво играть, прикидываться, что ему все это очень нравится, он переламывал себя из дружбы ко мне. Никому никогда в жизни не стал бы делать эту работу – но, переламывая себя, он не хотел быть фальшивым и нечестным по отношению ко мне и по отношению к работе, которую делал.
“Чайка”, мой спектакль в Театре на Таганке, – это очень смешная история. Она, пожалуй, еще смешнее, чем чекистская история… Уезжая в Израиль, Любимов, с которым мы были в очень добрых и хороших отношениях, сказал: “Вот, хорошо бы поставить в театре что-нибудь не таганковское”. Я сказал: “Вот я бы с удовольствием поставил совсем не таганковское что-нибудь”. Он говорит: “А ставьте, что хотите, не таганковское…” – “Знаете, Юрий Петрович, я хотел бы поставить что-то такое с пыльными кулисами, чтобы на тряпках изображена была луна”. – “Да? Ну что ж – давайте, попробуйте, что-нибудь поставьте…” И уехал в Израиль. И Коля Губенко, с которым я очень давно дружу, у меня в театре были два таких близких человека – Коля Губенко и… Леня – значит, я им сказал – давайте, с пыльными тряпками что-нибудь с луной. Они говорят: “Ты что – в своем уме: какая луна, какие тряпки, что ты мелешь?” Я говорю: “Ну, мне Любимов сказал”. Они говорят: “Ну ладно ты, дурака-то валять – ни в коем случае. Если ты не хочешь вляпаться в какую-нибудь историю, которую будешь расхлебывать двадцать лет, в общем, беги отсюда, что ты – шутишь”. А Любимов еще звонил из Израиля Давиду Боровскому – вы там тряпки мусолите, нет? Тот говорит: “Нет, он куда-то исчез”. Потому что они меня просто выгнали. И меня долго там не было, а потом вдруг Коля звонит: мол, все теперь. Я от Коли узнал, собственно, то, что Любимов предатель, отступник, а мы настоящие борцы за чистые души актеров. Он всех актеров хотел переделать в акции, а мы ему не дали, не на тех нарвался, мы из него из самого акцию сделаем… Что-то совершенно невиданное. А все это невиданное закончилось тем, что вот теперь пришла пора тряпки мусолить, потому что у нас здание целое большое стоит и денег никаких. Вообще Леня обещал пьесу написать, над которой он сейчас работает, я в будущем тоже что-то там поставлю, вот – народу много, народ интересный. Все получают зарплату, никто ничего не делает. Поэтому делай что хочешь: тряпки – тряпки, луна – луна, что хочешь. Я сказал: “Давайте будем делать “Чайку”. Тогда… тут же по телефону распределил роли, сказал Коле, что Коля – ты будешь играть Тригорина. Он говорит: “Я буду играть все, что ты скажешь. Если скажешь, что я буду играть Нину Заречную, – буду играть Нину Заречную, потому что делать нам совершенно нечего”. Я говорю: “Нет, Нину Заречную ты не будешь, ты будешь играть Тригорина”. На что Коля секунду подумал и сказал: “Я буду играть Тригорина, но один я играть не буду. Потому что у меня очень много времени занимает общественно-политическая деятельность и я не могу… угробить вообще судьбу России размышлениями Тригорина. Поэтому нужно найти второго”. Я говорю: “Да там есть второй… Этот самый – Филатов”. А он говорит: “А он похож на Тригорина?” Я говорю: “Дико похож”. Он говорит: “Значит, по-твоему, и я похож на Тригорина, и он похож на Тригорина?” Я говорю: “Да, вы дико похожи оба на Тригорина. Патологически оба похожи”. Вот… после чего мы начали с Давидом Боровским сочинять декорацию пруда. А мы еще начали с Давидом, потому что еще Давиду как бы поручил мои тряпки Любимов. В общем, с Давидом Боровским мы стали все это сочинять… Давид – один из самых очаровательнейших людей, превосходных, талантливых людей, которых я видел в жизни. Но когда я ему сказал про тряпки и про луну – у него я видел, как просто образовалась на лице тошнотворная гримаса. Он сказал: “Да, но понимаете, надеюсь, не в прямом смысле про тряпки и про луну?” “Как? В прямом, в прямом, – я говорю, – еще хотел бы бассейн построить, чтобы там была вода”. Он говорит: “В каком смысле вода?” Я говорю: “Ну вода в смысле…” Он говорит: “Вы имеете в виду – мокрую воду?” Я говорю: “Да, я имею в виду мокрую”. Он говорит: “Нет, вы понимаете, в чем дело, это театр”. Я говорю: “Да, я понимаю, что театр”. “Но в театре, – он говорит, – знаете – намек, когда бросишь какой-то намек, а он и хлюпает, как вода”. Я говорю: “Не-не-не, я не хочу намек, а вот просто воды налить”. Он говорит: “Воды налить, во-первых, сложно, потому что может пол рухнуть, вот, а во-вторых, – стоит ли”. Я говорю: “Стоит, стоит”. Короче говоря, через три месяца работы над макетом с Боровским мы превратились в люто ненавидящих друг друга людей, то есть человечески мы до сих пор близки, Давид и я попали в какой-то клинч. И Давид делал один макет прекраснее другого в своей стилистике, например, макет в стиле развалин Колизея, свечи, развернутые стулья к этому Колизею. Я говорю: “Что, почему Колизей-то? Нет, там тряпки, луна”. Он говорит: “Да нет, это знаете – такой плач по Таганке”. Я говорю: “Да на хрена мне плакать по Таганке, меня совершенно другое интересует”. Тогда он делает другой макет, еще лучше – они действительно были все замечательные. В общем, мы уже пришли к тому, что уже боялись вдвоем в мастерской быть – действительно просто боялись – или я бы его пырнул ножом, или он бы меня мастехином – ясно, что этим бы кончилось. И стали брать третьим – Леню Филатова. Потому что его Давид очень любил, знал, что Леня меня очень любит, а я Леню люблю. И как бы Леня попал в эту совершенную хреновину, с этой вечной папиросой своей, с сигаретой и с прекрасным отношением ко мне, к нему, с пониманием того, что все равно тряпки вешать надо, потому что надо артистам зарплату платить, но тряпок вешать не надо, потому что это противоречит всем основам, так сказать, Театра на Таганке и Давида. Я стал работать с Александром Тимофеевичем Борисовым, с которым мы сделали все тряпки и налили бассейн. В бассейн поставили лодку. Леня стал репетировать в паре с Губенкой, причем, репетируя, он произносил слова Тригорина с чувством живейшего омерзения на лице. И я не мог понять – что происходит. Я говорю: “А что это происходит?” Он говорит: “Ну ты слышишь вообще, что он говорит?” Я говорю: “Кто?” – “Тригорин!” Я говорю: “Да”. Он говорит: “Ну это же какая гадость вообще все это. Что он мелет все про какие-то звезды, про какие-то – в человеке все должно быть прекрасно: душа, одежда, обувь, значит, что-то говорит – ну такая пошлятина”. Его прямо воротило от омерзения к великому русскому писателю. Я говорю: “Лень, ну ты как-то сдерживайся, потому что дело-то еще общественно-полезное – зарплату все получаем”. Он говорит: “Только потому я в этой лодке и сижу”. И там же в свое время произошла вот эта история, Леня встал и двумя руками собственную ногу стал вынимать в озеро из лодки. Я не мог понять – из омерзения это делается или какая-то красочка к образу. Я говорю: “Лень, Тригорин не такой старый человек – Тригорину 44 года. И вот, когда ты двумя руками ногу вытаскиваешь из лодки, – я говорю, – это слишком”. Он говорит: “Да при чем здесь Тригорин – у меня нога не вылезает просто…” Оказывается, с этого момента он и почувствовал болезнь. Вдруг, ни с того ни с сего, и это произошло у меня на репетиции, на “Чайке”. Начался драматический период. Тогда, когда мы виделись, а виделись мы нечасто, потому что оказалось, были такие люди, которые действительно ежечасно приносили настоящую пользу рядом с Леней. Леня меня поражал своим необыкновенным благородством и достоинством в болезни, потому что Арнштам говорил, что любой человек – проявляется всегда в болезни. Вот какой он в болезни – видно сразу, в какой степени он – трус, в какой степени – верующий, в какой степени он эгоист. Леня человек великого благородства, просто безупречного человеческого благородства, что подтвердила эта болезнь, что меня еще и еще раз удивило. Несчастье нашего кино в том, что угробили, убили, изничтожили очень слабую рядом с американской, но все же существовавшую в советском кинематографе систему звезд. Я как-то разговаривал с американским продюсером, который сказал мне замечательную вещь. Он говорит: “Американский народ может смотреть все что угодно из любой эпохи, с любыми героями – Калигула, Наполеон – наплевать кто. Главное, чтобы Наполеон и Калигула были американскими артистами, которых американский народ любит, знает и за них переживает. Тогда они будут переживать за Калигулу, за Наполеона, за кого угодно. Нам чужие Калигулы, чужие Наполеоны и чужие Пушкины не нужны”. Логика гениальная и очень правильная, очень правильная. Мы забываем о том герое изящного фильма с атмосферой, с прекрасным движением камеры… – все равно народ не будет смотреть и переживать ни за что, изображаемое на экране, если там не участвуют любимые им, родные для них люди. Вот таким любимым для них, родным человеком стал Леонид Филатов. Так он, преодолевая себя, сыграл каких-то людей, которые лично его вряд ли так уж интересовали, но он их сыграл, потому что он понимал, что он осуществляет некую высшую миссию артистов кино – он становится кинематографической звездой, он становится родственником зрителю, он становится тем человеком, за которого они будут долгие десятилетия переживать, страдать, верить – самое главное – верить, потому что без веры… экранный лучик абсолютно никому не нужен.
А что касается звездности, Леня пришел в кино, в котором звездный небосклон еще составляли великое сияние звезд – Крючков, Баталов, Самойлова, Андреева, Ладынина, Леонов, то есть действительно выдающаяся система звезд, которая просто неразумно, нерачительно использовалась, что было одной из колоссальных глупостей системы. Кстати, Сталин это понимал. У Сталина было понимание необходимости кинематографической звездности актеров. А когда пришел Леня в кино, это как бы считалось старомодным: “Вот хорошо бы снимать человека из толпы, которого никто не знает, без 24 зубов, не выговаривает 64 буквы, – вот это хорошо, потому что он такой же, как в трамвае”. Хотя этот трамвай на самом деле никого не интересует, всем хватает трамваев в обыкновенной жизни. Когда в кино попадаешь и опять трамвай – сходишь с ума просто. И вот Леня пришел, и на этом уже угасающем звездном небосклоне зажглась исключительно яркая звезда, потому что Леня при всей своей изысканной интеллигентности, я бы даже сказал при элитно интеллигентном складе души и складе человеческом – он очень демократичен как тип человеческий, то есть очень многим людям хотелось бы, как они себе представляли бы, вот такое невиданное счастье, вот какого-то романа с Леней, да? Правильно его Митта нашел как фатального героя-любовника… потому что он как раз такой демократический массовый, масскультовый герой-любовник, нес в себе те черты, которых так не хватало в жизни миллионам женщин и девушек.
Филатов – это одна из самых, что ли, удачливых актерских судеб, скажем, моего поколения. Одна из блистательных судеб, потому что Леня – настоящая советская кинематографическая звезда в прошлом… в настоящем. Ну как – вряд ли найдется человек, который не знает, кто такой Филатов, да?.. И при этом при всем я… утверждаю, что актерская судьба Лени осуществилась на какой-то маленький процент. Почему? Потому что в каждом человеке заложено некое количество жизненной энергии… и жизнь дана для того, чтобы это количество энергии истратить, отдать, передать. Я смею надеяться, что я довольно хорошо знаю Леню. Я смею надеяться, что я довольно хорошо понимаю его колоссальный артистический потенциал. И если взять те роли, которые он сыграл, скажем, тот же Б. К., Чичерин или роли его в картинах Саши Митты, – это все замечательно сделанные работы, превосходно, первоклассно сделанные работы, но это работы, в которых как бы использован и задействован очень маленький процент его огромной человеческой личности. Почему так случается не только с ним, но вообще с нашим поколением? Очень уж, конечно, уродливые общественные условия, в которых мы живем, очень уж придурочная, прямо скажем, страна, которая не понимает все-таки, что нефть и алюминий, в общем, судьбу страны не решают, а историческую судьбу страны решает, в общем-то, насколько сильно будет использован энергетический потенциал человека, человеческой личности.
В Лене, как в по-настоящему хорошем человеке, – в нем все-таки живет остаток одной иллюзии: он думает, что своим личным участием в том или ином как бы общественном совершенствовании, – да? – он может способствовать тому, что это общественное совершенствование произойдет. На самом деле это – я, например, знаю – идиотическая иллюзия… Любое общественное совершенствование – всегда гадость. Вот всегда гадость, вот как там – совершенствование нашего общества от социализма к бандитизму, да? Это все тоже общественное совершенствование, и вот мне очень смешно и грустно думать про то, что и я как-то тоже в какие-то моменты – да, нам нужно всем, возьмемся за ноги, друзья, и там, так сказать, чтоб не пропасть. Потом брались за ноги и пропадали еще больше, нежели бы не брались за ноги, а сидели бы и читали Льва Николаевича Толстого и Библию, да? Поэтому все, что у Лени связано с Таганкой, – это говорит о том, как долго в нем жила вот эта очень светлая и чистая иллюзия того, что общественное совершенствование возможно, если ты в нем принимаешь мощное энергетическое личное участие. И если ты в этом абсолютно бескорыстен, бескомпромиссен и идешь до конца. Он был бескорыстен, бескомпромиссен, шел до конца, и всегда оказывалось так, что он таскает из огня каштаны для кого-то. Леня почти лишен иллюзий, возможно, последняя иллюзия, которая от него уходила, – это иллюзия того, что постсоциалистическое общество – неважно, где оно существует: в театре или в Кремле, – подлежит какому-то совершенствованию. Никакому совершенствованию оно не подлежит».
* * *
Избранные – колумбийское общество крупных магнатов, королей кофе и табака, спокойно и сыто живущих в то время, когда в мире бушует трагедия – 1944 год. Вторая мировая война бесчеловечностью и жестокостью происходящего перевернула сознание людей. Это время не оставило в стороне никого, даже грядущие поколения. Не один, не два, не сотни, а миллионы людей жили в условиях экстремальных, в условиях выбора, проверки морально-нравственного кодекса, созданного человечеством. История преподнесла потрясение, которое стало неисчерпаемым источником, второй Библией, ситуацией нравственного выбора, ответственности человечества за все содеянное. Мы до сих пор живем в плену у этого времени, еще порой не осознавая, какой силы получили урок вседозволенности и насколько он не пройдет для нас бесследно. Жить в то время и остаться вне его было невозможным, и поэтому С. Соловьев определяет для себя главным нравственный выбор героя. В романе главный герой барон Б. К., довольно легко раздобыв визу на выезд, эмигрировал в Америку. Совсем иначе решает отъезд героя С. Соловьев – обостряя ситуацию, чтобы спасти свою жизнь, Б. К. должен эмигрировать, а для этого он совершает вроде формальную сделку, ставит подпись на бумаге, удостоверяющей, что он тайный агент нацистов. Фаустовская тема: спасая жизнь, теряешь душу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































