Текст книги "Наука: испытание эффективностью"
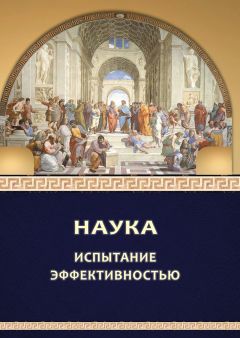
Автор книги: В. Куприянов
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Глава 1
Университеты между традицией и революцией
В литературе долгое время существовало убеждение, что роль университетов в научной революции была невелика, поскольку в XVI–XVII веках (да, и позднее) они сохраняли средневековый характер, т. е. несли на себе отпечаток тех исторических реалий и обстоятельств, которые были характерны для XIII–XIV столетий – периода формирования западноевропейской университетской системы. В учебной и философской (а отчасти и в историко-научной) литературе едва ли не общим местом стали утверждения, будто аристотелевская натурфилософия, для которой университеты якобы служили своего рода системой жизнеобеспечения, представляла собой бесконечный и бесплодный процесс силлогистических упражнений и препирательств, представленный в многочисленных комментариях к сочинениям Стагирита, никак не связанных с изучением самой природы.
Истоки подобных мнений коренятся даже не столько в негативной оценке историками и философами авторитаризма перипатетической натурфилософии[132]132
Авторитаризм ньютонианской классической науки был ничуть не слабее, что, по-видимому, имел в виду А. Эйнштейн в своем знаменитом (и, как правило, приводимом у нас в опошленной редакции) высказывании о Майкле Фарадее: «Смог бы Фарадей открыть закон электромагнитной индукции, если бы он получил обычное образование в колледже (a regular college education)? Не обремененный традиционным мышлением, он чувствовал, что введение понятия “поле” как независимого элемента реальности поможет ему соотнести друг с другом экспериментальные факты» (Einstein A. Ideas and Opinions: Based on Mein Weltbild / еd. by C. Seelig, other sources. New translations and revisions by Sonja Bargmann. New York: Crown Publishers, 1954. P. 344).
[Закрыть], поддерживаемой церковью, и находившимися под ее контролем университетами, сколько в высказываниях ряда героев интеллектуальной революции Нового времени (Ф. Бэкона, Г. Галилея и др.), а также в неспособности аристотелизма впитать в себя новые научные открытия и мнения, в его отчужденности от новой, эксперименталистской методологии, математизированной физики и физикализованной математики, в силу чего места, где зародилась классическая наука, следует искать отнюдь не в университетах, а при дворах светских и духовных властителей, в научных кружках, обществах и даже в среде образованных мастеров-ремесленников. Так, например, по мнению С. Дрейка, Ренессанс, в отличие от Средневековья, засвидетельствовал рождение новой математики, физики и астрономии вне стен университетов, тогда как «двери последних в XVI столетии оказались закрытыми для новых научных идей, пришедших извне»[133]133
Drake S. Early Science and the Printed Book: The Spread of Science beyond the Universities // Renaissance and Reformation. 1970. Vol. 6, № 3 (р. 43–52). P. 49.
[Закрыть]. По мнению А. Мейер[134]134
Meyer A. Die Epoche der Aufklärung. Berlin: Akademie Verlag, 2010. S. 30–33.
[Закрыть] и Б. Столлберг-Рилингер[135]135
Stollberg-Rilinger B. Europa im 18. Jahrhundert. 2, überarbeitet und aktualisiert Aufl. Stuttgart: Reclam, 2011 (Erstausgabe: 2000). S. 178–186.
[Закрыть], современные научные исследования не находили себе места в системе университетских дисциплин, ибо те были традиционными местами передачи знаний, а не площадками для исследований, и преподавание в них имело умозрительно-теоретический, а не практический характер. И в подтверждение этого мнения А. Мейер приводит слова английского историка Э. Гиббона (E. Gibbon, 1737–1794): «Я ничем не обязан Оксфордскому университету. …Школы Оксфорда и Кембриджа были основаны в темный век ложной и варварской науки, и они до сих пор заражены этим пороком их происхождения. Их примитивная дисциплинарная структура была создана с целью подготовки священников и монахов, а руководство университетами по-прежнему остается в руках духовенства, т. е. в ведении людей, чьи мысли далеки от современного мира и чьи глаза ослеплены светом философии. Их работа более дорогостоящая и менее продуктивная, чем у независимых художников (their work is more costly and less productive than that of independent artists)»[136]136
Gibbon E. Memoirs of My Life and Writings // Gibbon E. Miscellaneous Works. With Memoirs of His Life and Writings, Composed by Himself: illustrated from his letters, with occasional notes and narrative, by John Lord Sheffield: in 3 vols. Dublin: printed for P. Wogan, L. White, John Chambers, P. Byrne, John Millikin etc., 1796. Vol. 1. P. 34–35.
[Закрыть].
Число подобных высказываний, авторы которых рассматривали университеты как корпорации «консервативные и догматичные», а потому «неэффективные (ineffective)» в деле «создания и распространения знания»[137]137
Kline M. Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. New York: Oxford University Press, 1972. P. 397.
[Закрыть], нетрудно увеличить[138]138
См, напр.: Ashby E. Technology and the Academics: An Essay on Universities and The Scientific Revolution. London; New York: Macmillan; St. Martin’s Press, 1963; Westfall R. S. The Construction of Modern Science: Mechanisms and Mechanics. New York: J. Wiley, 1971. P. 108. По утверждению И. Т. Касавина, «в то время (XVII-е столетие. – И. Д.) наука развивалась во многом вне погрязших в схоластике университетов благодаря ученым-одиночкам…», по причине того, что «общественный идеал активно приобретал форму материального интереса», и потому «ограниченность догматического университетского образования становится особенно явной» (Касавин И. Т. Роберт Бойль и начало эмпирического естествознания // Философия науки. Вып. 10. М.: ИФ РАН, 2004 (с. 86–116). С. 107, 98).
[Закрыть]. В особенно неблагоприятном свете представлялись английские университеты. Действительно, «научная революция» пришла на берега Альбиона с некоторым запозданием и причиной этого «позднего старта», по мнению некоторых историков, был университетский догматизм. «Наука елизаветинского времени, – писал К. Хилл, – стала делом торговцев и ремесленников, а не господ (dons), ведущих свои дела в Лондоне, и не тех, кто преподавал в Оксфорде и в Кембридже»[139]139
Hill Chr. Intellectual origins of the English revolution. Oxford: Clarendon Press, 1965. P. 15.
[Закрыть].
Нельзя сказать, что эта позиция вообще не имеет ничего общего с известными фактами и обстоятельствами формирования нововременной науки, однако она требует существенной корректировки, хотя бы потому, что многие научные открытия начала Нового времени прекрасно интегрировались в аристотелевский натурфилософский корпус, а университетские curricula отнюдь не были монолитами, не претерпевшими в XVI–XVII веках никаких трансформаций, как, кстати, и перипатетическая философия, о чем уже шла речь выше. Благодаря историко-научным исследованиям последних тридцати лет[140]140
Прежде всего следует указать на работы Джона Гаскойна: Gascoigne J. A Reappraisal of the Role of the Universities in the Scientific Revolution // Reappraisals of the Scientific Revolution / еd. D. C. Lindberg, R. S. Westman. Cambridge: Cambridge University press, 1990. P. 207–260 (esp. p. 207–212; 245–253); Gascoigne J. The Universities and the Scientific Revolution: The Case of Newton and Restoration Cambridge // History of Science. 1985. Vol. 23. P. 391–434. Кроме того, большой вклад в переоценку роли университетов в научную революцию внесли труды Э. Гранта (Grant E. Science in the Medieval University // Rebirth, Reform and Resilience: Universities in Transition, 1300–1700 / еds. James M. Kittleson, Pamela J. Transue. Ohio State University Press, 1984. P. 68, 102), М. Файнгольда (Feingold M. Tradition versus Novelty: Universities and Scientific Societies in the Early Modern Period // Revolution and Continuity: Essays in the History and Philosophy of Early Modern Science / еd. P. Barker, R. Ariew. Washington, D. C.: Catholic University of America Press, 1991. P. 45–59; Feingold M. The Mathematicians’ Apprenticeship: Science, Universities, and Society in England, 1560–1640. Cambridge: Cambridge University Press, 1984), М. Хантера (Hunter M. Establishing the New Science: The Experience of the Early Royal Society. Woodbridge: Boydell Press, 1989. P. 2–3; Hunter M. Science and Society in Restoration England. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. P. 145–147); Ч. Шмитта (Schmitt Ch. Philosophy and Science in Sixteenth-Century Italian Universities // The Renaissance: Essays in Interpretation / еd. A. Chastel, C. Grayson, M. Boas Hall, Denys Hay, P. O. Kristeller, N. Rubinstein, Ch. B. Schmitt, Ch. Trinkhaus, W. Ullmann. London: Methuen, 1982. P. 297–336), Д. Линза (Lines D. A. University Natural Philosophy in Renaissance Italy: The Decline of Aristotelianism? // The Dynamics of Natural Philosophy in the Aristotelian Tradition (and Beyond): Doctrinal and Institutional Perspectives / еd. C. Leijenhorst, Chr. Lüthy, J. M. M. H. Thijssen. Leiden: E. J. Brill, 2002); Lines D. A. Natural Philosophy and Mathematics in Sixteenth-Century Bologna // Science & Education. 2006. Vol. 15. Issue 2–4. P. 131–150), Л. Пепе (Pepe L. Universities, Academies, and Sciences in Italy in the Modern Age // Universities and Science in the Early Modern Period / еd. M. Feingold, V. Navarro-Brotons // Archimedes. 2006. Vol. 12. P. 141–151) и др. историков.
[Закрыть], карикатурное изображение позднеренессансных университетов, как упорных противников эмпирической науки и научных нововведений, постепенно уходит в прошлое.
Э. Грант выделяет два основополагающих начала университетского образования: рационализм и «spirit of inquiry»[141]141
Grant E. A History of Natural Philosophy: From the Ancient World to the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 324–325.
[Закрыть], который он понимает как дух «исследования и любознательности (probing and poking around)», как острое желание исследовать разумом весь мир. Именно эти два начала, для носителей которых в социуме нашлась соответствующая ниша, лежат в основе эффективности любой познавательной деятельности, в том числе и научной, хотя их наличие является необходимым, но не достаточным условием интеллектуальной революции. Когда же на заре Нового времени в университетские курсы стали проникать некоторые новые идеи, в том числе и натурфилософские, перипатетическая философия выказала поразительную гибкость и живучесть. Так называемая «вторая схоластика» стала своего рода «интеллектуальной лабораторией Нового времени», где «оттачивался язык, на котором будет говорить европейский рационализм вплоть до конца XVIII в.»[142]142
Вдовина Г. В. «Метафизические рассуждения» Франсиско Суареса // Вопросы философии. 2003. № 10 (с. 128–140). С. 128–129. См. также монографию Д. В. Шмонина «В тени Ренессанса: вторая схоластика в Испании» (СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006) и его статью «Что такое вторая схоластика? Возвращение к написанному» (Verbum. Вып. 8: Mediaevalia: идеи и образы средневековой культуры. СПб., 2005. С. 128–149). По оценке Д. В. Шмонина, «вторая схоластика, начатая Викторией и доминиканцами, подхваченная иезуитами и нашедшая свое высшее выражение в философском синтезе Суареса, стала новым мощным шагом философии, в ходе которого de facto начал осуществляться переход от теологического способа осмысления мира, общества, человека, во всем многообразии проблем, связей, отношений и т. п., к философскому способу, нашедшему свое завершение в философии Нового времени» (С. 149). Согласно Д. В. Шмонину, вторая схоластика представляет собой «группу католических философских учений, генетически связанных с томизмом. Эти учения, однако, учитывали системы поздней схоластики и идеи ренессансных гуманистических идей и реформационных учений». Кроме того, вторая схоластика «дает теоретическое выражение программы внутренней реформы католицизма и обоснование движения Контрреформации, является ответом на религиозные, социальные, морально-правовые и, разумеется, собственно метафизические вопросы, выдвигаемые ранним Новым временем – эпохой перехода от единства теологического мировоззрения к разнообразию мира различных культур». В рамках второй схоластики произошли «окончательное установление границ между теологией и философией (по предмету, целям и методам познания), а также дифференциация философских дисциплин» (С. 128–129).
[Закрыть].
Как было показано в перечисленных выше работах М. Файнгольда, Э. Гранта, Дж. Гаскойна и других историков в университетских программах начала Нового времени нашли отражение новейшие тенденции и достижения в области математики (в том числе прикладной) и математических дисциплин (оптики, механики, теоретической астрономии). И хотя акцент на книжной учености ограничивал развитие в университетах наблюдательной астрономии, а также препятствовал формированию тех новых астрономических и физических представлений, которые ставили под угрозу всю традиционную систему натуральной философии, статус математики и математических наук в университетском преподавании к концу XVII столетия заметно возрос.
Указанными авторами была также отмечена значительная роль медицинских факультетов университетов в развитии натурфилософии, поскольку преподавание медицины стимулировало интерес не только к природе человеческого тела, но и к природе в целом[143]143
Kibre P. Arts and Medicine in the Later Middle Ages // The Universities in the late Middle Ages / еd. J. Ijsewijn, J. Paquet. Leuven: Leuven University Press, 1978 (Series: Mediaevalia Lovaniensia; series 1, studia 6. P. 213–277). P. 227.
[Закрыть]. Именно в стенах медицинских факультетов была осознана необходимость разрыва с традиционной галеновой анатомией и физиологией, не говоря уж о том, что эти факультеты обладали материальными ресурсами и инструментарием, необходимыми для эмпирических исследований природы: анатомическими театрами, ботаническими садами, а иногда и химическими лабораториями. Если перипатетическая натурфилософия могла служить тормозом для восприятия новых физических и астрономических идей и открытий, то для более телеологически ориентированных дисциплин (а это в первую очередь дисциплины биомедицинского цикла, которые, в отличие от физических и математических наук, «развивались почти полностью в университетском контексте»[144]144
Schmitt Ch. B. Science in the Italian Universities in the Sixteenth and Seventeenth Centuries // The Emergence of Science in Western Europe / еd. by M. P. Crosland. London: MacMillan, 1975 (p. 35–56). P. 39.
[Закрыть]) традиционная (аристотелевская) натурфилософия могла оказаться и оказалась неплохим стимулом для развития[145]145
Underwood E. A. The early teaching of anatomy at Padua, with special reference to a model of the Padua anatomical theatre // Annals of Science. 1963. Vol. 19. Issue 1. P. 1–26; Lewis G. The Faculty of Medicine // The History of the University of Oxford: in 8 vols. / general ed. by T. H. Aston. Oxford: Clarendon Press, 1984–1994. Vol. 3: The Collegiate University / ed. by J. Mc-Conica. 1986. P. 213–256.
[Закрыть]. И что особенно важно в контексте данной работы: в стенах медицинских факультетов, даже в консервативном Парижском университете, зарождались и публично высказывались сомнения в результативности традиционной книжной учености, опиравшейся на авторитетные тексты, а не на опыт. В работах В. П. Зубова, А. Борелли и М. Грмека формирование такого умонастроения было прослежено на примере интеллектуальных биографий многих университетских ученых, в частности, профессора медицины Падуанского университета в 1611–1624 гг. Санторио Санторио (S. Santorio, лат. Sanctorius; 1561–1636), на которого большое влияние оказали взгляды Галилео Галилея (G. Galilei; 1564–1642). «Мы должны, – настаивал Санторио, – прежде всего доверять своим собственным чувствам и опыту, затем – нашему разуму, и только в последнюю очередь – авторитету Гиппократа, Галена, Аристотеля и других замечательных философов»[146]146
Зубов В. П. Санторио Санторио // Вопросы истории естествознания и техники. 1962. Вып. 13. С. 3–17; Borrelli A. The weatherglass and its observers in the early seventeenth century// Philosophies of Technology: Francis Bacon and his Contemporaries: in 2 vols. / ed. by C. Zittel, G. Engel, R. Nanni, N. C. Karafyllis. Leiden: Brill, 2008. Vol. 1 (p. 67–130). P. 109–114; Grmek M. D. Santorio Santorio // Dictionary of Scientific Biography: in 16 vols. / ed. by in chief Ch. C. Gillispie. New York, N. Y.: Scribner’s for American Council of Learned Societies, 1970–1980. Vol. 11 (1975). P. 101–104 (цит. на с. 102). См. также: Grmek M. D. Santorio Santorio i njegovi aparati i instrumenti. Zagreb: Institut za medicinska istra`ivanja Jugoslavenske akademije, 1952.
[Закрыть]. Санторио, заметим, не ограничился красивыми декларациями. Он ставил медицинские эксперименты на себе, цель которых – выразить количественно физиологические процессы в организме. Он также изобрел ряд приборов, среди которых инструмент для измерения силы пульсации артерий, весы для наблюдения за изменениями массы человека, а в 1626 году совместно с Галилеем создал первый ртутный термометр. Число подобных примеров нетрудно увеличить.
Как было показано в ряде исследований[147]147
Дмитриев И. С. Искушение святого Коперника: ненаучные корни научной революции. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006; Barker P. Understanding Change and Continuity: Transmission and Appropriation in Sixteenth Century Natural Philosophy // Tradition, Transmission, Transformation / еd. by F. J. Ragep, S. Ragep, S. Livesey. Leiden: Brill, 1996. P. 527–550; Barker P. The Role of Religion in the Lutheran Response to Copernicus // Rethinking the Scientific Revolution / еd. M. J. Osler. Cambridge; New York: Cambridge University press, 2000. P. 59–88; Barker P. The Lutheran Contribution to the Astronomical Revolution: Science and Religion in the Sixteenth Century // Religious Values and the Rise of Science in Europe / еd. by J. H. Brooke, E. İhsanoğlu. Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture, 2005 (Series of Studies and Sources on History of Science, № 13). P. 31–62; Barker P., Goldstein B. R. Realism and Instrumentalism in Sixteenth Century Astronomy: A Reappraisal // Perspectives on Science. 1998. Vol. 6, № 3. P. 232–258; Barker P., Goldstein B. R. Patronage and the production of De Revolutionibus // Journal for the History of Astronomy. 2003. Vol. 34, № 4. P. 345–368; Dear P. The Mathematical Principles of Natural Philosophy: Toward a Heuristic Narrative for the Scientific Revolution // Configurations. 1998. Vol. 6, № 2. P. 173–193; Dear P. Religion, Science, and Natural Philosophy: Thoughts on Cunningham’s Thesis // Studies in History and Philosophy of Science. 2001. Vol. 32A, № 2. P. 377–386; Gingerich O. An Annotated Census of Copernicus’ De Revolutionibus. Leiden: Brill, 2002; Gingerich O. The Role of Erasmus Reinhold and the Prutenic Tables in the Dissemination of the Copernican Theory // Studia Copernicana. T. VI (Colloquia Copernicana II). Warsaw: Ossolineum, 1973. P. 43–62.
[Закрыть], не прошла мимо внимания университетских профессоров и коперниканская астрономия, хотя большинство из них воспринимали гелиоцентрическую теорию не более чем расчетный прием, что видно из уставов и программ университетов Саламанки и Оксфорда. Однако сам факт включения коперниканской теории в практику преподавания важен, поскольку студенты имели возможность познакомиться с взглядами польского астронома, а уж выводы каждый делал свои: Тихо Браге (Tyge Ottesen Brahe, лат. Tycho Brahe; 1546–1601), например, предложил компромиссную теорию, тогда как И. Кеплер стал убежденным коперниканцем.
Таким образом, роль университетов в изучении природы в начале Нового времени не столь мала и даже негативна, как это все еще принято считать[148]148
См. также: Портер Р. Научная революция и университеты // Alma Mater – Вестник высшей школы. 2004. № 6. С. 29–36; № 7. С. 39–45.
[Закрыть]. Наука Нового времени хотя и не была чисто университетской, однако началась именно в университетских стенах, и многие из ее героев имели университетское образование и были университетскими преподавателями.
В 1992 году австралийский историк науки, науковед и химик-органик Роберт Мортимер Гаскойн опубликовал статью, в которой на основе анализа ок. 1200 биографий ученых, живших между 1450 и 1900 годами, сопоставил рост национальных научных сообществ в западноевропейских государствах в указанный период[149]149
Gascoigne R. The Historical Demography of the Scientific Community, 1450–1900 // Social Studies of Science. 1992. Vol. 22, № 3. P. 545–573. См. также: Gascoigne R. A Historical Catalogue of Scientists and Scientific Books from the Earliest Times to the Close of the Nineteenth Century. New York: Garland, 1984; Gascoigne R. A Chronology of the History of Science, 1450–1900. New York: Garland, 1987; Davids K. 2001. Amsterdam as a Centre of Learning in the Dutch Golden Age, 1580–1700 // Urban Achievement in Early Modern Europe / еd. P. O’Brien, D. Keene, M. Hart, H. van der Wee. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 305–325.
[Закрыть]. Р. Гаскойн, в частности, показал, что в течение «долгого шестнадцатого столетия» (термин Ф. Броде-ля) наибольшая научная активность (если ее оценивать по числу ученых и количеству опубликованных ими научных трудов) имела место в Италии, но потом, к середине XVII в., лидерство перешло к Англии, Франции, Германии и Голландии.
Позднее, в 2008 году, подход Р. Гаскойна был развит британскими историками П. Тейлором, М. Хойлером и Д. М. Эвансом, которые, используя биографические профили (карьерные траектории, «“career” paths») около 1000 ученых, чей пик научной активности пришелся на хронологический интервал 1450–1900 годы, изучили динамику научной активности в западноевропейских городах в указанный период[150]150
Taylor P. J., Hoyler M., Evans D. M. A Geohistorical Study of «The Rise of Modern Science»: Mapping Scientific Practice Through Urban Networks, 1500–1900 // Minerva. 2008. Vol. 46. Issue 4. P. 391–410.
[Закрыть]. Полученные результаты они представили в таблицах 1 (для XVI века) и 2 (для XVII столетия).
Таблица 1[151]151
В таблице учтены только те города, в которых работали всю жизнь или, что бывало чаще, провели наиболее значимые в творческом отношении годы, по крайней мере, 5 из 322 выбранных ведущих ученых XVI столетия. Таким образом, вне перечисленных в таблице городов трудились 52 исследователя из 322.
[Закрыть]

Таблица 2[152]152
В таблице учтены только те города, в которых работали всю жизнь или, что бывало чаще, провели наиболее значимые в творческом отношении годы, по крайней мере, 5 из 472 выбранных ведущих ученых XVII столетия. Таким образом, вне перечисленных в таблице городов трудились 72 исследователя из 472.
[Закрыть]

Из этих и других исследований можно сделать следующие выводы:
1. В XVI веке наибольшая научная активность наблюдалась в Падуе и в некоторых других городах северной и центральной Италии (Риме, Болонье, Пизе, Ферраре), т. е. с этими центрами была связана научная деятельность наибольшего числа европейских математиков, натурфилософов и медиков (причем, не обязательно итальянцев).
2. В XVII столетии картина заметно меняется: Падуя хотя и покидает первое место, но еще входит в первую тройку, тогда как в лидерах теперь оказываются Лондон, Лейден, Париж и Йена.
Но главное даже не в этом, а в том, что если в XVI веке распределение научной активности на просторах Европы носило квазиодноцентровый характер (Падуя с большим отрывом обгоняла прочие города), то в XVII столетии распределение стало полицентричным, различия в показателях первой шестерки городов сравнительно невелики, причем эти города-лидеры находятся в разных концах Европы и пять из них – к северу от Альп. И, разумеется, обращают на себя внимание изменения в первой десятке городов – пять top places из нее выбыли (Монпелье, Рим, Базель, Пиза и Тюбинген) и вместо них появились другие центры – Лейден, Йена, Оксфорд, Кембридж и Копенгаген.
Указанные изменения происходили в ситуации резонанса как минимум двух событийных блоков: глубокого социального кризиса XVI–XVII веков и не менее глубокой интеллектуальной революции того же времени.
Необходимо также принять во внимание, что ЭНД весьма сложным образом зависит от стилистических особенностей научного исследования, от методологического выбора ученого и от масштабов усвоения им всего того, что ретроспективно представляется «передовым» и «прогрессивным». Граница в знаменитой полемике между «древними» и «новыми» (в ее натурфилософской ипостаси) далеко не всегда проходила по линии «эффективная – неэффективная» наука. То, что с позиций сегодняшнего дня может (при известной легкости мышления и историко-научных знаний) показаться отжившим и неэффективным (как бы мы не интерпретировали терминологическую группу «эффективность научной деятельности»), на поверку демонстрирует поразительную инновационную восприимчивость и гибкость, оказывается весьма продуктивным и результативным или уж по крайней мере весьма стимулирующим фактором развития науки. И это справедливо не только для XVI–XVII столетий.
Глава 2
В поисках эффективной институализации науки: cвобода или контроль?
Клубная жизнь науки: аноблированный дилетантизм
Во многих странах Западной Европы начала Нового времени сформировались локальные сообщества интеллектуалов (своего рода «local discussion groups»[153]153
Daston L. The Several Contexts of the Scientific Revolutions (Review: The Scientific Revolution in National Context / еd. by R. Porter, M. Teich. Cambridge: Cambridge University press, 1992) // Minerva. A Review of Science, Learning and Policy. 1994. Vol. 32, № 1 (р. 108–114). P. 110.
[Закрыть], участники которых обсуждали математические, натурфилософские, медицинские и технологические вопросы. Примерами могут служить кружки Марена Мерсенна (M. Mersenne, 1588–1648) в Париже и Джона Уилкинса (J. Wilkins, 1614–1672) в Оксфорде, Эрика Бенцелиуса (E. Benzelius il Giovane, 1675–1743) в Уппсале и сэра Роберта Зиббальда (R. Sibbald, 1641–1722) в Эдинбурге и др. То были неформальные микросообщества единомышленников или, по крайней мере, людей, объединенных общими интересами. Члены этих научных клубов – «closeknit working groups», как определил их Д. Генри[154]154
Henry J. The Scientific Revolution in England // The Scientific Revolution in National Context / еd. by R. Porter, M. Teich. Cambridge: Cambridge University press, 1992 (p. 178–209). P. 187.
[Закрыть], – были, как правило, выпускниками университетов, много путешествовали (по крайней мере, в молодые годы) и чаще всего имели статус хорошо оплачиваемого врача или юриста. Многие из них поддерживали активную и обширную научную переписку, которая затрагивала (как и тематика собраний ассоциаций, в состав которых они входили) весьма широкий спектр вопросов – от римских монет и прочих древностей до природы тепла и холода, хитроумных механических изобретений, математических задач и физических уродств. За редкими исключениями, члены этих клубов не относились к числу выдающихся ученых, они не входили в «передовой отряд» деятелей научной революции, но были ее чернорабочими, ее «муравьями». Хотя формирование таких сообществ было общеевропейским феноменом, однако в каждой стране подобные группы по интересам имели свою специфику[155]155
Подр. см.: The Scientific Revolution in National Context / еd. by R. Porter, M. Teich. Cambridge: Cambridge University press, 1992.
[Закрыть].
Наиболее значительным событием в истории науки раннего Нового времени в институциональном аспекте стало возникновение натурфилософских академий, что Б. Фонтенель (B. le Bovier de Fontenelle, 1657–1757) рассматривал как необходимое следствие «обновления истинной философии», которое произошло в XVII столетии[156]156
«Le renouvellement de la vraye Philosophie a rendu les Académies de Mathematique & de Phisique… necessaires» ([Bernard le Bovier de Fontenelle]. Histoire de l’Académie Royale des Sciences depuis son établissement en 1666 jusqu’а 1686: еn 9 t. Paris: Chez Gabriel Martin, Jean-Baptiste Coignard, HippolyteLouis Guerin 1729–1733. T. I. P. 3).
[Закрыть]. Явно или неявно эти академии противопоставляли себя университетам, даже когда они отрицали, что представляют для последних какую-либо угрозу[157]157
Feingold M. Tradition versus Novelty: Universities and Scientific Societies in the Early Modern Period // Revolution and Continuity: Essays in the History and Philosophy of Early Modern Science / еd. by P. Barker, R. Ariew. Washington DC: Catholic University of America Press, 1991. P. 45–59.
[Закрыть].
Для ряда новых академий было характерно умышленное пренебрежение традиционными дисциплинами и традиционными методами проверки утверждений, а также традиционной риторикой и логикой, что зачастую шло параллельно со стремлением академий избежать религиозных и политических вопросов[158]158
См., к примеру, составленные около 1663 года Христианом Гюйгенсом предложения по организации «Compagnie des Sciences et des Arts» (Huygens Chr. Project de la Compagnie des Sciences et des Arts (1663?) // Huygens Chr. Oeuvres Сomplètes: еn 22 t. / рubl. par la Société Hollandaise des Sciences. La Haye: Martinus Nijhoff, 1888–1950. T. 1–10: Correspondance. T. 4 (1662–1663) [1891]. P. 325–329).
[Закрыть].
Даже если обсуждаемые вопросы выглядели вполне привычными, их рассмотрение зачастую заметно отличалось от норм и стандартов схоластического дискурса. Примером могут служить анонимные дискуссии в «Saggi di naturali esperienze» (1667)[159]159
Saggi di naturali esperienze fatte nell’Accademia del Cimento sotto la protezione del Serenissimo Principe Leopoldo di Toscana e descritte dal Segretario di essa Accademia. Florence: Giuseppe Cocchini, 1667; см. также: Middleton W. E. K. The Experimenters: A Study of the Accademia del Cimento. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971; Bonelli M. L. R., Helden A. Divini and Campani: A Forgotten Chapter in the History of the Accademia del Cimento. Florence: Istituto e Museo di Storia della Scienza, 1981.
[Закрыть], издании Accademia del Cimento, созданной во Флоренции в 1657 году на средства Леопольдо де Медичи (Leopoldo de Medici, 1617–1675) для проведения естественнонаучных экспериментов, а также в парижском Bureau d’Adresse, организованным в 1629 году отцом французской журналистики Теофрастом Ренодо (Th. Renaudot, 1586–1653), периодически публиковавшим рефераты на литературные и научные темы. Публикации же Académie Royale des Sciences не были анонимными, и ответственность за их содержание лежала не только на авторах, но и на Академии как институте.
В контексте тематики данного раздела целесообразно остановиться детальней на тех ранних научных обществах и академиях, которые сыграли наиболее важную роль в процессе научной революции. Такими структурами являются Royal Society of London и Académie Royale des Sciences de Paris.
Начнем с ситуации в Англии. Начало консолидации английской науки пришлось на период Реставрации (1660-е годы), когда события «великого мятежа» уже отошли в прошлое. Институализировавшаяся английская наука Нового времени была наукой посткризисного социума, что и определило многие ее особенности, в том числе и ее эффективность. Однако память о трагических годах смутного времени была жива и еще долго определяла менталитет и действия британцев, включая и первых членов Royal Society.
Практически все исследователи отмечают, что главным и непреходящим последствием революционного кризиса стало его травматическое воздействие на национальное сознание – коллективный шок, исключивший на столетия возможность развязывания новой кровопролитной гражданской войны. Страх терзал английское общество в период Реставрации Стюартов. То был страх или, по крайней мере, тревога перед угрозой новой смуты, чувства, хорошо знакомые, разумеется, и основателям Королевского Общества, многие из которых ясно понимали, что в сложившейся ситуации религиозно-политического раскола в стране занять полностью индифферентную позицию в теологических вопросах им не удастся. И не только в силу внешнего давления обстоятельств («с кем вы, господа virtuosi?»), но и по причине глубокой укорененности натурфилософского дискурса в дискурсе теологическом.
Королевское Общество оказалось в первые годы своего существования в весьма сложном положении, оно (воспользуюсь сравнением Т. Гирина[160]160
Gieryn Th. F. Distancing Science from Religion in Seventeenth-Century England // Isis. 1988. Vol. 79, № 299. P. 582–594.
[Закрыть]) как бы балансировало на самой вершине двускатной крыши, откуда открывалась перспектива сорваться и упасть (точнее, впасть) либо в атеизм и материализм, либо в сектантство и «энтузиазм» (под коим подразумевали «экзальтацию разума» и сильное душевное волнение).
Членам Royal Society, которых не устраивало ни то ни другое, пришлось самим создавать свою «интеллектуальную нишу», принимая одни стороны пуританского этоса (акценты на полезности, разумности, рациональности и т. д.) и риторически дистанцируясь от других (нетерпимость к инакомыслию, догматизм, «энтузиазм» и т. д.). Поскольку начало славных дней Королевского Общества омрачили «holy speculative Wars» и «the great ado»[161]161
Sprat Th. The History of the Royal Society of London, for the Improving of Natural Knowledge. London: Printed by T. R. for J. Martyn at the Bell, 1667. P. 25. (Цит. по факсимильному изданию: St. Louis: Washington University Studies; London: Routledge & Kegan Paul LTD, 1959.)
[Закрыть] (Т. Спрат), то в итоге ученым мужам пришлось вообще исключить из тематики своих собраний дебаты по вопросам теологии и морали. Впрочем, такое решение принималось отдельными кружками натурфилософов задолго до создания Общества. К примеру, в кружке Джона Уилкинса в Уодем-Колледж (Оксфорд, вторая половина 1640-х годов) было решено, что «первой целью» их собраний должно стать «не более чем удовлетворение от возможности дышать вольным воздухом и от бесед друг с другом в спокойной, уединенной обстановке, не касаясь страстей и безумия этого мрачного времени»[162]162
Ibid. P. 53.
[Закрыть].
Как остроумно заметил Гирин, «именно наличие хорошего забора (между разумом и откровением. – И. Д.) делали эти два источника познания добрыми соседями»[163]163
Gieryn Th. F. Distancing Science from Religion. P. 592.
[Закрыть]. И забор этот, построенный трудами ученых мужей, был двойным – риторическим и институциальным. Консенсус между членами Общества покоился на том, что Св. Писание не должно поучать человека «в делах Природы», его задача совсем иная – моральная, а именно, как выразился английский натурфилософ Джозеф Глэнвиль (J. Glanvill, 1636–1680), «to propose to us the way of Happiness».
Однако, как подчеркнул А. Каннинхэм, наличие отмеченных выше глубинных взаимосвязей между формирующейся новоевропейской натурфилософией и теологией[164]164
Еще на излете средневековья ставшей, по меткой характеристике М. К. Петрова, «тренажером научной дисциплинарности» (Петров М. К. Язык, знак, культура. М.: Наука, 1991. С. 251).
[Закрыть] не позволяла сделать этот забор глухим. Отделить натурфилософские изыскания от вопросов богословия и морали можно было лишь в весьма ограниченном смысле, поскольку по самой своей природе натурфилософия была, по определению А. Каннинхэма, «Godoriented»[165]165
Cunningham A. How the Principia got its Name; or, taking Natural Philosophy seriously // History of Science. 1991. Vol. 29, № 4 (р. 377–392). P. 383.
[Закрыть]. И дело не только в теологической озабоченности натурфилософов XVII в., но и в том, что «натуральная философия как таковая была дисциплиной и предметной областью, задача (role and point) которой состояла в изучении божественного Творения и атрибутов Бога»[166]166
Ibid. P. 388.
[Закрыть], правда, не теологическими методами. Поэтому все разговоры о невмешательстве натурфилософии в теологические вопросы, о построении забора между естествознанием и богословием следует понимать только как отказ от использования натурфилософами чисто теологической аргументации, т. е. как отказ от обращения при чтении и толковании Книги Природы (Книги божественного Творения) методов экзегезы Книги божественного Откровения. Но и в такой интерпретации, развести натурфилософские и собственно теологические задачи можно было, только приняв особые правила институциализации натурфилософии, которые оказались несовместимыми с духом и внутренним строем новой натурфилософии.
Кроме того, вывести натурфилософию из-под клерикальной опеки (за «забор») надо было так, чтобы не вызвать болезненной реакции духовенства. Для этого существовал один единственный способ – оставить за теологией право быть не только идейным фоном, но и в известной мере законодателем науки. В итоге произошла легитимация натурфилософского дискурса путем активного инструментального использования ценностей и целей дискурса теологического.
Такая политика позволяла Обществу не только иметь сносные отношения с клиром, но и вербовать сторонников и заручаться поддержкой людей весьма религиозных, тех, кто ненавидел и боялся сектантов, для кого религия была сердцевиной социального порядка. Тем самым, создавалась видимость ком-плементарности двух социальных институтов[167]167
Gieryn Th. F. Distancing Science from Religion. P. 592–593.
[Закрыть]. Поначалу такая двойственная риторика (риторика функционального размежевания натурфилософии и религии и риторика их целевой, ценностной и проблемной общности) была жизненно необходима институализирующейся натурфилософии.
Именно институциализация нововременной натурфилософии помогла ей выстоять и отмежеваться от тех сил, которым она в большей степени обязана своим существованием. Разумеется, это обстоятельство отнюдь не гарантировало высокую когнитивную эффективность «новой науки» и ее приложений, оно служило скорее необходимым, но далеко не достаточным условием формирования устойчивой исследовательской традиции и выработке соответствующих практик. Интеллектуальная революция развивалась по схеме революций социальных: ее задумывали гении, институализировали в основном фанатики, а плодами пользовались… ну, скажем так, совсем другие люди, в обществе которых обсуждать вопросы герметического или не вполне традиционного теологического характера было, мягко говоря, уже неуместно. Времена Галилея и Кеплера прошли, настали времена «членов Королевского Общества», деятельность которых прекрасно вписывалась в каноны западной цивилизации – состязание нормативных идей по определенным правилам, сущностное равенство участников социального взаимодействия и «потусторонний», сверхприродный фактор как импульс развития. Новоевропейская преднаука стала и предельной формой рационализации нормативного дискурса и его институциальным воплощением[168]168
Dear P. Totius in Verba: Rhetoric and Authority in the Early Royal Society // Isis. 1985. Vol. 76. P. 145–161; Idem. Miracles, Experiments, and the Ordinary Course of Nature // Isis. 1990. Vol. 81. P. 663–683.
[Закрыть]. Это и определило границы ее эффективности. Конкретно речь идет о следующих особенностях функционирования Royal Society, повлиявших на ЭНД его членов:
1. Знание в эпоху Реставрации воспринималось как один из источников идеологической опасности, поэтому идеал правильного и социально безопасного знания включал в себя идеал (бэконианский по своим истокам) процесса получения такого знания – коллективная экспериментальная деятельность, подчиненная определенным нормам, гарантирующим мир в научном сообществе. Предполагалось, что из деятельности этого сообщества должны быть устранены всякая личная, политическая или иная заинтересованность, кроме заинтересованности в получении реального знания о природе.
2. По убеждению членов Royal Society, опыт должен ограничивать произвол индивидуального разума и лежать в основании новой науки. При этом роль разума не умалялась, но признавалась необходимость усовершенствования разумной деятельности «с помощью размышлений, собеседований, наблюдений и экспериментов», кои «необходимы не для разрушения диктата разума, а лишь для того, чтобы поставить ему пределы»[169]169
Boyle R. Appendix to the First Part, and the Second Part (of «The Christian Virtuoso») // Boyle R. The Works: in 6 vols. / ed. by Th. Birth. London: J. & F. Rivington, 1772. Vol. 6. (p. 673–796). P. 715.
[Закрыть].
3. Многие члены Общества признавали, что о физическом мире возможно лишь более или менее вероятное, но никак не абсолютно достоверное, знание. Иными словами, понятие «достоверность» превращается в относительное, разлагаясь в спектр достоверности: «нижняя» полоса этого континуума идентифицируется со сферой мнения, выше располагается область убежденности в истинности данного утверждения, которую, пользуясь терминологией XVII столетия, можно назвать областью «моральной достоверности», далее следует область логической и математической достоверности и, наконец, венчает этот спектр абсолютно достоверное и всеобъемлющее божественное знание, недоступное человеку. Натурфилософу, работающему в фактуальной сфере, неподвластной полному контролю со стороны логики и математики, приходится довольствоваться моральной достоверностью (certitudo moralis).
4. Члены Общества придерживались следующих принципов (перечислю лишь те, которые важны в контексте моей темы):
утверждение считалось истинным, если оно удовлетворяло критерию моральной достоверности;
моральная достоверность всегда связана с наличием свидетельств нескольких авторитетных, компетентных людей, при этом члены Общества предпочитали опираться не на вторичные свидетельства, а на «own Touch and Sight»[170]170
Sprat Th. The History of the Royal Society of London. P. 83.
[Закрыть], ибо тогда степень достоверности формулируемых выводов оказывается, по их мнению, более высокой. (Замечу, что речь шла именно о достоверности, а не о возможном правдоподобии тех или иных частных мнений, поскольку со свидетельствами нескольких лиц, в случае если имеет место «concurrence of probabilities»[171]171
Термин «probable» в XVII веке означал не только «степень вероятности» («degree of likelihood»), но и то, что «достойно одобрения» («worthy of approbation»), что имеет «поддержку со стороны уважаемых людей» (Hacking I. The Emergence of Probability. Cambridge: Cambridge UP, 1975. P. 22–23; cм. также: Patey D. L. Probability and Literary Form. Cambridge: Cambridge UP, 1984. P. 266–272).
[Закрыть], нельзя было поступать, как заблагорассудится.);
свидетели и судьи должны быть лицами незаинтересованными, квалифицированными, принадлежать к разным сферам деятельности. Только при соблюдении этих условий (компетентность + незаинтересованность) выносимые на суд Общества свидетельства могли претендовать на статус научного факта. У натурфилософов, составлявших ядро этого «formed and Regular Assembly», не было иллюзий относительно человеческой природы, они понимали, что человек не склонен принимать за истину то, что противоречит его желаниям и интересам, даже если это подтверждено достаточно надежными и убедительными доводами. Поэтому личный интерес рассматривался как дьявольский возмутитель правильного и заслуживающего доверия поведения. Неслучайно в сопроводительных замечаниях к своим докладам члены Общества подчеркивали «объективность» предлагаемой ими информации;
членство в Обществе предусматривало не только достаточную компетентность, определяемую уровнем образования, эрудицией и наличием ученых заслуг, но и определенный социальный статус «fellow» (Ч. Р. Уэлд приводит данные о социальном составе Общества на ноябрь 1663 г: 18 пэров, 22 баронета, 47 эсквайров, 32 доктора, 2 бакалавра богословия, 2 магистра искусств[172]172
Weld Ch. R. A History of the Royal Society, with Memoirs of the Presidents. Comp. from authentic documents: in 2 vols. London: J. W. Parker, 1848. Vol. 2. P. 145.
[Закрыть]). В ряды Общества не допускались «энтузиасты», т. е. представители радикальных сект, а также «secretists», «vulgars» и «prejudiced», ибо они не могли реализовать принципы «правильной манеры диспута и правильной экспериментальной работы»[173]173
Schaffer S. Making Certain. Essay review of Barbara J. Shapiro. Probability and Certainty in Seventeenth-Century England // Social Studies of Science. 1984. Vol. 14 (p. 137–152). P. 141.
[Закрыть];
деятельность Общества была сосредоточена на предложении и постановке опытов, обсуждении их истинности, характера, основ и полезности, т. е. на собирании и систематизации «фактов» («matters of fact»), под которыми понимались констатации, считавшиеся теоретически ненагруженными (к примеру, получив с помощью насоса разреженный воздух, собрание ученых мужей внимательно следило за тем, как ведут себя в нем различные животные);
для фиксации полученных «matters of fact» была разработана специальная процедура, детально исследованная П. Диа[174]174
Dear P. Totius in Verba: Rhetoric and Authority in the Early Royal Society; Idem. Miracles, Experiments, and the Ordinary Course of Nature.
[Закрыть]. «Когда член Королевского общества вносил свой вклад в науку, он делал это посредством доклада о некотором опыте…Этот опыт, не будучи обобщающим утверждением о том, каким образом обычно функционирует данный объект природы, представлял собой сообщение о том, как природа повела себя в данном конкретном случае»[175]175
Dear P. Totius in Verba: Rhetoric and Authority in the Early Royal Society. P. 152.
[Закрыть]. Таким образом, «сообщение об эксперименте не обязательно должно отвечать на вопрос о том, что “случается” в природе при данных обстоятельствах. Оно должно описывать лишь то, что “случилось” в данной ситуации»[176]176
Dear P. Miracles, Experiments, and the Ordinary Course of Nature. P. 675.
[Закрыть]. Математические доказательства были не в почете. По мнению Роберта Бойля (R. Boyle, 1627–1691), экспериментальные доказательства, хоть и подвержены ошибкам, однако имеют более высокий статус, нежели математические, поскольку последние не в состоянии охватить всю сложность и тонкость явлений физического мира. Английский ученый настаивал на существовании множества истин, которые «по самой природе вещей не доступны математическим или метафизическим доказательствам»[177]177
Boyle R. A Discourse of Things above Reason // Boyle R. The Works. Vol. 4 (p. 406–469). P. 450.
[Закрыть], но тем не менее это истины.
Сказанное не означает, что Бойль вообще не доверял математическим рассуждениям и доказательствам. Но он считал, что любое природное явление сначала необходимо исследовать с «качественной» стороны, т. е., не ограничиваясь простым наблюдением, воспроизвести явление в различных условиях, что может «дать намек на его причины или, по крайней мере, познакомить нас с некоторыми свойствами и качествами вещей, согласованное действие коих и вызывает данное явление»[178]178
Boyle R. Some Considerations touching the Usefulness of Experimental Natural Philosophy. The Second Tome // Boyle R. The Works. Vol. 3 (p. 392–457). P. 423.
[Закрыть]. Такой прием – создание специальных, искусственных условий для протекания явлений, – способен, по Бойлю, выявить причинно-следственные связи и тем самым открыть возможности для последующего математического описания, т. е. является в познавательном отношении наиболее эффективным.
Описанный подход был весьма характерен для британской экспериментальной философии XVII столетия, противопоставлявшей себя в этом плане французскому «математизму», для которого, как заметил П. Диа, «исторические репортажи об отдельном событии, вроде тех, которые без конца составлял Бойль, в научном отношении были лишены смысла, это был философский антиквариат»[179]179
Dear P. Miracles, Experiments, and the Ordinary Course of Nature. P. 676.
[Закрыть].
Подытоживая сказанное о работе раннего Royal Society, следует заметить, что организационные принципы и методологические установки этой «ассамблеи», разумеется, открывали большие возможности для проведения научных исследований в широком проблемном спектре. Однако указанные принципы и установки ограничивали тематические и методологические ресурсы, а, следовательно, и научную эффективность Общества, что в первую очередь сказалось на работах физико-математического характера[180]180
О чем детальней см.: Дмитриев И. С. Чисто английская наука (природознание в посткризисном социуме) // Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки: коллект. монография / ред. – сост. Э. И. Колчинский. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 26–121.
[Закрыть]. Кроме того, интеллектуальные тенденции, оказавшие заметное влияния на раннее Royal Society (программа «великого восстановления наук» Ф. Бэкона, а также приоритеты и методология «Нового органона», пансофизм Я. А. Коменского (J. A. Komenský, Comenius, 1592–1670), причудливые интересы и устремления дилетантствующих virtuosi вроде Джона Ивлина (J. Evelyn, 1620–1706) – писателя, садовода, мемуариста и коллекционера, отнюдь не способствовали специализации научной деятельности. Предпринятые в 1664 году попытки разделить членов Общества по специализированным «комитетам» оказались безуспешными. Если журнал Парижской Академии наук – «Histoire de l’Académie royale des sciences, avec les mémoires de mathématique et de physique» – с самого начала своего издания (1699) группировал публикуемые материалы по рубрикам, отвечавшим отдельным наукам (общая физика, анатомия, химия, ботаника, геометрия, география, механика и т. д.), то в «Philosophical Transactions» (журнале Королевского общества) классификации статей по дисциплинам не проводилось, публикации шли вперемешку – от описания древностей Суссекса и двухголового теленка до измерений влажности в шахтах и изложения опытов с воздушным насосом. И этот, по выражению Л. Дастон, «prolonged amateurism»[181]181
Daston L. Classifications of Knowledge in the Age of Louis XIV // Sun King: The Ascendancy of French Culture during the Reign of Louis XIV / еd. by D. L. Rubin. London: Associated University Presses, 1992 (p. 207–220). P. 211.
[Закрыть] продержался в Обществе до начала 1830-х годов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































