Текст книги "Наука: испытание эффективностью"
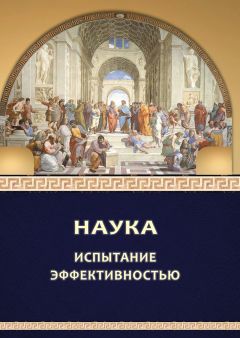
Автор книги: В. Куприянов
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
На первый взгляд это кажется удивительным, ведь именно под эгидой Общества были опубликованы «Математические начала натуральной философии» Исаака Ньютона (I. Newton, 1642–1727) и многие другие важные работы. Да, это так. Но осторожный, я бы даже сказал «пугливый», научный стиль членов Общества (тех из них, кто вообще занимался наукой), например Р. Бойля, контрастировал с ньютонианским стилем, что наглядно видно из сопоставления работ Бойля и Ньютона по теории цветов[182]182
Dear P. Totius in Verba: Rhetoric and Authority in the Early Royal Society. P. 154–155; Shapiro A. E. The Evolving Structure of Newton’s Theory of White Light and Color // Isis. 1980. Vol. 71, № 257. P. 211–235; Shapiro A. E. The Gradual Acceptance of Newton’s Theory of Light and Color, 1672–1727 // Perspectives on Science. 1996. Vol. 4, № 1 (p. 59–140). P. 88–92.
[Закрыть]. Ньютон, активно и эффективно использовавший математику (особенно геометрию), казался на фоне феноменологических констатаций, переполнявших сочинения большей части английских натурфилософов, аутсайдером, но и ему приходилось считаться с методологическими требованиями Общества[183]183
Подробнее об этом см.: Дмитриев И. С. Чисто английская наука.
[Закрыть].
П. Диа подметил характерную особенность выпусков «Philosophical Transactions» первых лет (даже десятилетий) существования Королевского Общества – очень небольшое число математических работ и трудов, которые по современной классификации следовало бы отнести к области математической физики. Когда же такие работы появились на страницах этого издания, то сам характер их «подачи» несколько отличался от принятого для других публикаций. Во-первых, статьи математического или физико-математического содержания были написаны на латыни, а не на английском, как подавляющее число других статей. Во-вторых, они были напечатаны малым кеглем, а иногда еще и петитом.
Возможно, не случайно И. Ньютон, избранный (отнюдь не единогласно) 30 ноября 1703 года президентом Royal Society, начал с того, что представил Совету Общества новую схему организации этой «Fix’d Assembly»: «Scheme for establishing the Royal Society». И начинался этот документ определением натуральной философии – главной области деятельности Общества: «Натуральная философия заключается в открытии структуры и действий Природы (frame andoperations of Nature), в сведении их, насколько это возможно, к общим правилам и законам, устанавливая эти правила наблюдениями и экспериментами, а затем, дедуцируя причины и действия вещей»[184]184
Additional MS, Cambridge University Library (Portsmouth Papers) 4005. 2. Имеются семь набросков «Scheme», один из которых был опубликован Д. Брюстером: Brewster D. Memoirs of the Life, Writings, and Discoveries of Sir Isaac Newton: in 2 vols. Edinburgh: Constable, 1855. Vol. 1. P. 102–104.
[Закрыть]. Хотя об использовании математических методов здесь не говорится (по крайней мере, прямо), но сказанное сэром Исааком явно расходится с установкой Общества – описывать, главным образом, то, что «случилось» в данной ситуации, а не то, что случается в определенных условиях.
Таким образом, следует различать ограниченную когнитивную эффективность Общества, проявившуюся в реализации, главным образом, его «коллекторских программ» (термин М. А. Розова), и куда большую эффективность исследований И. Ньютона, который, хотя и состоял в рядах Royal Society (и даже был его президентом с 1703 по 1727 год), но не придерживался многих правил, ограничений и предрассудков большинства членов этого идейно и методологически закомплексованного Общества, которое к тому же в первые десятилетия своего существования было собранием дилетантов par exellence, людей, зачастую весьма невежественных.
Ньютон, как известно, плохо переносил критику в свой адрес. К примеру, в 1672 году после первых же замечаний и возражений (в том числе и со стороны Роберта Гука (R. Hooke, 1635–1703)), касавшихся его статьи о теории цветов[185]185
Newton I. A Letter of Mr. Isaac Newton, Professor of the Mathematicks in the University of Cambridge; containing his New Theory about Light and Colors: sent by the Author to the Publisher from Cambridge, Febr. 6. 1671/72; in order to be communicated to the R. Society // Philosophical Transactions of the Royal Society. 1671/1672, No. 80 (19 Feb.). P. 3075–3087.
[Закрыть], он ушел в себя и прекратил научные контакты. В апреле 1686 года Ньютон представил Обществу рукопись «Principia». Гук тут же высказал приоритетные претензии по поводу открытия закона всемирного тяготения. Кроме того, возникли и иные трудности. Когда рукопись Ньютона была получена Королевским обществом, его члены оказались в затруднительном положении. Перед ними лежал труд первостепенной важности (о чем многократно твердил Эдмунд Галлей (E. Halley, 1656–1742)), к тому же посвященный Обществу, на деньги которого Ньютон планировал издать свое сочинение. Однако еще в 1685 году один из членов Общества, лондонский врач и натуралист сэр Танкред Робинсон (T. Robinson, c. 1658–1748), сообщил, что его друг Джон Рей (J. Ray [Wray], 1627–1705) завершил трактат «Historia piscium» («История рыб»), начатый некогда Фрэнсисом Уиллогби (F. Willughby, 1635–1672). Сам Рей жил на грани нищеты, а вдова Уиллогби никакого интереса к публикации этого замечательного труда не проявляла. Робинсон упорно убеждал Общество опубликовать «Историю рыб» и ему это удалось. Но издание сочинения, содержащего свыше семидесяти гравюр, окончательно подорвало и без того скудные финансы Royal Society. На печатание «Principia» денег не было. Между тем Галлей настаивал на публикации, ссылаясь на предыдущие решения Общества. В итоге совет Royal Society пришел к следующему: любезно позволил Галлею самому расхлебывать кашу, которую тот заварил (ведь именно Галлей уговорил Ньютона написать «Principia» и настойчиво следил, чтобы автор довел свое дело до конца, а Общество напечатало этот труд): «Постановили, что книга мистера Ньютона будет печататься, и что мистер Галлей возьмет на себя труд наблюдать за этим, и печатание будет осуществлено за его счет, что он и обязался сделать»[186]186
Birch Th. The History of the Royal Society of London for Improving of Natural Knowledge, from its first rise; in which the most considerable of those papers communicated to the Society, which have hitherto not been published, are inserted in their proper order, as a supplement to the Philosophical Transactions: in 4 vols. London: for A. Millar, 1756–1757. Vol. 4. P. 486.
[Закрыть]. Ньютон, по свойственной ему привычке, сделал вид, что вся эта история к нему никакого отношения не имеет. После того как Галлей профинансировал из своего кармана издание «Principia», ему было объявлено, что Общество не в состоянии выплатить ему обещанные пятьдесят фунтов жалованья (Галлей незадолго до этого стал секретарем Общества), но согласилось в компенсацию отдать нераспроданные экземпляры «Истории рыб».
В июне 1686 года Совет попросил президента Общества Сэмюэля Пипса (S. Pepys, 1633–1703) дать разрешение на печатание «Principia». 5 июля Пипс подписал Imprimatur, как если бы Общество имело реальное отношение к изданию этого труда.
В историко-научной литературе рождение «нововременной науки» нередко изображается как потёмкинская картина победоносного шествия от мрака средневековой схоластики к свету экспериментального естествознания под опереточную chanson de route с неизменным припевом «Eppur si muove».
Действительно, если обратиться к крупномасштабной картине естествознания на заре Нового времени, где в качестве «опорных» личностей выбраны такие гиганты, как Галилей, Лейбниц и Ньютон, то создается иллюзия, будто весь процесс формирования нововременной натурфилософии – это торжество галилеевой методологии, основанной на концепции «идеализированного эксперимента»[187]187
Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики // Эйнштейн А. Сбор. науч. трудов: в 4 т. М.: Наука, 1967. Т. 4 (с. 357–543). С. 363–364.
[Закрыть], предполагавшей «изобретение в действительности не происходящих, но теоретически возможных (или допустимых) ситуаций, благодаря анализу которых понимается реальная ситуация»[188]188
Ахутин А. В. История принципов физического эксперимента: от Античности до XVII в. М.: Наука, 1976. С. 195.
[Закрыть].
Однако более детальный анализ позволяет разглядеть на этом героическом полотне неожиданные детали, еще раз подтверждающие известную мысль о том, что победу, изложенную со всеми подробностями, трудно отличить от поражения. Так, например, выясняется, что становление английской натурфилософии во второй половине XVII века, т. е. в эпоху, как принято говорить, «early Royal Society» (1660–1680-е годы), происходило, во-первых, в форме развития натурфилософского дискурса, нормативная база которого в сильной степени зависела от нормативной базы дискурса теологического, а также политического, а во-вторых, в обстановке поиска идеологически безопасных, умеренных доктрин и методологий (как философских, так и теологических), которые, ни при каких условиях, не могли бы стать источником непримиримой идейной борьбы, расколов, и, в конечном счете, социальных потрясений. В такой ситуации и при таком настрое умеренной части британского социума («только б не было войны!») изучение Природы не могло строиться на фундаменте галилеевой методологии, в рамках которой непосредственное наблюдение природного явления не совпадает с его пониманием, а мир, где бы они совпали (т. е. идеализированный мир преобразованного с позиций теории природного объекта, вырванного из его естественного контекста и насильственно включенного в разнообразные физические ситуации), надлежало построить на месте мысленно разрушенной реальности. Подобная рациоцентричная методология в глазах членов Королевского общества не могла вести к достоверным результатам – бесспорным и очевидным для всех. Таким образом, английская натурфилософия, сформировавшаяся в лоне европейской интеллектуальной революции XVI–XVII веков, поначалу, в 1660–1680 годах, не могла, в силу, главным образом, указанных политических и социокультурных причин, развиваться в формах, адекватных глубинной сути этой революции.
Вместе с тем для членов Королевского общества, воспринявших бэконианский идеал scientiae как коллективной экспериментальной деятельности по получению «светоносных» и «плодоносных» знаний, чисто схоластические методы теоретизирования, перемалывавшие слова в слова, также были неприемлемы. В итоге процесс формирования английской натурфилософии носил адаптационно-компромиссный характер, подобно реке натурфилософия пробивала себе русло то по каменистым уклонам сильно пересеченной местности, а то и просто по болоту. Идеология «early Royal society», опиравшаяся на «singular, historical event experiment»[189]189
Dear P. Discipline and Experience: the Mathematical Way in the Scientific Revolution. Chicago: University of Chicago Press, 1995. P. 246.
[Закрыть], т. е. на репортаж-нарратив об отдельно взятом событии, ставший суррогатом универсального опыта, представляла собой некий средний путь между схоластико-перипатетической и галилеевой методологиями. На этом пути ученые мужи надеялись получить знание, одинаково убедительное для всех, а для всех убедительным могло быть лишь то, что они видели своими глазами, т. е. отдельное «событие эксперимента», и только проделав колоссальное число экспериментов можно было формулировать универсальный закон[190]190
Критикуя теорию цветов Ньютона, Р. Гук предложил свое объяснение опытов с призмой, отметив при этом, что его выводы, в отличие от нью-тоновых, основаны на «сотнях экспериментов». Сэру Исааку настойчиво советовали проделать большее число опытов в присутствии как можно большего количества свидетелей. Один из его оппонентов прямо писал, что «многие достойные члены Королевского общества основывали новые теории, упирая на количество экспериментов; в частности, изобретательный м-р Бойль убедительно демонстрировал вес атмосферы огромным числом новых экспериментов, каждый из коих, как заслуженно считается, прибавляет его теории новую силу» (Newton I. The Correspondence: in 7 vols. / ed. by H. W. Turnbull, J. P. Scott, A. R. Hall, L. Tilling. Cambridge: Cambridge UP, 1959–1977. Vol. I. P. 104–105).
[Закрыть]. Подобный подход к изучению природы имел свои прообразы и даже опору как в теологии (англиканизм), так и в юриспруденции (практика судов общего права).
Наконец, говоря об успехах Королевского Общества (главный из которых – сам факт выживания столь хрупкого создания в обстановке насмешек, враждебности и постоянной нехватки денег), следует упомянуть об удачно построенной стратегии диалога Общества с властями. Вот она оказалась действительно эффективной.
В документах Общества, особенно в первое десятилетие его существования, часто мелькают слова и рассуждения о «полезных искусствах», о благе и пользе человечества, о мануфактурах и ремесленном опыте, о «Dominion over Nature» и т. п. Основатели Общества планировали реализовать грандиозный бэконианский замысел «History of Trades», для чего предполагалось тщательнейшим и систематическим образом изучить всевозможные производства и ремесла. В частности, в области «механических искусств» была поставлена задача – «собрать все, что содержится в книгах и все, что практикуется, отметить то, что практикуется, но не найдено в книгах, а затем выяснить, что еще может быть сделано для усовершенствования механики»[191]191
Цит. по: Hunter M. First Steps in Institutionalization: The Role of The Royal Society of London // Solomon’s House Revisited: The Organization and Institutionalization of Science / ed. by T. Frangsmyr. (Nobel Symposium 75). Canton (Mass.): Science History Publications, USA, 1990 (p. 13–30). P. 20–21.
[Закрыть]. Т. Спрат (Th. Sprat, 1635–1713) писал о плане создания «общего собрания всех достижений ремесел и обычных и необычных творений Природы» как об «одном из главных намерений» Общества[192]192
Sprat Th. The History of the Royal Society of London. P. 251.
[Закрыть].
Однако со временем даже самые амбициозно-настроенные оптимисты-дилетанты осознали, что между их «плодоносными» прожектами и реальными возможностями мало-мальски эффективно влиять на распространение технических инноваций и ремесленную практику – дистанция огромного размера. В 1670–1680-х годах Royal Society «походило не столько на источник динамичного утилитаризма (powerhouse of dynamic utilitarianism), служащий государству, сколько на джентльменский клуб»[193]193
Hunter M. The Crown, The Public and The New Science, 1689–1702 // Notes and Records of the Royal Society of London. 1989. Vol. 43 (p. 99–116). P. 101.
[Закрыть].
Тем не менее риторика служения общественному благу и практическим потребностям государства (наряду с определенными реальными делами в области прикладных исследований) сохранялась и поддерживалась, особенно в первые полвека существования этой «Fix’d Assembly». В подобной риторике проявились не только искренний интерес многих членов Общества к «плодоносным» знаниям и утилитаристские настроения британского социума, но и стратегия диалога английского натурфилософского сообщества c властями, рассматривавшими познание Природы как разновидность коллекционерской деятельности или как область коммерциализирующегося досуга. Стратегия была не нова, но эффективна: обещать властям очередное Эльдорадо, будь то новые технологии, новое оружие или новые земли, а потом, в качестве отчета о проделанной нечеловеческой работе, преподнести изумленному патрону какую-нибудь «Историю рыб» или, на худой конец, «Математические начала натуральной философии». Теперь обратимся к Парижской академии наук.
Эффективный Кольбер, или ковчег науки Во Франции формой самоорганизации науки в начале XVII столетия стали неформальные кружки и любительские общества, появление которых было вызвано ростом интеллектуальных запросов образованных слоев общества, а не монаршим повелением[194]194
Известную роль в интеллектуальной жизни страны играли некоторые религиозные школы, особенно созданная иезуитами Congregation des prêtres des sciences (Конгрегации отцов наук), где было введено преподавание физики, математики и естественной истории. Однако исследовательских задач церковные школы, как правило, перед собой не ставили.
[Закрыть]. Небольшим кружкам в Оксфорде и Лондоне во Франции соответствовало множество аналогичных кружков, обществ и «академий». Их участники (священники, монахи, судьи, адвокаты, советники, казначеи, дипломаты и т. д.) не были профессиональными учеными в современном смысле слова, для них научные занятия представляли собой вид интеллектуального досуга («хобби»). Идея официальной институализации этих групп поначалу не была популярной. «Частные общества, не зависимые ни от системы образования, ни от правительственных решений, стали множиться по всей стране. Академическое движение, находясь в начале века в зачаточном состоянии, постепенно превратилось в настоящую эпидемию. Оно затронуло не только интеллектуальные круги, но также провинциальную знать и мещан. …Поскольку академии были задуманы как объединения специалистов (или тех, кто полагал себя таковыми), они основывались на принципе компетентности. Следовательно, члены академии избирались; выборность – их… фундаментальная особенность. Представляя работы своей “Конференции”, Ренодо так обосновывал этот принцип: “тем, кто полагает, что академии не предназначены для черни, не покажется странным, что были введены некоторые ограничения” (на доступ к собраниям).
…Академии были ориентированы не на светские развлечения, не на удовольствия, а на “труд” (д’Обиньяк[195]195
Франсуа Эдлен (Эделин) (F. Hédelin, более известный как abbé d’Aubignac, 1604–1676) – драматург, театровед и литературовед. – И. Д.
[Закрыть]). Точнее говоря, на коллективную дискуссию и коллективные размышления: “говорить вместе об изящной словесности”, “рассуждать”, “выносить суждения”… Предполагалось, что академии являются тем местом, где вырабатываются нормы, и что они обладают авторитетом в своей области: с ними “сверяются” (Ришле). Наконец, чтобы образовавшийся кружок мог претендовать на звание академии, его деятельность должна быть регулярной и продолжительной (Ришле: “собираться по регламенту”)[196]196
Впрочем, как только частные лица начинали устраивать заседания, посвященные культурным вопросам, их кружок, как правило, называли «академией», поскольку этот термин в начале XVII века обозначал объединение лиц с целью обмена информацией и обсуждения тех или иных проблем, требующих специальных знаний. Согласно определению аббата д’Обиньяка, имевшего опыт организации таких собраний, академии представляют собой «содружества людей свободных и лишенных обязанности просвещать публику, кои желали бы объединить свои исследования и труды» (Aubignac, F. Hédelin D’. Discours au Roy sur l’establissement d’une seconde Académie dans la ville de Paris. Paris: Chez Iacques du Brueil; et Pierre Collet, 1664. Section X; Виала А. Академии во французской литературной жизни XVII века (Из книги «Рождение писателя») / пер. с фр. Г. Галкиной // Новое литературное обозрение. 2002. № 54 (с. 72–97). С. 72). – И. Д.
[Закрыть]. Одним словом, академическая деятельность в том виде, в каком она разворачивалась в XVII веке, представляла собой предприятие по независимой кодификации и легитимации культурных и художественных ценностей.
…В классическую эпоху история сообщества просвещенных людей всегда следует более или менее одному сценарию. Все начинается с частной инициативы одного или нескольких человек, обладающих хотя бы некоторой известностью. Эти люди объединяют вокруг себя друзей – кружок из шести, максимум двенадцати человек, – которых они побуждают регулярно собираться: раз в неделю или в две недели. Иногда такая группа придумывает себе название, но чаще всего она довольствуется тем, что на нее ссылаются по имени основателя… Поскольку в основе такого объединения лежат дружеские отношения, оно, в общем, функционирует согласно устной договоренности или по неписаным правилам: среди друзей нет необходимости в письменных регламентирующих установлениях.
…После того как период формирования группы закончен, ее деятельность иногда быстро прекращается. Редко это происходит по причине внутренних разногласий; скорее, это бывает следствием политической конъюнктуры (войны, волнения) или, особенно часто, происходит в результате ухода основателей кружка по причине их смерти или отъезда. …В целом более половины академий этого столетия просуществовали менее десяти лет. Но другие продержались и пятнадцать, и двадцать лет, все это время оставаясь частными… Наконец, некоторые из них получили официальное признание, которое должно было бы, по крайней мере, теоретически, обеспечить их постоянную деятельность: так, Французская академия вышла из частного кружка, сложившегося в 1629 году вокруг Шаплена, Жири, Годо и Конрара»[197]197
Виала А. Академии во французской литературной жизни XVII века (Из книги «Рождение писателя») / пер. с фр. Г. Галкиной // Новое литературное обозрение. 2002. № 54. (с. 72–97). С. 73–74. С самого начала своего существования Французская Академия находилась под опекой государства. Ее первым официальным «главой и покровителем» в 1635–1642 годах был кардинал Ришелье (A.-J. du Plessis, duc de Richelieu, 1585–1642); после его смерти протекторат (кресло № 1) перешел к канцлеру Пьеру Сегье (P. Séguier, 1588–1672). В марте 1672 года Людовик XIV оказал покровительство Академии привилегией короля.
[Закрыть], Парижская академия наук выросла из кружка (академии) Анри Луи Абера де Монмора (H. L. Habert de Montmor, ок. 1600–1679) и других любительских объединений, которые включали в себя представителей более высоких слоев общества, чем группы, давшие начало Royal Society[198]198
Bigourdan G. Les Premières Sociétés Savantes de Paris au XVIIe Siècle et les Origines de l’Académie des Sciences. Paris: [Gauthier-Villars, 1951].
[Закрыть].
Некоторые из этих неформальных групп были тесно связаны с английскими и итальянскими. В 1630-х годах центральной фигурой, объединявшей французских ученых, стал монах-миним Марен Мерсенн (M. Mersenne, 1588–1648), образованнейший человек своего времени и разносторонний ученый, который переписывался со многими известными интеллектуалами Европы и собирал у себя дома ведущих французских специалистов («четверги Мерсенна»), таких как Жиля Персонне де Роберваля (G. P. de Roberval, 1602–1675), Жирара Дезарга (G. Desargues, 1591–1661), Пьера Гассенди (P. Gassend [Gassendi], 1592–1655), Клода Арди (C. Hardi, 1604–1678), Клода Мидоржа (C. Mydorge, 1585–1647) и др., чтобы обсудить новости научной и культурной жизни Европы, а также научные проблемы (через переписку с Мерсенном в этих обсуждениях принимали участие Рене Декарт (R. Descartes, 1596–1650) и Пьер Ферма (P. de Fermat, 1601–1665)).
О когнитивной эффективности подобных неформальных сообществ (именно как сообществ), не имевших каких-либо исследовательских программ, не издававших никакой печатной продукции, и даже, как правило, не регистрировавших число участников собраний, говорить не приходится: каждый член такой группы представлял полученные результаты только от своего имени. Однако подобные «ассамблеи» играли иную роль: они поддерживали внутриэлитные коммуникации, удовлетворяя потребность в обмене информацией, когда научной периодической печати еще не существовало (первый научный журнал – «Журнал ученых (Journal des sçavans)» – будет выходить в Париже с 1665 года). Рассматривая ранние кружки (не только научные) в этом аспекте, т. е. как интеграторы интеллектуальной элиты, формировавшие национальную академическую сеть (поначалу весьма рыхлую и неформальную, но с четко обозначенным центром в Париже), способствовавшие циркуляции людей, идей и образцов для подражания и инициировавшие тем самым процесс культурной унификации в масштабах королевства, можно отметить некоторые факторы, определявшие эффективность такой деятельности. Подобного рода эффективность зависела, в частности, от:
1) степени замкнутости группы: членов более замкнутых собраний отличало, как правило, единство (или, по крайней мере, близость) религиозных, философских и «профессиональных» (научных, литературных, художественных и пр.) взглядов и позиций, однако такие «академии» были, большей частью малочисленны (ибо то, что историки называют интеллектуальной / научной революцией, представляло собой идейную войну omnium contra omnes, и на заметное число единомышленников в этой ситуации рассчитывать не приходилось); такие объединения сильно зависели от своего «ядра, состоящего из очень небольшого числа фигур-лидеров; соответственно, распад этого ядра приводил к распаду всей группы. Привлечение же новых людей, взамен покинувших собрание, было чревато идейным расколом[199]199
Так, например, разногласия между Робервалем и Монмором (первый упрекал второго в излишней склонности к отвлеченным дискуссиям) на несколько лет парализовали деятельность «академии», которая в 1664 году вообще прекратила свое существование.
[Закрыть] (особенно, если конфликт разгорался на религиозной почве), который в итоге также вел к распаду содружества.
Если же группа была готова расширяться, привлекая новых людей, то в этом случае многое зависело от степени гетерогенности интересов и специализации ее членов. Сообщества индивидов различной специализации, как правило, оказывались недолговечными (при отсутствии внешнего, цементирующего данную группу фактора), выживали в основном те, которые шли по пути расширения или специализации (пусть даже эта специализация поначалу носила «крупномасштабный» характер – литература, теология, математика и естественнонаучные предметы, изобразительные искусства, музыка и др.). В 1630– х годах наметилась устойчивая тенденция к разграничению различных интеллектуальных сфер, и собрания «эрудитов» начали мало-помалу уступать место содружеству «специалистов». Скажем, в 1630-х годах математики, физики и астрономы стали создавать автономные организации. Характерный пример – кружок М. Мерсенна, который в 1635–1636 годах регулярно собирал ученых в келье своего монастыря[200]200
После смерти Мерсенна (1648) члены его кружка, в числе прочих П. Гассенди, Исмаэль Буйо (I. Boulliau, 1605–1694), Ж. П. де Роберваль, Ж. Дезарг, Пьер де Каркави (P. Carcavi,?–1684), Клод Милон (C. Mylon, 1615–1660), продолжили свои собрания в доме французского поэта и математика-самоучки аббата Жака Ле Пайёра (J. Le Pailleur,?–1654) (их группу часто называли «L’Académie Le Pailleur» или «L’Académie Parisienne»). После смерти Ле Пайёра, в 1654–1660 годах ученые (уже в несколько ином составе) продолжали встречаться у математика К. Милона. Кроме того, в начале 50-х годов XVII века, после распада Пюитанской академии, научная жизнь столицы начала концентрироваться также вокруг группы ученых, собиравшихся в доме высокопоставленного судебного чиновника Абера де Монмора. В эту группу входили многие члены других перечисленных выше кружков: Гассенди, Самюэль Сорбьер (S. Sorbière, 1615–1670), Роберваль, Мариотт и др. См. подробнее: Mesnard J. Pascal à l’Académie Le Pailleur // Revue d’Histoire des Sciences et de Leurs Applications. 1963. Vol. 16, № 1. P. 1–10; Mesnard J. Sur le chemin de l’Académie des sciences: le cercle du mathématicien Claude Mylon (1654–1660) // Revue d’histoire des sciences. 1991. Vol. 44, № 2. P. 241–251. «Это было началом специализации научного академизма: упомянутые группы, в отличие от ученых вольнодумцев, интересовались скорее точными науками, чем филологией» (Виала А. Академии во французской литературной жизни XVII века. С. 79). О Пюитанской академии «эрудитов», представлявшей собой образец «ученого вольнодумства», см.: Виала А. Академии во французской литературной жизни XVII века. С. 78–79. В 1642 году появился кружок, созданный Пьером Мишоном, аббатом Бурдело (P. Michon, l’abbé Bourdelot, 1610–1685), врачом принца Конде. Среди провинциальных собраний можно назвать «академию» в Кане (Нормандия), которая получала субсидии от Кольбера.
[Закрыть], и эти собрания отличались от ассамблей «эрудитов» своей направленностью «toute mathé-matique»[201]201
Correspondance du P. Marin Mersenne, religieux minime, etc. / рubl. par Paul Tannery; éd., annot. par C. de Waard, avec la collaboration de R. Pin-tard. (Continuée avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique): en 17 t. Paris: G. Beauchesne, 1932–1988. T. 5 (1635) / publ. et annot. et C. de Waard. Paris: Éditions du C.N.R.S., 1959. P. 209 (lettre à Peiresc du 23 mai 1635).
[Закрыть]. Если подобным группам удавалось выжить в течение некоторого времени, их деятельность оказывалась часто весьма эффективной;
2) наличия влиятельных патронов при дворе (таковыми во Франции XVII века были прежде всего Ришелье и, позднее, Жан-Батист Кольбер (J.-B. Colbert; 1619–1683));
3) наличия и активности «групп сопротивления»; к примеру, в Париже преодолеть сопротивление таких традиционных групп с устоявшимися интересами, как медицинский факультет Сорбонны или коллегия иезуитов, было намного труднее, нежели в Лондоне, а потому новым научным институтам нужна была сильная поддержка со стороны королевской власти;
4) личных качеств членов группы (их таланта, целеустремленности и т. п.).
Через всю историю организации французской науки прослеживается тенденция к государственному контролю научных исследований и высшего образования. К концу XVI столетия королевская власть в своем длительном противостоянии Св. Престолу потеснила церковь в университетах, но не устранила ее влияние окончательно. Эдикт Генриха IV (1600) закрепил приоритет гражданских властей перед церковными во всем, что касалось организации работы университетов. Не прошел мимо внимания властей и бурный рост в начале XVII века неформальных сообществ интеллектуалов во всей стране, усиление их авторитета, а впоследствии (1650–1660-е годы) их интенсивная специализация, ясно обозначившая если не упадок, то заметное ослабление традиции энциклопедического гуманизма. «Триста человек, входивших в двадцатку различных сообществ, уже составляли маленький, но вполне оформившийся “интеллектуальный мир”»[202]202
Виала А. Академии во французской литературной жизни XVII века. С. 76.
[Закрыть]. И монархия, как централизующая сила, не преминула использовать этот мир (в том числе и его научный потенциал) для своих целей, в частности, для усиления политической унификации, экономической и военной мощи. Для этого необходимо было на основе имеющихся неформальных групп создать государственные (королевские) академии. Впрочем, многие участники неформальных собраний интеллектуалов ясно понимали преимущества королевского патроната, ибо он давал материальную поддержку и стабильность. Как заметил Р. Хан: «Being attached to mortal persons rather than the eternal Crown, the private societies suffered along with their patrons’ fortunes. It was the price that had to be paid for the spontaneous and unsystematic character of these seventeenth-century circles»[203]203
Hahn R. The Anatomy of a Scientific Institution. The Paris Academy of Sciences, 1666–1803. Berkeley: University of California press, 1971. P. 6–7.
[Закрыть].
В 1634 году по инициативе кардинала Ришелье на основе небольшого кружка литераторов, собиравшихся с 1629 года в доме писателя-любителя Валантэна Конрара (V. Conrart, 1603–1675), была создана Французская Академия – официальный орган, ведающий вопросами языка и литературы. 2 января 1635 года Людовик XIII пожаловал патент на создание этой Академии. В том же году был разработан и одобрен Ришелье ее Устав[204]204
Согласно Уставу, количество академиков должно было быть постоянным; только в случае кончины одного из них на его место избирался новый член. Устав предусматривал исключение за предосудительные поступки, несовместимые с высоким званием академика. Во главе Академии стояли директор, председательствующий на собраниях, и канцлер, ведающий архивами и печатью; и тот и другой избирались по жребию на двухмесячный срок. Секретарь Академии, в обязанности которого входили подготовительная работа и ведение протоколов, назначался по жребию пожизненно и получал фиксированное жалованье.
[Закрыть].
24 статья Устава 1635 года формулировала главную задачу Академии – регулирование французского языка, общего и понятного для всех, который в равной мере использовался бы в литературной практике и в разговорной речи; с этой целью предполагалось создание «Словаря», а также «Риторики», «Поэтики» и «Грамматики». Реализация этой задачи отвечала главной потребности государства в ту эпоху: нация должна была осознать себя как единое целое в рамках единого государства, и язык должен был стать цементирующим основанием этого единства. Членами Французской Академии в XVIII столетии были не только крупнейшие писатели Франции, но и представители других профессий: естествоиспытатель Жорж-Луи Леклерк де Бюффон (G.-L. Leclerc, Comte de Buffon, 1707–1788), математик и философ Жан Лерон Д’Аламбер (J. Le Rond D’Alembert, 1717–1783), философ Этьен Бонно де Кондильяк (É. Bonnot de Condillac, 1727–1794), математик и философ Мари Жан Антуан Николя де Карита, маркиз де Кондорсе (M. J. A. N. de Caritat, marquis de Condorcet, 1743–1794), астроном Жан Сильвен Байи (J. S. Bailly, 1736–1793).
Что касается научной академии, то здесь ситуация была сложнее, поскольку в аристократических кругах существовало сильное предубеждение против точных наук и практических занятий (просвещенных аристократов, понимавших важность как первых, так и вторых было немного). Кроме того, если в Англии XVII – начала XVIII в. многие крупные математики и физики были профессорами университетов, то во Франции такого не было (позднее, в XVIII–XIX веках, центрами развития математики и естественных наук во Франции, помимо Академии, стали военные и инженерные школы). Но государственные потребности в итоге взяли верх над сомнениями, мнениями и предубеждениями французской аристократии.
Миссию покровителя будущей научной академии возложил на себя Жан-Батист Кольбер, занимавший пост генерального контролера (министра) финансов (1661)[205]205
До назначения на эту должность Кольбер с 1651 года был управляющим хозяйством первого министра кардинала Джулио (Жюль) Мазарини (J. Mazarin, 1602−1661).
[Закрыть] и многие другие государственные посты. Поначалу Кольбер предполагал создать единое научное учреждение, в которое вошли бы Французская академия, Академия наук и Академия литературы. Но члены Французской академии и профессора Сорбонны были категорически против. Тогда пришлось пойти на создание двух независимых учреждений – Академии наук и Академии надписей[206]206
В 1663 году Кольбер создал при Французской Академии так называемую «Малую Академию» из четырех членов «большой» академии, назначенных министром. Им было поручено составление надписей и девизов для памятников, возведенных Людовику XIV, и медалей, чеканившихся в его честь. Исчерпав эту область, академики занялись другой: разработкой легендарных сюжетов для королевских гобеленов.
[Закрыть].
И Кольбер, и Людовик XIV, создавая Академию наук, принимали во внимание, кроме всего прочего, три обстоятельства: 1) это учреждение должно было сыграть важную роль в технологическом развитии страны; 2) оно должно было способствовать росту престижа королевства и короля (ибо централизация всякой культурной деятельности вокруг персоны монарха имеет, говоря современным языком, имиджевый эффект); и 3) его организация имела также определенное политическое значение – чем больше креативные слои общества вовлечены в творческую работу за государственные деньги, тем лояльнее они будут по отношению к власти (король помнил уроки Фронды, тем более что он получил их в детстве). Поэтому в плане организации Академии Х. Гюйгенса было ясно сказано: «на собраниях [Академии] никогда не должны иметь место дискуссии ни о религиозных таинствах, ни о государственных делах. И если иногда и говорится о метафизике, морали, истории или грамматике, пусть даже мимоходом, то лишь в той мере, в какой это относится к физике и к отношениям между людьми»[207]207
«On ne parlera jamais dans les Assemblées des misteres de la Religion ny des affaires de l’Estat: Et si l’on parle quelque fois de Metaphisique, de Morale, d’Histoire ou de Grammaire etc. ce ne sera qu’en passant, et autant que cela aura du rapport à la Physique, ou au commerce des hommes» (Huygens Chr. Project de la Compagnie des Sciences et des Arts (1663?) // Huygens Chr. Oeuvres Сomplètes: еn 22 t. / рubl. par la Société hollandaise des sciences. La Haye: M. Nijhoff, 1888–1950. T. 1–10: Correspondance. T. 4 (1662–1663) [1891] (p. 325–329). P. 328).
[Закрыть]. Разумеется, сказались и личные амбиции Кольбера, который хотел войти в историю как Mecenas des gens de lettres (и надо сказать, что он, как и Людовик XIV, умел подбирать талантливых gens).
Ядром будущей Академии наук стала небольшая группа математиков и астрономов, которые летом 1666 года дважды собирались в доме Кольбера для астрономических наблюдений. Первое заседание еще не утвержденной формально Академии состоялось 22 декабря 1666 года. Спустя три года Людовик XIV стал ее патроном, а в 1699 году пожаловал ей первый Устав (Règlement)[208]208
Устав был подписан королем 26 января 1699 года. Первое собрание Парижской академии, после принятия Устава, состоялось 29 апреля 1699 года. Однако формально процесс создания Академии, как королевского учреждения, закончился только в 1713 году соответствующим указом Парижского Парламента (Aucoc L. L’Institut de France. Lois, Statuts et Règlements Concernant les Anciennes Académies et l’Institut, de 1635 á 1889. Tableau des fondations. Collection publiée sous la direction de la commission administrative centrale par m. Léon Aucoc. Paris: Imprimerie nationale, 1889. P. LX–LXI). Жизнь Академии по этому Уставу описана, в частности, в работах: Копелевич Ю. Х. Возникновение научных академий: середина XVII – середина XVIII в. Л.: Наука, Ленинград. отд., 1974; Дмитриев И. С. «Союз ума и фурий»: французское научное сообщество в эпоху революционного кризиса конца XVIII столетия и Первой Империи. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011; Hahn R. The Anatomy of a Scientific Institution. The Paris Academy of Sciences, 1666–1803. Berkeley: University of California press, 1971.
[Закрыть]. Интересно, что этот Устав готовился в большой тайне, без участия ученых. Его составлял советник Парижского парламента Жером Фелиппо, граф де Поншартрен (J. Phélypeaux comte de Pontchartrain, 1674–1747), сын госсекретаря (ministre d’Etat), генерального контролера финансов, госсекретаря по морским делам и проч. и проч. Луи Филиппо, графа де Поншартрена (L. Phélypeaux comte de Pontchartrain, 1643–1727), и его родственник аббат Жан-Поль Биньон (Abbé J.-P. Bignon, Cong. Orat., 1662–1743). А кому ж еще поручить столь тонкое дело! Оба никакого отношения к математике и к естествознанию не имели (не считая того, что аббат был патроном Жозефа Питтона де Турнефора (J. P. de Tournefort, 1656–1708), выдающегося французского ботаника, который в благодарность за покровительство назвал открытый им редкий вид жасмина Bignonia). Когда, после оглашения Устава, на очередное заседание Академии явились ее новые члены, возникла сутолока из-за мест. Но распорядительный Биньон тут же все уладил, рассадив светил науки наилучшим образом, математика с анатомом и т. д., чтобы меньше болтали друг с другом на заседаниях. Как видим, эффективная институализация науки невозможна без руководящей роли бюрократического гения. Плод усилий последнего (Устав 1699 года) был встречен академиками в целом неплохо. Горячие споры возникли по поводу возможности решать научные споры мнением большинства (Устав требовал коллективной верификации экспериментов, поставленных каждым членом Академии отдельно). Сомнения академиков, как справедливо отметил Р. Хан, говорят о зрелости французского научного сообщества, его умении (или, по крайней мере, стремлении) отличать факты от гипотез и интерпретаций[209]209
Hahn R. The Anatomy of a Scientific Institution. P. 33.
[Закрыть].
Первый непременный секретарь Академии (с 1666 по январь 1697 года) Жан-Батист Дюамель (Jean-Baptiste Du Hamel, или Duhamel, 1624–1706) в своей «Истории Королевской академии наук» заметил по этому поводу, что «основы натуральной философии – наблюдение и эксперимент. …Однако разум без опыта остается в одиночестве, словно скитающийся по волнам корабль без кормчего; в свою очередь опыт, которому разум, идя впереди, не освещает дорогу, оказывается слепым и беспомощным, и никому, пожалуй, не принесет пользы. …Исходя из этой мысли и подобных советов Людовик Великий повелел устроить Академию, состоящую из мужей доброго имени и уже известных, и притом не только из эрудитов (iisque non eruditis modo), но, что важнее, из мужей опытных (expertis), кои многое слышали и видели, и никто бы из оных не присягал на верность какой-либо секте; мужей, кои, хотя и посвящали себя всем видам дисциплин, однако же в своих занятиях отдавали предпочтение одной из них и усердно ею занимались (sed unam tamen ex iis prae ceteris colerent)»[210]210
Du Hamel J. B. Regiæ scientiarum Academiæ historia: in qua præter ipsius Academiæ originem et progressus variasque dissertationes et observationes per triginta annos factas, quam plurima experimenta et inventa; cum physica, tum mathematica in certum ordinem digeruntur. Lipsiæ: Apud Thomam Fritsch, 1700. P. 4.
[Закрыть].
Это означало, что, поскольку Академия должна служить повышению престижа государства и короля, а также работать на пользу королевства, ей нужны не просто эрудиты, знающие обо всем понемногу, но профессионалы, причем уже получившие определенную известность своими трудами и готовые заниматься научными исследованиями за деньги и в режиме full time. Как позднее о времени создания Академии выскажется Бернар де Фонтенель (B. le Bovier de Fontenelle, 1657–1757), «le règne des mots et des termes est passé; on veut choses (царство слов и терминов прошло, наступило царство вещей)»[211]211
Fontenelle B. Préface de l’Histoire de l’Académie des Sciences depuis 1666 jusqu’en 1699 // Fontenelle B. Le Bovier. Oeuvres de Fontenelle: précédées d’une notice historique sur sa vie et ses ouvrages: еn 5 t. Paris: Salmon, libraire-éditeur; Peytieux, libraire, 1825. T. 1: Éloges (p. 1–18). P. 1.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































