Текст книги "На краю государевой земли"
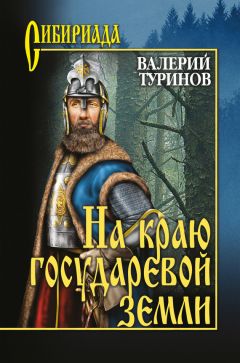
Автор книги: Валерий Туринов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Васятка узнал этот улус. Они проходили здесь зимой, с Бурнашкой, когда поднимались вверх по этой реке, Мрассу. С реки зимой землянки, покрытые саженным слоем снега, были не видны. И они прошли бы мимо улуса, если бы не их проводник… Сейчас здесь было тихо, уныло, над землянками не вился дымок. Давно уже все семьи покинули улус, разбрелись по тайге, промышляли кто как может.
– Кызылъяр![56]56
Кызылъяр – красный яр (тюрк.).
[Закрыть] – кивнул Содойбаш головой на это поселение.
Затем он сунул Васятке в руки огромный лук, что стоял тут же подле землянки, и быстро пошел по тропинке, уходившей в тайгу. Он не пригласил его за собой, как будто само собой разумелось, что тот пойдет следом. И что так надо делать человеку, несколько месяцев пролежавшему неподвижно. Вот так сразу бери лук и гони на охоту, в горы…
Уренчи легонько подтолкнула Васятку в спину, мол, давай, смелей. И он двинулся вслед за Содойбашем. Ускорив шаг, он нагнал его и пошел за ним, за маячившей у того за спиной котомкой, из которой торчало с десяток оперенных стрел.
Содойбаш шел быстро, вверх по логу между хребтами. А Васятка положился на своего вожатого и не стал спрашивать: куда и зачем они спешат. Он решил, что тот скажет, если придет время.
В разгаре уже была весна. Все распускалось. Тайга зеленела, глотнув живительной влаги от стаявшего снега, заполнилась, от крон деревьев и до кустов и ложбинок, неугомонными пернатыми ее обитателями.
А они бежали и бежали по тропинке, петляющей вдоль маленькой каменистой речушки, голосистое журчание которой разносилось далеко окрест.
Васятка вскоре вспотел и почувствовал, как все тело наливается силой. У него снова появилось желание жить. Оно росло с каждым вдохом, с каждым шагом вверх, все выше и выше, по мере того как они поднимались по логу, казалось, бежали на зов вершин, которые, мрея вдали, влекли их к себе.
Но вот Содойбаш замедлил бег, стянул со спины лук, и уже на тетиве лежит стрела, грозит кому-то тупым деревянным наконечником…
С пихты сорвались и полетели рябчики: «Фырр-р!.. Фыр-р!» – дергая, прерывисто, тугими крылышками.
И тут же две стрелы, одна за другой, ушли вдогон за птицами… Один комочек взъерошился на лету, захлопал вхолостую крылышками… Затем он полетел кувырком вниз, цепляясь за кусты, теряя перья… Другая же стрела ушла с тихим посвистом мимо цели.
Содойбаш покачал головой, молча осуждая себя за промах. Он подобрал добычу, и они побежали дальше, все так же вверх и вверх по логу.
Видимо, щадя его, Содойбаш наконец-то убавил бег. И Васятка сообразил, что этот выход в тайгу, с такой дикой пробежкой, был сделан ради него. Чтобы он вновь почувствовал вкус усилий, жизни, простора, вдохнул запахи тайги. И, скорее всего, по велению той же Уренчи. По тому как, заметил Васятка, Содойбаш послушно выполнял все, что говорила ему та.
* * *
Вот на эту-то пору, на исходе весны, Уренчи с братом исчерпали свои скудные зимние запасы. Остатки ячменя они скормили Васятке, когда тот лежал неподвижно. И подошло время потуже затянуть пояса, искать новые источники пропитания. Они навьючили на себя котомки, набитые немудреным житейским скарбом, и покинули тесную и темную землянку. Досталась поклажа и здоровенному, огненного цвета псу, Апшаку, другу и помощнику Содойбаша на охоте. Перебрались они недалеко, за десяток верст вверх по реке: на рыбные и богатые кандыком и колбой места.
– Тут будем жить, – коротко сказала Уренчи, показав на невысокую береговую терраску.
Там, на терраске, виднелся каркас от старого шалаша, покрытого пластами пихтовой коры. По долине тянул ветерок, и пласты коры громко хлопали с противным хищным скрипом.
И этот скрип наполнил тоской сердце Васятки. Он вспомнил острог и сотника, к которому привязался как к родному, Зойку, хороводы, девок и казаков. Все это осталось где-то далеко, казалось, в иной жизни.
– Однако, есть надо, – прервал его невеселые мысли Содойбаш, заметив, что он стоит, опустил руки.
Они обновили шалаш, поселились в нем. И потянулись дни с раннего утра и до самой темноты забитые промыслом на реке и в тайге…
Поздние летние сумерки поглотили уединенное глухое место на берегу таежной реки. На много вёрст кругом – ни души. Только ветер, какой-то прерывистый гул в горах, да слышнее становится к ночи говорливая река.
Васятка вернулся из бесплодных скитаний по тайге расстроенным, забрался в шалаш, повесил на стенку лук и сел у огня. Ему не удалось никого подстрелить. Попрятались даже бурундуки. Они справили свои весенние свадебные гонки и уже не приходят на свист.
За ним в шалаш залез Содойбаш. Он тоже сел тут же, подле огня, и сразу задремал, сломленный усталостью.
В этот день они закончили плести верши. Две они успели поставить ниже по реке, укрепили их прочно кольями, чтобы не снесло быстрое течение перекатистой реки. И уже завтра они надеялись на улов, ожидая с нетерпением следующий день.
Васятка уставился бездумно на огонь и, казалось, тоже задремал с открытыми глазами, как и Содойбаш.
Но Уренчи не обмануть. Она видит, что его мысли сейчас не здесь. Они там, в остроге, у Зойки, атамановой дочки. Завела та его, вскружила голову сильнее хмельного напитка. Даже абыртка[57]57
Абыртка – хмельной напиток, брага.
[Закрыть] не в силах справиться с этим…
Она завозилась, громче зашумела, перекладывая, без надобности, туески и посуду. Как бы нечаянно она уронила котелок, в который сунула деревянную ложку, чтобы та сильнее взбрякала.
Васятка вздрогнул, обернулся к ней, увидел, что она угадала, о чем он думает.
– Уренчи, помоги, подскажи, вылечи! Свари зелья, отворотного! – взмолился он. – Видел же, своими глазами видел, как горазда ты до этого!.. Там, в землянке, у того клыкастого зверя! Злого-презлого! Как и мое горе!
– Нет от того зелья… Нет!
Она сочувственно покачала головой, погладила его по руке.
– Вот пройдет двенадцать лун, и высохнет твое горе. Станет совсем маленьким, как бурундук. А сейчас оно большое-большое, как сохатый. Задавило тебя…
Их громкие голоса разбудили Содойбаша. Он проснулся, забеспокоился, поднялся, выскочил из шалаша и сразу же вернулся назад с озабоченным выражением на лице.
– Однако, дождь будет… Сильный! Эрлик сердится! Шибко сердится. Там сердится, – показал он рукой куда-то в сторону верховьев реки.
Уренчи понимающе глянула на него, тоже озабоченно проговорила, как будто уже знала об этом:
– Худо, очень худо! Рыбак не будет богат!
Они вышли из шалаша. Действительно, по тому, как наглухо затянуло тучами сумеречное небо, было ясно: сверху реки надвигается гроза, идет с ливневым дождем. А значит, взбухнет река и принесет с собой беду: потащит хлам, забьет верши. И если они уцелеют, их не сорвет, не помнет течением и лесинами, то все равно рыба уйдет от берега на глубину. И они будут голодать: в шалаше было пусто – ни крошки… Иные семьи в это время года, гонимые голодом, уйдут с берегов таких горных рек. Они уйдут к киргизам или телеутам, скотоводам, где худо-бедно все-таки есть пища… А Содойбашу и Васятке снова придется плести верши. Дело долгое, хлопотное, и когда еще будет улов. Уренчи же пойдет в лес копать кандык и собирать колбу. На той, однако, долго не протянешь. Не поймать в это время и птицы. Она уже загнездилась, попряталась, осторожничает. Нет и никакой надежды, что удастся добыть марала или сохатого…
Они вернулись назад в шалаш.
– Уренчи, это ведь ты подняла меня там? – спросил Васятка Уренчи. – У той старухи?.. И у старика была, в землянке?
Спросил он, наконец-то, ее о том, о чем хотел спросить давно уже, но как-то все тянул. Он полагал, что она расскажет сама все, если ему надо что-то знать. В ее силах было развеять все эти загадки, что грянули над ним. И он бы выбросил их из головы. Как хотел он знать и то, почему она так похожа на Зойку… И почему она, обо всем зная, ничего не рассказывает…
– Нет! – отрицательно замотала головой Уренчи. – Это ты, ты сам, – покрутила она рукой около его головы.
– Кам, кам! – показал Содойбаш на Уренчи, говоря этим, что она, мол, камлает. – Аба, ее аба, шибко сильный был кам!.. Содойбаш пришел, он говорит – стань ее брат! Уренчи говорит – стань муж!
– И муж, и брат!? – удивился Васятка.
Содойбаш закивал головой, дескать, что тут непонятного.
– Аба говорит – камлать надо!.. Содойбаш говорит – нет! Уренчи говорит – да!
– Почему? – спросил Васятка. – Не хочешь – не делай!
– Э-э! – хитро протянул Содойбаш. – Твоя – да, моя – нет!.. Эрлик возьмет!.. Меня возьмет, ее возьмет, – показал он на Уренчи. – Много-много других возьмет. Пока она, – кивнул он на Уренчи, – не даст Эрлику подарок! Эрлик подарки любит… Он тебя хотел, шибко хотел! – сказал он Васятке. – Уренчи говорит – нет! Эрлик говорит – дай! Туда дай, – показал он на землю. – Там темно-о!.. Уренчи говорит – туда! – показал он куда-то наверх.
И Васятка сообразил, что он имеет ввиду умерших, которых хоронят на деревьях.
– Уренчи говорит: Ульгень тебя хочет! – вскинул Содойбаш снова вверх руки. – Ульгень хочет – Уренчи отдаст. Эрлику – нет! – твердо произнес Содойбаш. – Уренчи сказала – так будет!.. Шибко-шибко сильный кам!
Он показал снова на Уренчи, затем рассказал, что это у нее от Ульгеня, а тот сильнее Эрлика…
«Почему она так похожа на Зойку? – опять появилась у Васятки все та же мысль; она оставила было его на какое-то время, вытесненная усталостью от тяжкого ежедневного труда. – Почему?»…
Прошла ночь. Утром Васятка проснулся в шалаше. Он лежал на шкурах, хотя точно помнил, что засыпал на подстилке из трав, и не на этом месте. В шалаше никого не было. Он хотел было подняться, но тут в шалаш вошла Уренчи. Она была обнаженная, полностью. Сделав ему знак рукой, чтобы он лежал, она прилегла рядом с ним и положила одну его руку себе на грудь, а другую на бедро; бедра у нее были узкие, тугие и жаркие…
– Не думай о ней, – тихий, убаюкивающий голос, который звал его когда-то в той самой землянке у старика, певучий, прошел, похоже, сквозь его тело, насыщая его силой, странно как-то, не по-людски… «Стань муж, стань брат!..»
«Зачем она так… – подумал он, вновь отдаваясь той полудреме, что настойчиво и противно окутывала его, отнимала волю, и он уже не сопротивлялся ничему. – Она же знает, что я люблю Зойку!.. Только Зойку, только ее, и одну», – пробормотал он, гладя податливое и жаркое женское тело, впервые вот так просто отданное ему… «Да это же Зойка! Она!» – чуть не задохнулся он от вскрика. Ему показалось, что он вскрикнул. Но он всего лишь слабо шевельнул губами, счастливый, что она тут, рядом с ним. Каким-то чудесным образом она перенеслась из далекого острожка в этот пихтовый шалаш на пустынном берегу таежной реки, что ворчливо бурлила на перекате вот тут совсем близко.
Сладость таинственного женского тела заглушила последние проблески его жалкого сознания, и он погрузился в темную невесомую пустоту и поплыл, поплыл… И плыл, плыл, затем в какой-то момент он ухнул куда-то, почувствовав, что с Уренчи произошло что-то странное, и все исчезло: нет больше ни Зойки, ни Уренчи, ни острога и ни шалаша…
Очнулся он не скоро. Открыв глаза, он увидел лежавшую рядом на шкурах Уренчи. Она была все так же обнаженной, как и тогда, в той землянке. Но сейчас она была необычайно изнеможенной, и вся какая-то насыщенная и бесстыдно красивая.
Он встал отдохнувший, полный силы и в то же время чувствовал опустошенность. Уренчи тоже поднялась и мягко потянулась как-то так, что не понравилось ему, но грациозно, изгибчиво, змеей. Он вышел из шалаша. Она тоже вышла вслед за ним и стала хлопотать у очага, и так, чтобы он все время видел ее.
И Васятка глядел на нее, и ее нагота не беспокоила его.
Она приготовила ему и себе отварной ячмень, из тех крох, что еще остались у них, дала ему еще и вяленого леща. Сама она села подле него, прямо на землю, и стала жадно поглощать свою порцию.
Пришел Содойбаш. Васятка, голый, застыл скованным. Бросив смущенный взгляд на него, он не заметил ничего на его лице и успокоился.
Уренчи поставила перед Содойбашем берестяную чашку с ячменем и ушла на берег реки. Осторожно и брезгливо, как кошка, попробовав воду, она вошла в реку и стала мыться: неумело брызгая воду на живот и ноги.
Васятка поднялся с земли и прошел на берег. Войдя в воду, он помыл Уренчи с головы до ног, тщательно и охотно, лаская ладонями ее упругое тело. Вода была с утра еще холодной, и он смахнул с нее серебристые капли, чтобы она не замерзла. Но на ее смугловатом теле даже не выскочил ни один пупырышек. Сам же он, пока мыл ее, изрядно продрог.
Они вернулись к шалашу. Содойбаш умял все, что ему дала Уренчи, лениво развалился тут же у костра и уставился на огонь мутными от сытости глазами.
Этот день прошел у них в обычных заботах. Вечером из-за горы, на другом берегу реки, выползла луна. Созерцая сверху свои ночные владения и неширокую горную речную долину, она расплылась добродушной улыбкой. В долине не было ни ветерка, и на реке было тепло. Где-то в кустах, неподалеку, тявкнул соболь, выйдя на ночную охоту. Гукнула и сразу же замолчала сова. Вот луна поднялась выше, еще выше. И тотчас же над шалашом засновали летучие мыши. Затем стремительно, призраком, бесшумно пронеслась какая-то большая птица, должно быть, спутала ночное светило с дневным… За рекой протрубил марал, отрывисто и так надрывно, как будто навсегда потерял свою подругу и горько сожалеет о том…
У костра же было тихо: спокойно спали Содойбаш и Апшак. И Васятка, тоже разомлев от тепла и усталости, положил голову на бедро Уренчи и быстро заснул прямо на земле. Впервые за многие месяцы он не думал о Зойке.
* * *
Прошло лето, за ним прошла и осень. Тайгу поразила скудная голодная зима. Повывелись зайцы, ушли куда-то олени и маралы, исчезла птица, попрятались даже мелкие грызуны.
Росомаха подошла к зимовью совсем близко. Сюда ее выгнал из лесу голод. От сытных запахов, смешанных с резкой вонью человека, волнами накатывающих от землянки, у нее что-то заурчало в животе. Острая сосущая боль выгнула ей спину, и она прилегла на снег, чтобы унять ее.
Но тут ветерок принес едва уловимый запах собаки. И когда он начал усиливаться, она поняла, что ее обнаружили, вскочила и бросилась прочь от зимовья.
Апшак же почуял ее еще издали, когда она была за кустарником, что вплотную подступал к зимовью. Он заволновался, заскреб лапой дверь землянки, тихо взлаял, подавая знак Содойбашу.
Содойбаш и Васятка выскочили на его лай из землянки. Апшак вильнул хвостом, метнулся в ту сторону, куда ушла росомаха, замер, оглянулся, как бы приглашая за собой хозяина. Содойбаш пробежал за ним с десяток шагов и остановился, увидев под ногами четкий след росомахи: та была здесь вот только что, минуту назад.
– Однако, теэкень[58]58
Теэкень – росомаха (шор.).
[Закрыть] тута! – пробормотал он тихо себе под нос.
Он вернулся назад к землянке, встал на лыжи, схватил лук, крикнул Васятке: «Айда!» – и побежал за Апшаком по следу росомахи.
Васятка нагнал их не скоро. Содойбаш шел быстро, очень быстро, выматывал гонкой зверя, самого себя и Апшака.
А росомаха, неуклюже подбрасывая тяжелый зад, затрусила в распадок за хребтом, чтобы там запутать следы и уйти от погони. Она чуяла, что пёс увязался за ней, по тому как он взлаивал все ближе и ближе. По снегу она шла легко на широких лапах, как на лыжах, все время вверх и вверх, взбираясь на склон. Апшаку же пришлось тут не сладко. Рыхлый снег не держал его. Он проваливался по брюхо, рывком бросал вперед свое пружинистое тело и снова зарывался носом в снег, все время чуя впереди запах росомахи. Тяжко было и Содойбашу с Васяткой, бежавшими вслед за ним.
В том распадке, куда уходила росомаха, летом бежал и сварливо вспенивался шумный ручеек. Он питался от источников на вершине хребта. За многие годы этот ручеек, терпеливо перебирая камушек за камушком, подмыл в одном месте берег. Тот рухнул и перекрыл ему путь. И чтобы выжить, ручеек ушел под завал, пробил внизу его проход и через него сбрасывал избыток воды. Первые же морозы сковывали наверху наледями источники и успокаивали его до весны. И зимой в проходе было сухо и тепло.
Наткнувшись как-то раз на эту великолепную естественную нору, росомаха облюбовала ее. И с тех пор она отлеживалась в ней после удачной охоты, когда сытость приятно туманит мозг и закрывает глаза. Там, под землей, можно было всласть отоспаться, ни о чем не беспокоясь.
Вот и сейчас она добежала до знакомого укрытия, ударом лапы сбила огромную шапку снега, карнизом нависающего над ним, и нырнула под землю. С мягким вздохом карниз осел и толстым слоем закрыл вход в ее убежище.
Апшак первым добрался до этого места и тут потерял ее след. Не понимая, куда мог исчезнуть зверь, он засуетился, стал кидаться из стороны в сторону, торопливо рыть снег и принюхиваться: не потянет ли откуда-нибудь знакомым запахом. Оскорбленный, он заскулил, догадавшись, что его провели, залаял в стену снега, стал вызывать обидчицу, чтобы помериться с ней силой.
Вскоре прибежал Содойбаш, за ним и Васятка. Содойбаш сразу смекнул в чем дело и зацокал языком, восхищаясь сообразительностью зверя: «Ай-ай-ай! Какой хитрый, какой хитрый!»
Он стал разгребать снег над входом в убежище росомахи…
Раз-раз… – заработал рядом лапами и Апшак, начал отбрасывать назад комки снега, поскуливать и тыкаться носом в сугроб. Наконец-то он уловил резкий мускусный запах зверя.
Содойбаш отошел к Васятке, предоставив все дело Апшаку.
– Шибко умный теэкень, шибко! – почтительно заговорил он о звере. – Провел Апшак! Ха-ха! – хохотнул он над своим псом, похваливая росомаху.
– Ай-ай, башка, как человек!.. Однако пакостливый, как пашлык[59]59
Пашлык – у шорцев старший по стойбищу, сборщик албана, ясака.
[Закрыть]!
Апшак разрыл вход в нору и исчез в ней. Откуда-то далеко из-под земли послышалось его приглушенное взлаивание…
Содойбаш забеспокоился, когда лай, затихая, совсем пропал.
– Однако, другой должен быть! – захлопотал он, стал осматривать ручеек, отыскивать другой вход в подземное укрытие зверя.
– Ага, тута, тута! – полез он вверх по распадку на высокий, с оползнями завал из камней, занесенных снегом.
Но он опоздал к выходу из норы. Росомаха уже успела уйти оттуда. И Содойбаш только хмыкнул, когда из норы выполз пес и виновато взглянул на него умными, но простоватыми глазами.
И снова пошла гонка. Теперь росомаха бежала не так быстро и уверенно. Она потеряла ориентиры в этой гонке и не знала, где сейчас прятаться от преследователей. Да и уходила-то она в неведомые ей места, где каждая ложбинка и дерево были чужими, пугали новой опасностью.
И уж как тут, на их пути, оказался шатун, сам бог не ведает то… Рявкнул, выкатился он из засады, смял ее, оголодав от стужи: до ужаса, до злобы… Должно быть, он караулил иного зверя, а угодила она…
Содойбаш бежал след в след за Апшаком. Васятка же отстал где-то далеко. Даже не слышно было его пыхтения и поругивания всех таежных курмесов[60]60
Курмесы – злые духи, помощники Эрлика, их владыки.
[Закрыть].
«Пошто он так?.. Эрлик услышит!.. Уренчи не поможет!..»
И подвернулся Содойбаш под злую лапу шатуна. Да не шатун это!.. Содойбаш чует – Эрлик это!.. Не хотел камлать?!. Вот и нашел его Эрлик, нашел!.. Махнул шатун и Апшака, когда сунулся было тот к нему, наперед хозяина… Да так, что отлетел, взвизгнув, пес: упал на снег. Но не зашиб его шатун. Не убивает апшак[61]61
Шатун – медведь, не залегший в спячку. Апшак – медведь (шор.).
[Закрыть] Апшака… Заскулил пес, пополз прочь от Эрлика… А тут вывернулся из тайги и Васятка… Не ожидал такого шатун: росомаху убил, пса покалечил, одного человека придавил, а тут другой появился. Струсил он, когда метнулся на него и пес… Побежал, забыл о росомахе. Здорово побежал, только по кустам мелькнули пятки, а за них хватал и хватал пёс, скуля от страха и боли.
Васятка подбежал к Содойбашу. Тот лежал пластом, а рядом с ним на снегу расползалось большое алое пятно… Он перевернул его: так и есть, помял его апшак, сильно…
Содойбаш застонал, открыл глаза, посмотрел на него.
– Однако, шибко худо, – с трудом выдавил он, не договорил, закрыл глаза, потерял сознание и вяло завалился набок.
Васятка засуетился, завозился вокруг него, стал прилаживать рядом с ним его лыжи. Затем он подхватил его под руки, приподнял и потянул на лыжи… Содойбаш застонал, очнулся.
– Это хорошо, хорошо, – зашептал Васятка. – Раз болит – будешь жить…
– О-охх! – облегченно выдохнул Содойбаш и в изнеможении откинул назад голову, когда по телу волной прокатилась острая боль и приятной истомой отдалась в ногах.
– Однако, ноги – плохо!..
– Что, однако? – участливо спросил его Васятка.
– Давай землянка… Ноги худо, однако… К Уренчи, однако, надо… Шибко, однако, надо, шибко…
– Об этом я уже подумал… А сейчас потерпи, потерпи, – поднялся Васятка с коленей, крепко сжимая в руке сыромятный ремешок, привязанный к лыжам, на которых лежал его связчик.
Он осторожно стронул с места волокушу и пошел под гору.
По дороге к зимовью Содойбаш потерял сознание. И Васятка изрядно намучился, затаскивая в землянку тяжелое безвольное тело. Он уложил его на топчан и сбросил потную шубу. В изнеможении опустился он на сутунок[62]62
Сутунок – чурбан, обрубок, бревешко, отрубок.
[Закрыть] и тоскливым взглядом окинул связчика. Только теперь по-настоящему он почувствовал, как зверски устал.
В землянке было тепло и тихо. В углу, под топчаном, осмелев, зашуршали мыши. Но сверчок, обычно донимавший их по ночам, молчал.
«Не к добру», – мелькнуло у Васятки.
От набиравшего к ночи силу мороза в тайге затрещали могучие кедры.
И Васятке показалось, что это закряхтела, на что-то жалуясь, та самая несчастная старуха Манак…
Видимо, чуя что-то неладное, за дверью землянки заскулил Апшак.
Васятка зажег жирник и осмотрел Содойбаша. Тот лежал вытянувшись во весь рост, запрокинув голову с бледным восковым лицом покойника.
«Дрянь дело», – подумал он, торопливо собрался и вышел из землянки.
– Апшак, за мной! – встав на лыжи, приказал он псу и строго взглянул на него, не веря, что тот послушается его.
Но пес подчинился и пошел за ним. И Васятка оживился, весело крикнул ему: «А ну, брат, не отставай!» – и размеренным шагом двинулся в сторону перевала, за которым была река, стойбище и Уренчи.
На перевал он забирался долго, зигзагами, и на середине склона уперся в крутой курумник. Проклиная свою забывчивость, он обошел его, потерял на это уйму времени и только к полночи был наверху.
Надсадно дыша, он остановился передохнуть.
Сейчас, ночью, на перевале было тревожно и жутко наедине с горами и бездонным небом. Оно темным провалом сомкнулось вокруг большого бледного диска луны, скупо освещавшей на земле две крохотные песчинки, человека и собаку, на закованной стужей каменистой поверхности.
Васятка глянул на Апшака, в его темные раскосые глаза, вздохнул и пожаловался ему, как своему приятелю:
– Тяжело-то как, а!.. Тебе, поди, тоже не легко? Но надо, дружище. Содойбаш пропадет… Надо!
И в эту минуту холодное тягостное безмолвие ночи нарушил далекий волчий вой, а в нем явно слышался злобный вызов всему живому.
Васятка вздрогнул, настороженно прислушался, проворчал: «Вот этого нам только не хватало», – крикнул: «Апшак, пошли!» – и поспешно двинулся с перевала.
Приговаривая про себя: «Я от бабушка ушел, я от дедушки ушел, а от тебя, волк, и подавно уйду», – он заскользил накатом вниз на лыжах.
Вскоре он выскочил на поросший редким ельничком склон, ниже которого вдали уже темнела кромка леса.
С перевала снова донесся волчий вой, но теперь гораздо ближе. И Васятка понял, что серые засекли их, пошли вдогон и теперь быстро достанут.
Нервно заскрипели оттуги на лыжах, и в такт им, набирая темп и стараясь ни о чем не думать, Васятка мерно забубнил про себя: «Вдох-выдох, вдох-выдох!»… Страха перед серыми у него не было. Он знал, что стаи здесь небольшие, из одной семьи, и обычно не нападают на людей… «Да и Апшак двоих серых стоит»…
За его спиной, совсем близко, послышался вой. И он понял, что волки вышли на их след…
Внезапно к нему пришла запоздалая мысль: «На кой лешего они залезли на перевал?»… Но тут же он догадался, что туда их затянули олени, которых они, видимо, преследовали и сами же загнали наверх. А те, должно быть, ушли от них. И он похолодел, когда до него дошло, что за ними идет голодная, обозленная неудачной охотой стая: жестокий и опасный противник… Его мысли лихорадочно заметались, сбиваемые нарастающим воем. И он запаниковал, рванул вперед и не заметил, как накатил на большое серое пятно. Под ним будто кто-то скорбно вздохнул, и снег стал плавно оседать. Пытаясь за что-нибудь ухватиться, он вскинул вверх руки, но в следующее мгновение полетел куда-то вниз и, не успев испугаться, осел в сугроб, зажатый со всех сторон холодными стенками…
Он торопливо ощупал все вокруг, простонал: «Вот осел!»
Он догадался, что попал в обычную расщелину между скалами, каких здесь было немало.
Наверху расщелины что-то зашуршало, и ему на голову упал комок снега.
– Апшак, Апшак, это ты?! – окликнул он пса.
Тот негромко заскулил и сразу же смолк, а до него долетел еле слышимый волчий вой.
– Апшак, уходи, уходи! – закричал он, живо представив, какая сейчас разыграется наверху резня, если пес ввяжется в драку, и зашептал: «Спасайся, дружище, спасайся!»…
В следующее мгновение рядом с расщелиной пронесся пронзительный вой голодных глоток и сразу же оборвался…
«Ушел», – мелькнуло у него, он присел на корточки и прислонился к ледяной стенке расщелины. От нее под шубу, со спины, потянуло холодом, и он снова встал, зябко передернул плечами.
Наверху, приближаясь, опять послышался злобный вой. Но теперь он был с какими-то новыми нотками, словно серые были чем-то оскорблены. И тут же над расщелиной взвизгнул звериный клубок, раздираемый ненавистью. А в его вое Васятка ясно различил хриплое рычание Апшака…
И он завопил во все горло: «Апшак, давай, дава-ай!» – запрокинув голову к черной дыре, с мерцающими в ней звездами. Его голос срезонировал в расщелине и улетел куда-то вверх. А он, охваченный с чего-то неистовым желанием рвать и крушить все вокруг, заметался в тесном пространстве расщелины и бешено замолотил кулаками по ледяным стенкам, как будто собирался разнести их вдребезги.
Над расщелиной тем временем снова пронесся стонущий от жажды крови клубок живых тел, с воем, с надорванностью в нем, с предчувствием скорого и неизбежного конца. И это еще сильнее подстегнуло Васятку. Он истерично завизжал и задергался, как там, в той землянке, у старухи… Казалось, остатки разума покинули его, словно он переселился в Апшака, стал его частичкой, отдал ему свой разум, который пес бросил тут же на борьбу со стаей. И ему открылась удивительная картина. Он увидел все, что творилось наверху… Вместе с псом он, увертываясь от серых тел, кидался из стороны в сторону, молниеносно наносил удары, полосовал клыками тугую от напряжения живую плоть…
– Дай, дай этого мне!.. Сюда-а! – завопил он, инстинктом почувствовав, что за Апшаком, мах в мах, идет большой голенастый волк с широкой сильной грудью и, казалось, вот-вот достанет его.
Он задергался, заплясал на дне расщелины: «Да-ай!.. Я разорву ему па-асть! Это мой, мо-ой!»
И, видимо, Апшак понял его. До него дошел его неистовый призыв. Он подчинился ему, сделал широкий круг и повел стаю прямо на расщелину, чувствуя за собой жаркое дыхание голенастого.
Вытянувшись цепочкой, волки рвали жилы, старались достать Апшака, этого не по-собачьи умного, сильного и неутомимого врага, поразительно ускользающего из ловушек, куда они загоняли его с надеждой замкнуть кольцо и свести с ним счеты.
Все так же, не сбавляя хода, словно он был не живым существом, а одним из курмесов Эрлика, Апшак пронесся над расщелиной. И в последний момент у него мелькнула мысль, что он просчитался и голенастый оказался сообразительнее… Но уже в следующее мгновение за ним, где еще секунду назад неотвязно сидел на кончике его хвоста голенастый, дохнуло пустотой…
На верху расщелины послышался шлепок, словно по ледяной стенке шваркнули большой мокрой тряпкой. И на Васятку, сбив его с ног, рухнул тяжелый костистый волк, контуженный от сильного лобового удара. Васятка упал, тут же вскочил, придавил серого и почувствовал, как забился под ним большой и сильный зверь, приходя в сознание. Он выхватил из-за пояса нож, полоснул голенастого по горлу и еще крепче прижал к земле выгнувшееся предсмертной судорогой тело.
Когда волк затих, Васятка встал и глубоко вдохнул полной грудью морозный воздух. Странно, необыкновенно странно к нему прилила какая-то сила. Как будто, отняв у голенастого жизнь, он всосал его кровь, жгучую, как варево, каким поила его Уренчи, и вылил свою, изношенную, в последнее время квасившую ему жизнь.
И он громко расхохотался: «Ха-ха-ха!» – поняв, что нет ничего такого на свете, что заставило бы его сидеть в этой холодной яме и дожидаться своего конца…
Апшак же, убрав главного врага, перестал хитрить. Он отвел стаю подальше от расщелины и резко сменил тактику. Серией гигантских прыжков из стороны в сторону он увлекал за собой одного из молодых волков, круто поворачивался, рвал зубами ему горло, увертывался от тараном идущей стаи и снова уходил вперед размеренным махом…
Вскоре молодые волки лежали на белом склоне горы, четко темнея пятнами на снегу.
И вот только теперь Апшак остановился, повернулся к волчице и, тяжело дыша от изнурительной борьбы, стал ждать, что она будет делать.
А старая и худая волчица растерянно замерла напротив него, настороженно уставившись на него подслеповатыми глазами.
При виде изможденной голодной волчицы у Апшака проснулся древний инстинкт рода, закон стаи, всегда выбиравший сторону самки, охраняя ее в пору невзгод и бешеных брачных гонок. И подчиняясь ему, он присел на задние лапы, давая этим ей знак, что уклоняется от схватки и волчице следует уйти.
Волчица тоже хорошо знала закон жизни, закон стаи. Знала, что собака, сидевшая сейчас перед ней, с хваткой матерого волка и изощренным, как у человека, умом, не тронет ее. И она не спешила уходить с этого места, где потеряла все. В то же время она не находила внутри себя ненависти к этому псу, только что уничтожившему весь ее выводок. Он выстоял – ему жить. Иначе – жили бы они… И она неторопливо затянула прощальную песню, чтобы оплакать своих волчат. Песню, которую всегда поют матери, смывая горечь с сердца и примиряясь с судьбой. Высоко задрав голову к звездному небу, она запела, безнадежно взывая к какой-то высшей справедливости, запела, закрыв глаза, ничего не видя и не слыша, кроме своего полного скорби сердца. Оплакав волчат, она еще громче взвыла по своему другу, с которым прошла много верст в погоне за жизнью. Не раз она с ним вступала в схватку с сильным врагом и вместе с ним же отправила в большой и жестокий мир не один выводок, своих волчат. Те, повзрослев, уходили, а он всегда был с ней… Издав под конец тоскующий вопль о своей одинокой доле, она резко оборвала песню, опустила голову и посмотрела на громадного и сильного пса. На какое-то мгновение у нее мелькнула надежда, что, может быть, он уйдет с ней, и, может быть, у нее еще будут волчата, такие же сильные и умные, как он, и может быть, судьба, на исходе лет, подарит ей новые радости и сытую старость. Но эта надежда сразу же погасла, как только она встретилась взглядом с глазами собаки, выросшей рядом с человеком, который дал ей то, что не в силах была дать природа. В этом взгляде пса она прочла только понимание, участие и скорбь… И она обозлилась на него, презрительно отвернулась, тяжело оторвала от снега свой тощий старческий зад и медленно побрела назад к перевалу по следам своей стаи…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































