Текст книги "На краю государевой земли"
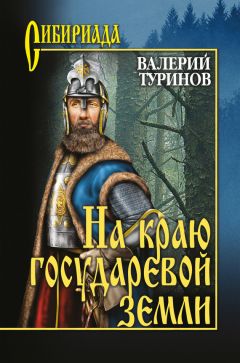
Автор книги: Валерий Туринов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Васятка, не отставай! – крикнул Пущин ему.
Васятка еще раз бросил взгляд назад, на сплошную серую массу провожающих, и больше не увидел там Зойки. Он отвернулся и побежал вслед за своей сотней, тяжело волоча лыжи с чего-то ослабевшими ногами.
Отряд Пущина в две сотни человек, с нартами, собаками и легким полковым нарядом, растянулся на целую версту. Такой дальний поход, да еще по указу с Москвы, Иван раньше-то и не водил. Поэтому к нему он подготовился тщательно, приложил немало сил. И вот теперь они шли вверх по Томи, все вверх и вверх, торили и торили снежную целину по зимнику, оставляя позади себя укатанную дорогу, которую тут же, через день-два, занесет, запорошит метельное ненастье.
Тайга закончилась. По берегам пошли степи. Вот круто, в одном местечке, взметнулась береговая осыпь. Она поскакала, поскакала вдоль реки, и снова потянулись низкие унылые равнинные берега, обвьюженные пластами снега, нависающего карнизами над рекой. Чем дальше от острожка, тем все ниже и ниже становился бережок. А с него метет, крутит, хлещет снегом, швыряет пригоршнями, и прямо в лицо, задувает под меховую одежду, лезет в щели, отыскивает и достает разгоряченное ходьбой жаркое тело. Да все норовит поперек людям: поверни человек, не пройти, размахнусь, не пущу, пропадешь!.. Отсидись за ветром, рвущимся из-за поворота реки, да все навстречу им, служилым. Далеко до следующей затишной сторонки. Тут река и ветер пошли бок о бок, вместе, рука об руку. По пути им, по дороге, но против человека… А жилья-то кругом – не на одну сотню верст – не сыщешь… Казаки и стрельцы уперлись: плечо вперед, друг за другом, держи, тяни нарты. Да смелей, не робей, потужимся, поломаемся: кто – кого…
Завыла пурга, не высунуться из-за мысочка: несет, поет, с ног валит. И Пущин разбил под берегом, в закуточке, стан. Отсиживались по шалашам из наскоро нарубленного ивняка. Его повязали стенкой, прикрыли сверху шкурами, а их еще придавили пластами снега.
Холодно, ревет ветер, но не тоскливо в становище. Служилые варят кипяток и кидают туда строганину, да солонину. Поедят, запьют сладкой бурдой, что вышла из солода: тепло, сытно, хмель в голове и словцо на языке. А времечко-то идет и идет, что добрый иноходец. Глянь – пурги нет, как не бывало.
Снова скрип лыж, поохивают нарты, взлаивают собаки, вертятся, суются под ноги: с ними морока, без них скука.
Вот и опять обвысился бережок, заугрюмел, полез вверх, понемножечку, полсажени, да еще половина. А тут целых две… Глянь, и скалы, забытые было. Серые, пересыпанные белым снежком, что у иной бабы руки мукой в суетливую стряпню, когда вертится она день-деньской подле печки, шмыгает туда-сюда с караваями да лепешками… Сейчас бы такую лепешку, горяченькую, с пыла-жара. Ух-х! хороша! Да нет, тут иной жар – и тоже ломит кости, норовит ухватить за нос или куснуть за ухо. Только подставь под ветерок – сразу обелит, мазнет, что мучицей тройного помола…
Проводником в голове отряда бежал Ивашка Тихонький, казацкий десятник. Дорогу-то он знал хорошо. Чай, хожено по ней: и вверх, и вниз по реке. Да оттуда-то бегом, чуть живой ушел, хоть и был с казаками и еуштинскими татарами: абинцы пограбили, заказали все пути-дорожки. Отстоял только Базаяк, их князец. Чего доброго – и душу бы отняли… Пока требовал ясак: мешал, знобил, серчали, лаяли поносными словами… Как ушел – забыли…
И вот, наконец-то, добрались они до места, куда шли.
Острожёк они рубили в устье Кондомы, на пойменном берегу, напротив высокого яра на другой стороне реки. Не острожёк, а так – тын-тыном, из жердей и бревен. Поливая водой, они стали вязать его ледяной коркой. Выходило ладно, споро, издали крепко, с виду высоко, а внутри – хлипко.
– Хм! Иван, а ты рискуешь, – сказал Баженка. – Солнце припечет – он и развалится.
– До весны простоит. А там пусть валится. Тепла ждать не будем. Соберем ясак и домой, – успокоил Пущин его.
Он задал работу служилым и, чтобы размяться, тоже взялся за топор, стал рубить помост для пушек. Рядом покрякивал Васятка, всаживая стальное лезвие в звенящую и мерзлую, как лед, древесину. Федька махал вяло, точно отбывал повинность. Ему не хватало искры. И он поминутно отвлекался, поглядывал за реку, через белую равнину, где возвышалась береговая терраса. Что там? Дальше… Подняться бы, взглянуть. Манит… Отсюда не видно. И как-то не по себе от этого. Глаз стремится к простору, а упирается в заснеженную круч, белизна которой, незаметно сливаясь, переходит в серое небо. Ни точки, ни черточки, ни жизни, ни человека, ни зверя. Тоскливо, хотя и белым-бело.
– Ты что раскрыл рот! – толкнул Васятка в бок Федьку. – Работай, работай… Попотей, потеши, отойдешь тогда.
– Ладно, пусть передохнет, – сказал Пущин, чувствуя, как на раскаленном воздухе сбивается дыхание.
К ним подошел Баженка.
– Иван, твои стрельцы опять буянят! Ну что с ними поделаешь? Строить острожёк, говорят, пусто, мимо дела. Давай-де пойдем по ясак, по улусам… Хе-хе! Так там же арачка[42]42
Арака (арачка) – водка на кумысной закваске.
[Закрыть]! И девки то ж уступчивы! Ха-ха-ха!.. Язви их, этих твоих!
– Твои что – лучше? – обиделся Пущин за своих стрельцов.
– Ладно, ладно! Пойдем уламывать!
Пущин бросил топор, накинул полушубок.
– А ну пойдем, – сказал он Васятке.
– А я, батя?! – вскричал Федька, с надеждой взглянув на отца.
– Ты стучи, стучи, – наставительно сказал ему Пущин. – Мал еще туда лезть. Там и по морде может перепасть… От сей расхлябицы, – пробурчал он.
Он заранее нагонял на лицо строгость, предвидя, что придется пособачиться со служилой стихией. Уж он-то знал, что как только отойдут казаки на версту от острога и вдохнут таежного хмелька, так тут же болтушкой забродит в них свобода.
Пущин, Баженка и Васятка подошли к опушке леса. А там сватажились и галдели служилые, совсем как надоедливые ронжи, которые, обычно налетая откуда-то осенней порой, выдают с головой охотника всей лесной округе.
– Сотник, ты тут за воеводу – так воеводствуй! Махать топором и без тебя есть кому! Решаем: как быть с острогом!.. Сделай по-воеводски!..
– Служба, не то затеяли, – миролюбиво начал Пущин.
Казаки и стрельцы подняли голос: «Сургутский, ты кого боишься? Уж не "кузнецов" ли!.. За пару недель управимся и назад!»
– Хватит, нечего драть глотку! – осадил их Пущин; ему хватило выдержки ровно на пять минут разговора с казаками. – Велено наказом – делай! Руби и молчи! Жердь на острог, под наряд – бревна!
«Базаяк придет и увидит этот кавардак! – со злостью подумал он. – Как же, защитят от киргиз, коли сами не разберутся промеж себя!»
– Сёмка, Богдан, я вам не Хрипунов! – закричал он на братьев Паламошных, вечных зачинщиков смуты. – «Дон» заводите?! Андрюшка, ты что, что, тоже с этими…?! – вылупил он глаза на «литвина».
– Иван, полегче! – испугался Баженка, зная норовистость своих казаков.
Андрюшка же смущенно пожал плечами, мол, не может же он выступать против своих.
– То, сотник, твоя печаль! А я – как все!
– Ладно, казачки, принимайся, принимайся за дело, – благодушно заворчал Баженка, расплылся ухмылкой, довольный, что сотник достаточно получил от казаков. – Поскребли зубы, потачали – и хватит! Оставь на последыш – до дома, до бабы! А то чем ее-то кость грызть будете?
– Ха-ха-ха! Ну, Баженка, и башка же у тебя! Вот это атаман! Учись, сотник!.. Срубим острожёк – Баженку воеводить!..
Атаман подтолкнул в бок Пущина: и тот тоже захохотал, удивляясь, с чего бы это он вдруг на казаков-то…
Служилые покричали, выдохлись, разошлись и взялись за работу. Застучали топоры, и казаки потянули из леса волоком и на санях жерди и лесины.
– Иван, Баженка! – послышались крики от острожка. – Тут до вас!.. Базаяк пришел!
– Васятка, иди к Федьке, – велел Пущин малому. – Погляди, как он. Да полегче, не обижай, – попросил он его. Он все время чувствовал какую-то свою вину перед сыном. И не только из-за недавнего его бузотерства. Нет. Раньше, раньше надо было… А что надо было делать раньше, он и сам не представлял.
Он проводил Базаяка к себе в крохотную, только что срубленную избенку и открыл флягу с водкой. Ее он вез специально для угощения князца и его родовых мужиков: если те упрутся, откажутся платить ясак.
– Как нынче зверь-то? – спросил он князца. – Добычливый год, а?
При нем, при Пущине, в этом походе толмачил молодой татарин Лучка, с глазами неглупыми и жаркими. А уж непоседлив он был и ловкий, весь перевит тугими мышцами. Сюда, в Томск, он пришел своим хотением, откуда-то из Барабинской степи. Но пришел он не служить, ходил вольным по Томскому острогу. И веру здесь он сменил по своему хотению. Отец Сергий принял его под свое крыло, ввел в лоно православных. А Лучка менял легко не только веру, он был способен говорить и на многих сибирских языцах, имел тягу ко всему иноземному. И воеводы, за все эти его слабости, завлекли его на службу. Они стали гонять его толмачом с казаками по разным посылкам в иные земли, как вот, например, сейчас.
Лучка полопотал с князцом, перевел ему, что тот говорит, зверь-то есть, да вот охотники не идут на него: боятся оставлять свои стойбища. Придут-де киргизы или колмаки: жёнку заберут, детей заберут – все заберут. Потом соболя за них давай, белку давай… Не то, говорят, не вернем…
В избушку ввалился Бурнашка. Каким-то чутьем он точно угадал назревавшую выпивку. За ним в избушку проскользнул Васятка. Он шепнул Пущину, что с Федькой все в порядке, тот у стрельцов, и сел рядом с ним.
Пущин налил всем водки.
– Ну – за добрую охоту! – сказал он князцу, подняв чарку.
Выпили… Базаяк, выпив, поперхнулся от огненного пития.
– Питухов и здесь разводим! Ха-ха-ха! – расхохотался Бурнашка, заметив, что князец косит глазами на клягу с водкой: очень уж хороша. Ох и хороша!..
– Теперь Кубасак никуда не денется, а? – спросил Баженка князца. – Сам видишь: царь послал многих людей. И еще пошлет против своих недругов.
Базаяк согласно закивал головой, стал поддакивать:
– Да, да! Моя говорил Кубасак: плохо делаешь, нехорошо… Белый царь побил Кучума. У Кучума много воинов было – мал мала стало. У тебя совсем не будет… Дай шерть[43]43
Шерть – клятва на верность.
[Закрыть] царю. Царь просит мало, совсем мало. Киргиз и колмак много берет, много… Кубасак говорит – нет!.. Шибко глупый Кубасак…
Баженка был знаком с Базаяком давно. Он уже приходил сюда шесть лет назад вот так же за ясаком. Как и у Ивашки Тихонького, его поход закончился провалом. Из местных князцов никто, кроме Базаяка, не дал ни ясак, ни шерть московскому царю.
– Вернемся, засылай, Иван, сватов, – плутовато глянул атаман на Васятку, с виду захмелев ничуть не меньше князца. – А Федьку тут оставим… Базаяк, у тебя девки-то есть?.. Девки, я говорю, девки есть! – крикнул он, видя, что тот не понимает его.
Хитер был атаман, глазаст, нарочно притворялся пьяным. В последнее время заметил он, что его старшая дочь вроде бы худеть стала, да все поглядывать в окошечко, к стуку двери прислушиваться: кто там и с чем пожаловал… Присуха завелась, девичья. Присуха… Да-а!.. И провожать в поход его напросилась за стены острожка, чего не делала раньше-то никогда. Все кого-то выглядывала, высматривала… А потом что было?.. Да что говорить – все ясно… Ничего не ускользнуло от старого атамана, зорок у него еще глаз. На то и атаман, чтобы дальше других видеть и все примечать… Эх, ма-а! Вот оно как! Уже и девок выдавать пора…
Лучка перевел слова Баженки князцу. И тот утвердительно закивал круглой головой с жесткими прямыми и черными, уже с проседью волосами. Оскалившись желтыми зубами, он показал на пальцах, что у него есть три девки, даже три.
– Колтугу[44]44
Колтугу – невеста (шор.).
[Закрыть], колтугу!.. Карош девка! – показал он знаками, что они у него красавицы, и много у них женихов. Да и он не прочь отдать их: хлопотно, кормить надо… Пусть муж кормит.
– Девок-то воруют у вас, аль так выдают?
– Воруют…
– Ну и добре!
– Ты, Базаяк, одну отдай лучше вот за этого парня! – шутливо похлопал Пущин по спине Васятку. – Отменный зятюшка будет! На все руки мастер!
Базаяк что-то залопотал и рассмеялся, когда Лучка растолковал ему, что хочет сказать сотник.
– Он говорит – бери всех! Всех отдам такому каазык[45]45
Каазык – здоровый, здоровяк (шор.).
[Закрыть]!
Базаяка и его улусных напоили и проводили за ворота острожка. С неохотой покидал князец уютную и гостеприимную избушку сотника, где было еще много, очень много водки.
– Ну, Иван, и сынка же ты слепил! – хохотнул Бурнашка, когда в избушке остались лишь свои; у него под хмельком всегда развязывался язык, будто его тянул какой-то бес; и он выбалтывал такое, отчего потом, протрезвев, готов был драть на голове волосы. – Как же за него мою единственную-то отдать? Не-е, не отдам Парашку!.. Братаны за нее знаешь что поделают с твоим Федькой, если тронет пальцем?.. Вот – то-то! И я не знаю. Но и попасть не хотел бы им в руки… В матку они. Она же, что шатун по зиме: порешит – не моргнет!..
– Ты про что это?! – обиделся за своего сына Пущин.
Чтобы сейчас, не ко времени, не поцапаться с десятником, он снова налил водки ему и атаману. Плеснул он немного в кружку Лучке и Васятке. Выпив, он крякнул, положил руку на плечо атаману: «Славная у тебя жена, Баженка!»
– Да, да, Иван! – согласно поддакнул тот. – Такую надо еще поискать!
– Где же ты нашел-то ее? – спросил Бурнашка. – Подскажи, может, и казаки поищут там же! Без баб-то пропадают!
– Не-е, Бурнаш, там нет больше таких! – засмеялся атаман, хитро прищурив глаза.
Баженка здорово походил на свою жену: они были парой, как два сапога. Такой же большеглазый, с прямым честолюбивым носом и чуть-чуть вытянутым лицом, он был недурен собой, и даже очень. Так что бабы заглядывались на него. Но ни одна из них в остроге, да и за его стенами, не могла бы похвастаться, что окрутила видного атамана, отбила, хотя бы на вечерок, от его Катерины. Ладно скроенный, еще в своем возрасте статный, лихой наездник, он был любитель таких скачек, на какие даже Катерина смотрела с опаской. Он всегда что-нибудь вытворял на коне, когда обучал казаков сабельному бою или показывал, как надо уходить от поющей стрелы степняка, укрываясь на полном скаку за крупом коня.
– Почто нет? Перетаскали! Ха-ха-ха!.. Казаки сходят, найдут, приведут по такой же!
– Перетаскали не перетаскали, а нет! – благодушно потешался над ним Баженка. – Последнюю забрал я.
– Ты давай – рассказывай, – подтолкнул его в бок Пущин. – Не тяни, раз завел.
– Ну что ж, слушай, если напросился, – начал Баженка, чтобы не отказывать сотнику. Того он уважал за характер. Жесткий сотник был, в глаза все скажет, но воеводе не выдаст, если что случится с казаками. Не пустой оказался сургутский. – Ты, Иван, не забыл еще дорогу-то сюда по реке?.. И помнишь: на Оби живут вогулы?
– Да не вогулы, а какой-то непонятный народишко!
– Да, да, помнишь, – согласился атаман. – Так вот, то было года за три до того, когда Годунов сел на царство. Указы тогда пошли сюда о всяких вольностях инородцам. И вот ходил я в ту пору из Сургута по ясак. Совсем как сейчас. Только поменьше нас было. И, представь, в одном улусе я углядел Катерину. Ну, она была тогда не Катериной… А поразился я на то, что их семейство-то, а у отца с матерью она была да еще брат, всего-навсего, уж больно отличалось от остяков и вогулов. Те-то черные, а они… Ну, как мы, русаки. Токмо носы попрямее. У тебя-то вон, что кулак прилепили на роже! – показал он на нос Бурнашки, не преминув подцепить его. – Ха-ха!.. А там все аккуратненько. В общем, сам знаешь, Катерину видел не раз. И характер к тому же! Что говорить об этом. Ну и чую я: шагу оттуда не сделаю без нее!.. Да и ее уговаривать не надо было… Я же был тогда ого-го! – повел плечами атаман.
– Ха-ха-ха! – расхохотался Бурнашка. – Ты и сейчас хорош, атаман!
– Ладно, будет, будет… Так и увез я ее из улуса. Ясное дело: окрестили ее Катериной. И мы обвенчались с ней тотчас у отца Маркела. Да ты знаешь его, – сказал он Пущину. – Он и тогда был уже таким: питух-питухом! Хм!.. Она рассказывала мне потом, что ее дед с бабкой вроде бы пришли откуда-то с верховьев Томи… С гор откуда-то, может, и отсюда, – неопределенно повел он рукой, показав куда-то за стены избушки. – Род, говорит, большой был. И вокруг тоже такие жили, как и они, с голубыми глазами… И рыжие, да не совсем, а вот такие, как мы… Куда все разбрелись – никто не знает. Только у них в семье сказ про то есть, что началось оттого, когда сюда пришли никанские люди[46]46
Никанские люди – китайцы.
[Закрыть]: волос жесткий, вороньего крыла, и глаза – тоже…
– Да-а, Баженка, – протянул Пущин. – Странно сказываешь… А уж не выдумал ли ты? Нам на потеху!
Баженка развел руками: мол, хочешь верь, хочешь не верь.
Он, мужик прямолинейный, не в силах был надумать такую складную байку о своей женитьбе. Да, на самом деле так и было, как он рассказывал об этом уже не раз. Правда, чем чаще он рассказывал об этом, тем все больше вплетались в его рассказ новые детали, каких раньше не было, и, возможно, не было на самом деле. Но этого никто не замечал. Да и никого особенно не интересовало, как там было дело. Главное было в том, что атаман отхватил себе такую жену. Да еще где? Здесь, в Сибири.
* * *
По улусам уходили отрядами в три-четыре десятка человек, взяв с собой проводниками по мужику из родичей Базаяка.
Сына Пущин оставил в острожке: не рискнул никому навязывать.
От этой воли над ним отца Федька чуть не взвыл.
«И это тогда, когда он во всем потакает Васятке, отпустил его с Бурнашкой!.. А его, Федьку, никто ни во что не ставит, все считают пацаном! Каждый, кому не лень, учит! Вон, даже этот вахлак Митька Згиба. Все в походах, а ему сидеть тут, да еще при отце-то. Что! Для этого он тащился сюда?»…
И он бросился к Андрюшке, забегал около него, стал умолять его взять с собой.
Андрюшка поюлил было, но все же согласился, и за эту свою мягкотелость выслушал нудный наказ Пущина:
– Присматривай… Не то налижется арачки, наскандалит, да за топор! По старой памяти!
Федька запыхтел, насупился, но смолчал, прикусил язык: уж очень не хотелось ему сидеть в острожке.
Итак, служилые разошлись.
Васятка пошел в голове отряда, вслед за Бурнашкой. За ним потащился Лучка, а далее два десятка казаков. Они двинулись на лыжах вверх по Томи, по белой плоской заснеженной дороге. С одной стороны ее тянулась широкая пойменная долина. Ее густо, словно щетиной, покрывал серый тальник. С другой же стороны к реке вплотную подступали отшлифованные половодьем скалы, а на верху, выше по склонам гор, чернели ельнички.
Проводником в их отряде бежал младший сын Базаяка, Озочы, бывалый охотник и меткий стрелок, хотя еще был совсем юнец. Он всю дорогу забавлялся, бил из лука по пичужкам, что порхали, на свою беду, по берегам реки.
За два дня пути они не встретили ни малейшего намека на жилье. Кругом была лишь одна тайга, скованная стужей и забитая снегом толщиной в сажень, а то и более.
На первое стойбище они вышли на реке Мрассу, уже в ее устье, где она впадала в Томь. И там навстречу им высыпала целая свора собак. С лаем и визгом сцепились они с собаками казаков, всполошили всех улусников. Те сразу повылезали из своих полуподземных жилищ, придавленных толстыми пластами снега, из-под которых сочились хилые струйки дыма.
Улусники разогнали собак. Обступив бородатых пришельцев, они стали с любопытством ощупывать их одежду и разглядывать невиданные ими доселе самопалы и берендейки, с увешанными на них круглыми натрусками, фитильными и пулечными сумками. У каждого казака был рог для пороха и еще всякое прочее иное, нужное в походе.
Бурнашка и Лучка собрали стариков и стали толковать с ними о том, зачем они пришли сюда. Улусники выслушали их, с натугой морща лбы, затем рассмеялись: «Нет ясак!.. Нет!»
– А ну, казаки, вываливай! – приказал Бурнашка, видя, что так дело не идет.
Казаки разложили на снегу обменный товар, выставили водку. И торг сразу оживился: из землянок потащили меха.
Сговорив нового проводника в этом улусе, они покинули его.
Казаки поднялись далеко, очень далеко вверх по Мрассу. На четвертый день пути они подошли к остроконечным утесам, которые падали к реке один ниже другого, как будто семь богатырей, семь побратимов выстроились дозором.
Тут проводник остановил отряд, прошел вперед, к тем утесам, и угодливым голосом что-то закричал им.
– Он умоляет хозяина этой горы Туралыг пропустить нас, – перевел Лучка просьбу проводника. – Не бросать камни!.. Мы хорошие люди, говорит он. Худые люди идут после нас… Хм! Обманывает его!..
Проводник потолковал с хозяином горы. Видимо, он договорился с ним, успокоился и уже уверенно повел отряд вверх по реке мимо нависающих над ней утесов. Не прошли они и десятка верст, как услышали будоражащий воображение низкий гул. Он нарастал с каждым шагом вверх по реке, предупреждая, что они находятся на подступах к нижней горловине большого порога, о котором уже были наслышаны.
Здесь проводник опять остановил отряд. И казаки, устав, повалились на снег. А проводник уселся неподалеку от них, прислонился спиной к огромному камню и заунывно запел, покачиваясь из стороны в сторону.
– Он поет, что тут было ущелье, темное, – заговорил Лучка, следуя за песней проводника, похожей на стенания по умершему. – Шайтан жил! Вода ходила сквозь гору, темно ходила. Люди плыли – огонь жгли… Однажды пришел кам, очень большой кам, и говорил Ту-ээзи, хозяину горы: убери шайтана!.. Ту-ээзи сказал, отдай старуху Манак, уйдет шайтан… Кам говорит, бери: посадил Манак на плот, завязал ей глаза… Поплыла Манак, одна, к шайтану в ущелье!.. Увидел ее Ту-ээзи, восхотел, задрожал, упал горой на Манак… И сразу стало светло… И он просит Манак не плакать громко, не то проснется Ту-ээзи, упадет, придавит и нас тоже!..
Казаки загоготали, стали потешаться над проводником: «Не дурак, однако, твой хозяин горы-то!..»
– Ладно, казачки, пошли, пошли дальше! – приказал Бурнашка.
Казаки поднялись и потащились вслед за проводником к ущелью.
Порог встретил их ревом волн, мечущихся по обледенелым глыбам. Река, стиснутая скалами, наполнила ущелье грохотом и заглушила все звуки. С гранитных уступов саженной высоты бросалась она вниз, разбивалась брызгами, рычала и лепила на камнях причудливые ледяные фигуры. В рваных просветах пара, клубившегося над ней, стремительно мелькала и пенилась темная вода. С легким треском взламывала она наросты льда, крутила и перемалывала шугу, всхлипывала, засасывала ее в бучило и уносила под лед. А чуть ниже по течению она опять вспенивалась из-подо льда и зарядом выплевывала шугу на перемол в очередную горловину порога.
Семь верст вдоль порога по ущелью они с трудом одолели к концу дня и присмирели. Уже настороженно прислушивались они к тревожному лаю собак, напуганных стонами старухи Манак, которые, казалось, доносились и до сей поры из-под нагромождения каменных плит. И они облегченно вздохнули лишь тогда, когда вышли из ущелья, чувствуя вязкую слабость от гула и от каких-то странных голосов. И еще что-то долго преследовало их в тот день…
Этот улус, из родовых улусов карга-шор[47]47
Карга-шор (карга – ворона (шор.)) – название рода абинцев, населявших в то время верховья реки Мрассу выше порога, особенно около реки Анзас и частично по реке Кондома, в устье которой и построил первый острог в этом краю, в этом-то походе Иван Пущин. Ныне на месте того острога стоит город Новокузнецк.
[Закрыть], они найти уже и не надеялись. Да вот Бурнашке как вожжа под хвост попала, что иному рысаку, уперся: «Найдем – хоть на заморе!»… Искали, что иголку в стогу сена. Улус тот забился в такое ущелье – не приведи господи. И всего-то четыре или пять землянок, да еще строение, похожее на лабаз…
Ведь говорил же Базаяк им: не ходите туда, там очень худое место. Пропадешь, и то будет неведомо почему…
– Наса туда не ходит… Наса оттуда не приходит.
– Куда же деваются-то? – спросил его Баженка.
– Эрлик[48]48
Эрлик – владыка подземного мира в мифологии сибирских народов.
[Закрыть], Эрлик берет! – показал Базаяк рукой на землю.
Запомнились эти слова князца Васятке еще тогда, на пирушке в рубленке у сотника…
Заскрипела на иссушенных морозом ремнях дверь, грубо сработанная топором и обтянутая оленьей шкурой, и Васятка протиснулся вслед за Бурнашкой в землянку. За ними в дверь вползли четыре казака. Остальные разошлись по другим землянкам.
В землянке, куда они попали, жила семья из двух мужиков и одного старика. Да еще были две бабы: низкорослые. Сразу и не разберешь, то ли девка-малолетка или уже баба в годках. На земляном полу копошились дети, грязные, с какими-то мелкими подозрительными язвочками на руках и лицах. В углу же покачивался на ремнях кожаный мешок, а из него торчала головка младенца.
Над очагом, в крыше, белело продолговатое отверстие для света. Он слабо проникал в это тесное и душное жилище, занесенное по самую макушку снегом.
Старик, видимо глава семьи, уставился на диковинных пришлых людей. Затем, насмотревшись на них, он сказал что-то женщинам, и те засуетились: повесили над очагом котел и набили его мясом.
Да-а, по всему было видно, что охотничья удача не обошла сегодня стороной этот улус.
Когда мясо было готово, старик что-то пробормотал Лучке.
– Ешьте, ешьте! – перевел тот.
Казаки без лишних уговоров придвинулись ближе к котлу.
– Отец, давай с нами, – протянул Бурнашка кусок мяса старику.
Тот засмеялся, оскалил беззубый рот, покачал головой, мол, рад бы, да уже не может.
Бурнашка засопел над куском, бросая изучающие взгляды на старика.
– Зачем так далеко забрался? Тут одним медведям только жить!
Он подтолкнул в бок Лучку, чтобы тот перевел:
– Почему не к людям?
– Моя плохой люди не хочет. Шибко худой люди есть, – заговорил старик, взирая тусклыми глазами на Бурнашку. – Моя хороший люди видал, шибко хороший!.. Когда совсем мал был… Тут болит, тут, – показал он рукой на сердце, говоря, что не может он с той поры жить среди людей. Плохо ему с ними. Почему плохо – не знает, но плохо.
– Что за люди? – насторожился Бурнашка.
Старик горестно вздохнул, подошел к очагу, сел на чурбак, завозился, видимо, соображая, рассказывать или нет неведомым пришлым людям что-то, что для него было важным.
– Давно, очень давно, – начал он, – земля дрожал, шибко дрожал. Конь с неба упал! Большой-большой, как огненный сабля. Тайга палил, шибко палил. Яма там стал, глубокий яма – нет дна!.. Оттуда люди приходил. На китайца не похож, на колмак не похож, на тебя не похож, на зверя не похож… На кого похож? – хитро прищурил он глаза, помолчал и, торжествуя, объявил: «Ни на кого не похож! Ульгень[49]49
Ульгень – владыка верхнего, небесного мира в мифологии сибирских народов.
[Закрыть] послал!.. Шибко строгий. Глядит – все видит: тебя видит, меня видит, его видит!.. Как видит?!»
Васятка, сидевший у очага, разомлел от тепла. Тяжелый дневной переход вымотал его. И он сидя задремал под монотонный голос старика, который слабел, затихал, куда-то удалялся, как будто улетал через крышу, в деревянную трубу, обмазанную глиной… Но вот ветер ударил назад в землянку через эту трубу. Его обдало жаром, он отшатнулся от очага и снова вернулся мыслями в землянку.
– Ой, ой умный… Кам[50]50
Кам – шаман, жрец божества (шор.).
[Закрыть] Сагыш шибко боялся его. Пошто боялся – не знал. Говорил, такой кам, не бывал такой кам – сильный кам!.. Улус ходил, ходил, потом ушел, совсем ушел. Куда ушел? Никто не видал… Пропал!..
Старик закашлялся глухим грудным кашлем. Затем он набил трубку какой-то сухой травкой, прикурил угольком от очага. Его голос опять окреп, стал громче, слышнее. Он залопотал о чем-то, в ответ на заявление Бурнашки, что они пришли за ясаком.
– Все телеут забрал, кыргыз забрал. Алманщик[51]51
Алман – дань; алманщик – сборщик дани (шор.).
[Закрыть] Абака забрал: соболя, лисицу, шкуру забрал. Рыбку забрал!.. Ячмень оставил… Снова тайга, опять тязело… Худой, шибко худой люди. Кто пришел – отдай! Пошто я отдай, отдай? Пошто ты не отдай?.. А-а! – лукавой улыбкой расплылся старик. – Тайга не хочет мала ходить. Совсем ленивый… Бери лук, собаку: соболь много-много будет, твоя будет…
– Ясак надо, старик, ясак! – не отставал Бурнашка от него.
– Пошто ясак?.. Поминка[52]52
Поминка – дарственное подношение воеводе, гостинец, например «поминочный соболь».
[Закрыть] – да, ясак – нет! Белый царь ясак – нет! – отрицательно замотал головой старик.
Он встал с чурбака, поковырялся в углу землянки, достал из тайника связку шкурок, подошел к Бурнашке:
– Воевода – от карга-шор… Поминка.
Бурнашка принял с кислой миной связку плохоньких, подчерненных шкурок.
Старик стал объяснять что-то ему. Его голос становился все тише и тише.
И Васятка, уже ничего не разбирая, услышал шум, похожий на шум тайги, когда парусят на ветру ели. И ему показалось, как старик сказал что-то о какой-то девице. Или это только показалось ему…
«Да нет же – вот она!» – вспыхнуло у него в сознании. И тут же из темного угла землянки выплыла девица, пошла по кругу в каком-то диковинном танце. И этот танец, ее губы и тонкий гибкий стан, извиваясь ветвью хмеля, сами собой заговорили: ты придешь, придешь еще ко мне…
Голос старика опять стал нарастать. И девица, скользнув легким призраком по землянке, растаяла прямо на глазах у Васятки: превратилась в прозрачную сизую струйку, и ее вытянуло со свистом в дымовую трубу.
Вот голос старика вновь ослабел. И сразу появилась девица и стала все так же кружиться в загадочном танце, как будто пыталась что-то выразить им, донести до него, до Васятки.
«Вот минет время, и ты придешь, придешь», – послышалось из темного угла землянки.
Она, казалось, была полна каких-то неясных теней, бродивших тут же среди казаков и вот этих хозяев, непохожих ни на абинцев, ни на телеутов: со светлыми глазами, рыжеватыми волосами и белой кожей. Она угадывалась под слоем грязи и темным зимним загаром.
«Как?.. Почему?» – закрутил головой Васятка, следя за стремительным полетом девицы.
«Загляни в себя… Глубже, глубже!.. Ха-ха! Не так, не так!»
Она нарисовала замысловатым взмахом руки что-то в воздухе: и в руках у нее появился бубен. Он ударился обо что-то, зазвенел и понесся по кругу вместе с ней. Она же только едва касалась его и смеялась, по-старушечьи морща низкий лоб с наползающими на него мягкими русыми волосами…
Бурнашка толкнул Васятку в бок:
– Проснись, паря! Ты что – говоришь-то сам с собой! Ругаешься, что ли?.. Эка вон как тебя развезло в тепле-то!
– А где девка? – спросил Васятка, у которого перед глазами, слезившимися от дыма, все еще ярким шаром крутился бубен.
– Какая еще девка! – захохотали над ним казаки, кучно облепившие очаг, вылавливая засаленными руками из котла куски мяса.
Васятка зашарил глазами по углам землянки, ища девицу, не в силах ничего разглядеть в зыбкой темноте, что была там, где должна была быть стенка, но, казалось, ее там не было… Там была пустота. Он это чувствовал, так же как то, что там было сыро, безлюдно, холодно и полно насекомых: мокриц и кусачих пауков. Так же как у рязанской торговки Варвары в погребе, где та не раз запирала его, чтобы был податливым…
– Васятка, пожри! Чего ты воклый-то? – озабоченно глянул на него Бурнашка, заметив, что он еще не взял ни крошки в рот. – Тащить-то тебя, болезного, некому… Давай, давай, не то казаки умнут все!
Васятке подали кусок мяса. Он нехотя пожевал его, с пресным привкусом, все так же уставившись в темный угол землянки. Оттуда потянуло чем-то знакомым: пахнуло ветерком, совсем как в майские денечки, когда цветет черемуха…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































