Текст книги "Два регентства"
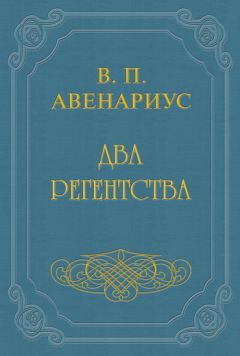
Автор книги: Василий Авенариус
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
– Пора вставать, принцесса!
Та в первую минуту была только озадачена:
– Как! Это вы, тетя Лиза?
Но тут взор ее упал на стоящих на пороге гренадер, и вдруг все ей стало ясно. Глаза ее наполнились слезами, и, сложив руки, она начала умолять не делать зла ее малюткам.
– Ни им, ни вам самим ничего не будет, – уверила ее цесаревна.
– Так вы не разлучите меня с ними?
– Нет, они останутся при вас.
– А Юлиана? Я без нее жить не могу!.. Пожалейте меня!.. Оставьте ее тоже мне…
– Хорошо. Теперь вставайте, только поскорее. Я беру вас к себе.
Сама Елизавета вместе с принцессой села в одни сани, двое других саней были поданы для арестованных между тем принца Антона-Ульриха и Миниха-сына и для Юлианы, Лили и Юшковой с двумя младенцами принцессы. По прибытии всех в елизаветинский дворец маленький Иоанн Антонович, проснувшись, расплакался. Цесаревна взяла его на руки и стала целовать.
– Бедняжечка! Ты-то ни в чем не виновен, виноваты во всем твои родители.
Глава двадцать девятая
Императрица Елизавета Петровна
Аресты указанных Воронцовым главных приверженцев принцессы и принца состоялись не без протестов со стороны арестуемых. Памятуя требование своей матушки-цесаревны – не проливать ни капли крови, гренадеры действительно не прибегли к своему воинскому оружию, но сочли себя вправе убедить сопротивляющихся логикою своих дюжих гренадерских кулаков.
Сам Воронцов, Лесток и старый учитель музыки цесаревны Шварц разъезжали между тем по городу, чтобы оповестить о случившемся знатнейших безобидных вельмож и сановников, с приглашением незамедлительно пожаловать к цесаревне.
В то же время двадцать гренадер, оседлав себе в дворцовых конюшнях верховых коней, помчались к казармам других гвардейцев с приказом двинуться со знаменами к елизаветинскому дворцу, а по пути кричали всем случайным встречным о счастливом исходе переворота. Не прошло и часу времени, как пустынные в глухую ночную пору улицы невской столицы стали все более оживляться гвардейскими полками, экипажами царедворцев и пешеходами из простых обывателей.
Упомянутый уже выше сенатор князь Шаховской был поднят среди ночи с постели сильным стуком в оконный ставень и зычным окриком сенатского экзекутора Дурново, звавшего его наискорее во дворец цесаревны, изволившей принять престол российского правления. В его «Записках» мы находим такое безыскусственное и вместе с тем картинное описание тогдашних его впечатлений:
«Хотя ночь была темная и мороз великий, но улицы были наполнены людьми, идущими к цесаревнину дворцу, а гвардии полки с ружьем шеренгами стояли уже вокруг оного в ближних улицах, и для облегчения от стужи во многих местах раскладывали огни, а другие, донося друг другу, пили вино, чтобы от стужи согреться, причем шум разговоров и громкое восклицание многих голосов „Здравствуй, наша матушка, императрица Елизавета Петровна!“ воздух наполняли. И тако я до оного дворца в моей карете сквозь тесноту проехать не мог, вышел из оной, пошел пешком, сквозь множество людей с учтивым молчанием продираясь, и не столько ласковых, сколько грубых слов слыша, взошел на первую с крыльца лестницу и следовал за спешащими туда же в палаты людьми, но еще прежде входа, близ уже дверей, увидел в оной тесноте моего сотоварища, сенатора князя Алексея Дмитриевича Голицына. Мы, содвинувся поближе, спросили тихо друг друга, как это сделалось, но и он так же, как и я, ничего не знал. Мы протеснились сквозь первую и вторую палату и вошли в третью, увидя многих господ знатных чинов, остановились и лишь только успели предстоящим поклониться, как встретил нас ласковым приветствием тогда бывший при дворе ее величества камер-юнкером Петр Иванович, Шувалов. Он, в знак великой всеобщей радости, веселообразно поцеловал нас и рассказал нам о сем с помощью Всемогущего начатом и благополучно оконченном деле и что главнейшие доныне бывшие министры, а именно: генерал-фельдмаршал граф Миних, графы Остерман и Головкин – уже все из домов своих взяты и под арестом сидят здесь же, в доме».
Не так дружелюбно отнесся вначале к приспешнику Бирона выбежавший в это время из другой палаты бывший при Бироне генерал-полицеймейстером, а теперь отставной генерал-аншеф (полный генерал) Василий Федорович Салтыков. Схватив Шаховского за руку, он рассмеялся ему в лицо:
– Что скажете теперь, сенаторы?
Когда же оскорбленный Шаховской спросил его, атакует ли он его по высочайшему повелению, Салтыков перешел с насмешливого тона на приятельский:
– Я, друг мой, теперь от великой радости вне себя, и сей мой поступок по дружеской любви, а не по какой иной причине…
Пожелав ему еще всякого благополучия и поздравив со всеобщей радостью, он расцеловал Шаховского в обе щеки.
Такое же приподнятое настроение замечалось и у огромного большинства присутствующих. Не было видно только троих: канцлера князя Черкасского, остермановского кабинет-секретаря Бреверна и недавно вызванного из опалы прежнего кабинет-министра Бестужева-Рюмина. Но те заперлись в одном из внутренних покоев, чтобы составить манифест о перемене правления, а также формулу присяги и титулов.
В восемь часов утра состоялся высочайший выход. Новая императрица, в голубой Андреевской ленте и радостно взволнованная; при входе своем милостиво наклоняла голову направо и налево, озаряя всех и каждого своей сияющей улыбкой, а затем стала принимать поздравления, допуская поздравителей по очереди к своей руке.
– Теперь ваше величество не покажетесь ли и народу? – тихонько напомнил ей Воронцов.
– Правда! – согласилась она и вышла на открытый балкон.
Появление молодой царицы было встречено восторженными кликами толпившегося внизу народа и выстроенного вокруг дворца войска. Елизавета не уставала кланяться в ответ на все стороны, пока Воронцов не заметил ей опять, что при таком морозе ей легко и простудиться.
– Я вся огнем горю, так где уж тут простудиться! – отвечала она. – Надо мне поблагодарить еще и моих гвардейцев.
И, спустившись вниз к кирасирам, конной гвардии и трем гвардейским пехотным полкам, она прошлась по их рядам, приветствуемая оглушительным «ура!». Когда же она объявила, что принимает на себя звание полковника их полков, восторг гвардейцев не знал уже предела.
По возвращении в свои покои новая императрица приняла знатных дам, после чего приказала собираться всем в Зимний дворец. Когда она с ближайшей свитой садилась в большую открытую линейку, из стоявшей тут же гренадерской роты выступил опять сержант Грюнштейн:
– Матушка государыня, а мы, гренадеры, к тебе еще с просьбицей.
– Если могу, то непременно ее исполню, – отвечала Елизавета. – В чем ваша просьба?
– Не откажи нам, матушка, в милости, объяви себя капитаном нашей роты!
– С удовольствием, дети мои.
– Ура! Ура! Ура!
– А теперь, – продолжала она, – за мной в мой императорский дворец отслужить благодарственный молебен и принять присягу в верности.
Молебен в придворной церкви Зимнего дворца, а затем и присяга совершились с требуемой торжественностью при громогласной пальбе орудий с Петропавловской крепости. Все закончилось только в пятом часу дня.
Еще, однако, до общего разъезда государыня велела привести к себе взятого в плен под Вильманстрандом адъютанта главнокомандующего шведской армией капитана Дидерона, который, к немалому недоумению придворных, был вызван ко двору еще с раннего утра.
– Вот, господин капитан, ваше оружие, – обратилась она к нему по-французски, вручая ему отнятую у него шпагу. – Вы свободны и можете ехать к себе домой во всякое время. На путевые издержки вам будет выдано от нас пятьсот червонцев. Как очевидец, вы можете с полной достоверностью рассказать вашему главнокомандующему о нашем благополучном воцарении. Надеюсь, что он теперь же прекратит неприязненные действия, дабы дать нам время войти вновь в дружественные отношения с его королевским величеством.
Глава тридцатая
Боль врача ищет
Со времени перемены правления прошло три дня. Бывшая правительница была водворена вместе со своим семейством в смежное с Зимним дворцом здание. Не только их самих держали в строгом заключении, но и их приближенным было запрещено выходить на улицу или принимать посторонних. Так и Лили Врангель не имела никакого общения с внешним миром, когда ее вдруг вызвали в приемную и она увидела перед собой молоденькую кузину императрицы.
– Аннет… – пробормотала она, но не тронулась ей навстречу.
Скавронская быстро сама подошла к подруге и крепко ее поцеловала, после чего подвела к дивану и усадила рядом с собой.
– Дай-ка посмотреть на тебя, – говорила она, повертывая ее голову к свету. – Ай-ай! Куда девался твой свежий румянец, твои блестящие глазки? Верно, все время проплакала?
– Да как же не плакать! – упавшим голосом прошептала Лили. – Мою милую принцессу, говорят, высылают в Германию…
– Да, нынче вышел об этом высочайший манифест. И слава Богу! Могло бы быть хуже.
– Еще хуже!
– Да вот старик Миних, Остерман, барон Менгден, дядя Юлианы, посажены в крепость и будут лишены, как я слышала, чинов, орденов, всего имущества. Принцессе, во всяком случае, сохранится ее брауншвейгский орден, а принцу – и высший русский Андрея Первозванного. На дорогу им дадут денег, сколько нужно, и до границы проводят их со всем почетом.
– Но зачем же теперь-то с ними обходятся как с арестантами? К ним не доходят никакие вести…
– Да может ли их еще что-нибудь интересовать? Коли хочешь, то передай им, что ко всем иностранным дворам посланы курьеры с известием о восшествии на престол новой государыни, сделаны уже шаги, чтобы заключить прочный мир со Швецией, Долгорукие, Голицыны и другие опальные возвращаются из ссылки…
– Да, все это для принцессы теперь, конечно, не представляет уже ни малейшего интереса.
– Ну, вот. Пришла я к тебе, впрочем, не из-за этих новостей, а из-за тебя самой. Скажи мне, пожалуйста, какие у тебя планы в будущем?
– У меня планы? – со вздохом повторила Лили. – Принцесса хочет взять меня с собой в Германию.
– Вместе с Менгденшей?
– А то как же.
– Но ладишь ли ты с этой интриганкой?
– С Юлианой? Сказать правду, ей ужасно трудно угодить…
– Потому что она ревнует тебя к принцессе?
– Вероятно…
– Так тебе, бедняжке, там от нее просто житья не будет. А в душе признайся, ты все-таки больше русская, чем немка?
– Я очень люблю Россию. Россия – моя родина, и я ни за что бы не уехала, если б не принцесса и ее крошки. Сыночек ее особенно ко мне привязался…
– Все это прекрасно, но и принцесса, и ее сынок тебя скоро забудут, как и ты их.
– Я-то их никогда не забуду, никогда!
– Ну, не забудешь, так со временем все же утешишься. Там, у себя в неметчине, они в тебе не будут уже нуждаться. Оставайся-ка, милочка, у нас, в России! От добра добра не ищут.
В тусклом взоре Лили блеснул какой-то свет, но мгновенно он опять погас.
– Кому здесь до меня какое дело!
– Как кому? Прежде всего мне: мы с тобой, кажется, так дружны…
– Ах, милая Аннет! Когда ты выйдешь за своего Мишеля, никаких подруг тебе уже не надо будет.
– Вздор говоришь, душечка, муж – одно, подруга – другое. Пока ты сама не выйдешь замуж, мой дом будет и твоим домом…
– Я тебе, Аннет, сердечно благодарна. Но о замужестве я и не думаю.
– Зато другие думают. Один претендент просил меня даже быть посредницей.
– Уж не Шувалов ли?
– Именно. Я не подала большой надежды, потому что хотя ты ему чрезвычайно нравишься, но он льстится, кажется, и на твое приданое. Государыня обещала уже ему дать за тобой не меньше, чем дала бы принцесса.
– Да я-то про него и слышать не хочу! Не говори мне о нем, пожалуйста.
– Молчу. Но сердце у тебя болит, а боль врача ищет. Неужели в целой России нет человека, который бы тебя вылечил?
Легкая краска выступила на щеках Лили.
– Нет, – пробормотала она. – Такого человека я не знаю.
– И нет вообще никого, кроме меня, с кем бы тебе было жаль расстаться?
– Один-то есть…
– Гриша Самсонов?
– Да, я люблю его почти как брата. Но он крепостной человек…
– Государынин. Так могу сказать тебе по секрету, что государыня только колеблется еще, дать ли ему вольную прямо от себя или уступить его тебе за свой старый долг.
– За какой долг?
– Да разве ты забыла, что одолжила ей свой заветный грош для покупки того же Самсонова. В реконесанс она отдала бы тебе его самого. Тогда от тебя зависело бы отпустить его на волю или оставить его при себе вечным рабом. Но все это, разумеется, только при одном условии, чтобы ты сама оставалась в России. Ну, что же, выбирай: Менгденша или Самсонов?
Вся зардевшись, Лили вместо ответа бросилась на шею подруги:
– Ах ты милая!
– Стало быть, Самсонов?
– Да…
Вечером того же дня Воронцов послал за Самсоновым.
– Ну, Григорий, – сказал он, – чаял я, что с воцарением государыни нашей Елизаветы Петровны тебе выйдет вольная, ан вышло-то иначе. Отдает тебя государыня в чужие руки.
На лице Самсонова изобразилось такое разочарование, что Воронцов не мог сохранить своего притворно-серьезного вида.
– Да ты слишком-то не полошайся, – продолжал он с улыбкой. – У твоей новой госпожи ручки нежные…
– У госпожи?
– А ты не догадываешься, кто эта особа?
– Может, невеста ваша, графиня Анна Карловна?
– Нет. Неужели тебе сердце твое ничего не вещает? У нее тоже по тебе сердце болит, а боль врача ищет…
Вся кровь хлынула Самсонову в голову.
– Вы говорите про Лили… то есть про Лизавету Романовну?
– Угадал. Но ты словно и не особенно рад?
– Да уж какая радость! Ведь она, слышно, уезжает навсегда с принцессой?
– Собиралась, точно. Но когда ей предложили на выбор либо уехать к немцам, либо остаться здесь у одного русского, который отдается ей в рабы, она ни минутки не задумалась и выбрала – остаться. Ну, что, полегчало немножко?
– Полегчало. Она все-таки считает меня как бы за молочного брата.
– А если ты ей милее не токмо молочного, но и родного брата?
Самсонову почудилось, что его толкнули с крыши многоэтажного дома и он стремглав летит вниз.
– Да статочное ли это дело, Михайло Ларивоныч?.. – пробормотал он.
– Говорю я с тобой душевно, не блажно. Ты вот по ней сохнешь и сокрушаешься и сам тоже присушил сердце девичье.
– Но от кого вы о том уведали?
– Из первого источника: от подруги ее, а моей невесты. Свадьбы наши будут тогда в один и тот же день.
– Не могу я поверить в такое счастье… Да и счастье ли то? Лизавета Романовна – баронесса, а я что – человек серый.
– Не красна на молодце одежа, сам собою молодец красен. Потерпи еще до послезавтра: по случаю великого дня ожидаются разные монаршие милости и тебя, сдается мне, не совсем обойдут. Тогда пойдешь к своей зазнобушке не с пустыми руками, напрямик ей скажешь: так, мол, и так…
– Да у меня, Михайло Ларивоныч, и смелости недостанет…
– Полно тебе малодушествовать! Не ровен час, еще кто другой ее у тебя перехватит. Сам, чай, знаешь кто.
– Это уж не дай Бог!
– То-то же. Смелость, брат, города берет. Гляди весело!
И Самсонов глядел весело, хотя сердце в груди у него все еще и трепетало, и замирало.
Глава тридцать первая
«Ну, подумайте!»
Наступил и великий день 30 ноября, орденский праздник Андрея Первозванного.
На Самсонова напало опять сомнение.
«После литургии посыплются монаршие милости высоким придворным чинам, – думал он про себя. – Какое ж тут дело государыне до нас, мелкоты?»
Дома ему, однако, не сиделось, и в ожидании окончания службы в придворной церкви он отправился к Зимнему дворцу.
На дворцовой площади растянулся ряд карет. В разных местах, по случаю лютого мороза пылали костры. Около толпились кучера, продрогшие на своих козлах. Проходя мимо костра, он расслышал такую фразу:
– Тихомолком, поди, увезли, чтобы лишнего, значит, шуму в городе не было. Скатертью дорога!
– Кого увезли, братцы? – спросил, подходя, Самсонов.
– А бывшую правительницу, – отвечал один.
– Со чады и домочадцы, – добавил другой.
Самсонова точно обухом по голове хватило, он даже пошатнулся.
– Когда ж их поспели увезти?
– А нонче, бают, в два часа утра.
Далее он уж не спрашивал, боясь услышать, что в числе увезенных «домочадцев» была и его зазнобушка.
«Михайло Ларивоныч, наверно, все доподлинно знает, ужо у самого спрошу…»
И со слабым лучом надежды он поплелся восвояси, а под вечер завернул опять на квартиру к Воронцову. Тот еще не возвращался из дворца. Наконец раздался резкий звонок, и Самсонов бросился в переднюю отпереть дверь.
– А, Григорий! Ты уже здесь? – весело заговорил входящий. – А я только что хотел за тобой послать. Полюбуйся-ка на меня.
Он повернулся спиной к огню и хлопнул себя по пояснице.
Там красовался на светло-голубой розетке длинный золотой ключ.
– Да это камергерский ключ! – заметил Самсонов. – Вы пожалованы в камергеры?
– И я, и братья Шуваловы, и Разумовский. Обещана нам также малая толика из конфискованных поместьев. Желаешь ты, братец, быть тогда в моем новом поместье управляющим?
– Как не желать!
– Так считай себя уже у меня на службе; прижимать я тебя не буду и жалованьем не обижу. Но хотел я тебя видеть теперь не за этим. Нынче во дворце бал. Ты поедешь со мной и можешь надеть мой новый синий кафтан. Мы с тобой ведь одной комплекции.
– А для чего мне ехать, сударь?
– Благоверная государыня-царица, думается мне, допустит тебя к безмену и поднесет тебе также золотое яблочко на серебряном блюдце.
Надежда в сердце у Самсонова готова была опять вспыхнуть ярким пламенем.
– Михайло Ларивоныч, скажите мне одно: Лизавета Романовна, значит, еще здесь и не уехала с принцессой?
Воронцов с трудом подавил улыбку и отвечал с притворно рассеянным видом:
– Лизавета Романовна? Гм… Признаться, я о ней и не справлялся, не до того мне, братец, было.
– Наверное вы знаете! Не мучьте меня, Бога ради, скажите!
– Будем вместе во дворце, там и справимся. А теперь примерь-ка кафтан.
Так-то к началу придворного бала в восемь часов вечера из подкатившей к главному крыльцу Зимнего дворца двухместной кареты вслед за Воронцовым вышел и Самсонов в воронцовском, с иголочки, синем кафтане. В вестибюле они застали уже лейб-хирурга Лестока, охорашивавшегося перед зеркалом.
– Новому камергеру земной поклон! – приветствовал он Воронцова с преувеличенно почтительным поклоном. – А о нас, грешных, так и забыли?
– Не совсем, – отвечал Воронцов. – Скоро и вас мы будем иметь честь поздравить.
– О! С чем?
– Пока это тайна.
– Какие уж тайны между такими приятелями, как мы с вами? Шепните мне на ушко.
– Разве что на ушко. А дальше вы не перескажете?
– Ни-ни.
И Воронцов наклонился к его уху. По всему широкому лицу Лестока расплылась блаженная улыбка. Он обеими руками потряс руку приятеля.
– Вот это так! Ну, спасибо вам, добрейший мой. Никогда вам этого не забуду.
Какая награда ожидала лейб-хирурга, Самсонов тогда так и не узнал, да нимало этим и не интересовался. Впоследствии уж, когда вышла награда, оказалось, что Лесток сделан первым лейб-медиком с чином действительного тайного советника, а также главным директором медицинской канцелярии и медицинского факультета с жалованьем в семь тысяч рублей.
– А слышали ли вы, дорогой друг, – продолжал словоохотливый Лесток, – что у маркиза де ла Шетарди была уже депутация от гвардейцев благодарить за то, что он давал ее величеству такие добрые советы? Со своей стороны маркиз напоил их шампанским, ну, а они, по русскому обычаю, давай с ним обниматься, целоваться, кричать виват за свою государыню и за его короля. Дипломатический механизм, как видите, опять заведен. А правда ли, скажите, – продолжал болтун, понижая голос, – правда ли, будто Салтыкову дана еще секретная инструкция?
– Какому Салтыкову? – спросил Воронцов.
– Тоже ведь дипломат! Хе-хе-хе! – засмеялся Лесток и похлопал его дружески по спине. – Про какого Салтыкова может быть теперь и речь, как не про того, который сопровождает брауншвейгцев за границу.
– Если дана секретная инструкция, так как же мне-то знать?
– Еще бы! А в дополнение к той секретной инструкции дана ему еще будто бы секретнейшая.
– В самом деле?
– Да, и такого содержания, чтобы он не торопился, а делал в дороге растяги дня на два, на три. С какой целью, спрашивается? Не затем ли, чтобы вернуть с пути всю фамилию и отправить в места российские не столь отдаленные?
– Тише, доктор! Вы забываете, что у стен здесь есть уши.
Действительно, и по лестнице, и у каждой двери парадных покоев дворца торчали придворные камер-лакеи, раболепно преклонявшиеся перед этими двумя общепризнанными любимцами молодой царицы.
– Иди-ка за мной, – сказал Воронцов следовавшему по пятам его Самсонову и провел его боковой анфиладой в отдаленную горницу. – Тут и подожди.
Ждать Самсонову пришлось довольно долго. Издали доносился сперва смутный гул от многоголосого говора и шарканья ног. Потом этот гул покрыт был гармоничными звуками оркестра. Бал начался, по обыкновению, английским променадом, который сменился затем французским контрдансом. А Самсонов в своем уединении слонялся из угла в угол, временами лишь останавливаясь перед той или другой из украшавших стены масленых картин. Но, глядя на картины, он их словно и не видел. В голове у него перекрещивались всевозможные и невозможные предположения о том, для чего его сюда вызвали, а потом всплывала вдруг секретнейшая инструкция генералу Салтыкову.
Тут послышались шаги, и через комнату прошел из одной двери в другую камер-лакей.
– Постой, любезный! – остановил его на пороге Самсонов. – Не знаешь ли, что делает теперь государыня?
– Что делает государыня? – повторил тот, свысока озирая вопрошающего, как бы соображая, отвечать ли ему вообще. Потом с подобающим своему званию достоинством промолвил:– Ее величество изволили пройтись в аглицком променаде с маркизом Шетарди, а теперича сели за карты с тремя другими послами: Финчем, Мардефельдом да Ботта.
Молвил – и проследовал далее.
Протекло еще с полчаса – для Самсонова полвечности, когда приближающийся шелковый шелест заставил его быстро обернуться.
«Вот оно!»
В дверях показалась сама императрица в сопровождении своей фрейлины-кузины и ее жениха. Самсонов низко склонился и замер.
В роскошном светлом бальном наряде, с бриллиантовой диадемой на высокой, посыпанной пудрой прическе, с веером, как с магическим жезлом, в руке и с чарующей улыбкой на устах, вся олицетворение здоровья, красоты и изящества, она представлялась ему неземным видением, сказочной волшебницей, от воли которой зависело даровать ему все, о чем бы он когда-либо ни мечтал.
– Здравствуй, Самсонов, – заговорила она, заговорила так милостиво и просто, точно не была повелительницей многомиллионного народа, а он одним из самых скромных ее подданных. – Я тебя еще не поблагодарила. Не думал ли уж ты, что я оставлю тебя без всякой награды?
– Я имел счастье возить ваше величество. Это для меня самая дорогая награда, – отвечал Самсонов.
– Для тебя, но не для меня. Ты наравне с молодыми гренадерами помог мне в достопамятную ночь добраться до Зимнего дворца. Награды моим гренадерам выйдут не раньше Нового года. Тебе же, сказывали мне, очень уж к спеху (шутливая усмешка заиграла на лице царственной волшебницы). Так вот, я решила теперь же сверстать тебя с ними в награде[40]40
По высочайшему указу 31 декабря 1741 года гренадерская рота Преображенского полка была переименована в лейб-кампанию, причем весь состав роты до последнего рядового был возведен в потомственное дворянство и всем были отписаны деревни с крестьянами из конфискованных имений приверженцев немецкого лагеря: рядовым по 29 душ, а сержанту Грюнштейну 927 душ.
[Закрыть]. От поместья, которое я подарила Михаиле Илларионовичу на свадьбу его с моей любезной сестрицей, я отрезала для тебя небольшую усадебку, дабы, управляя тем поместьем, ты мог жить по соседству и своим собственным домком. А дабы и всему будущему потомству твоему жилось столь же вольготно, я жалую тебя потомственным дворянством.
– Ваше величество наградили меня превыше всяких заслуг…
– Теперь, Аннет, твоя очередь, – сказала государыня.
Когда он тут поднял голову, она с Воронцовым выходила уже. Осталась одна Скавронская.
– Идем со мной, – предложила она ему и пошла вперед.
«Нет, нет, этого же быть не может…» – говорил себе Самсонов, следуя за ней, а у самого от ожидаемого несбыточного счастья сердце сладко ныло и голова кружилась.
Но несбыточное оказалось возможным. Они вошли в собственный будуар Скавронской, слабо освещенный висящим с потолка розовым, матового стекла, фонарем. Сквозь розовый полумрак Самсонов различил лишь стройную женскую фигуру, которая при входе их быстро поднялась с диванчика, но на полпути, как и он сам, приросла к полу.
– Что, деточки, не узнаете уже друг друга? – спросила Скавронская. – Познакомьтесь опять, не буду мешать вам.
И она удалилась, неслышно притворив за собою дверь.
Недаром назвала она их деточками. Как двое малюток, которым приходится в первый раз свести знакомство, они стояли друг против друга, не зная, с чего начать. Самсонов первый нарушил молчание.
– Вы еще здесь, Лизавета Романовна? А я было уже думал, что вас увезли…
– И увезли бы, если бы… – тихим голосом начала тут и она, не поднимая на него глаза, но, смутившись, поспешила на полуфразе заговорить о другом. – Ах, вот что, Гриша, скажи, был ты у Ломоносова?
– Был. Что это за умная голова! Что за душа-человек! Он достал мне из академии разных хороших книг…
– Чтобы сделать из тебя тоже ученого?
– Нет. «Не всем быть учеными, – говорил он мне, – матушке-России нужны также и деловые люди». А так как у меня больше всего склонности к деревенскому хозяйству, то и книг он раздобыл мне по этой же части.
– А где ж ты займешься опять своим деревенским хозяйством? Не в Лифляндии же?
– Зачем в Лифляндии, когда Михайло Ларивоныч делает меня управляющим своим новым поместьем да когда рядом у меня будет и своя собственная усадебка.
– Господи, как я за тебя рада! Но кто же и когда подарил тебе эту усадьбу?
– А сейчас вот только государыня императрица.
– И дала тебе также вольную?
– Не только вольную, но возвела меня и в потомственные дворяне.
– Правда? Теперь тебе, Гриша, кажется, желать уж нечего…
– Окроме одного, главного, Лизавета Романовна…
Он не договорил. Она подняла на него глаза, и взоры их встретились. Тут она поняла и, чтобы скрыть свое замешательство, спросила:
– А что твоя рука? Я все не могу забыть, что тебя тогда ненароком укусила.
– Она давно зажила.
– Покажи-ка.
На руке у него оказался только маленький белый рубец. Не успел он отдернуть руку, как Лили прижала губы к этому рубцу.
– Что вы делаете, Лизавета Романовна! – вскричал Самсонов.
– Теперь совсем заживет! А в деревне у себя один ты не соскучишься?
– До смерти соскучусь.
Она протянула ему обе руки.
– Так я поеду с тобой. Но дворянство твое, знай, ни при чем. Ты и так был мне всегда люб, и я пошла бы за тебя даже за крепостного…
Когда немного погодя Самсонов вышел из дворца на свежий воздух, он был как в хмельном чаду. Без определенной цели пошел он бродить по двадцатиградусному морозу. Будь тридцать, сорок градусов – внутренний жар в нем и тогда не остыл бы. Ему надо было во что бы то ни стало поведать кому-нибудь о свалившейся на него с неба благодати. Но кто поймет его? К Ломоносову ночью не толкнешься. Разве завернуть к старику Ермолаичу?
Немало удивился тот, когда в полночную пору к нему ворвался его прежний юный товарищ. Но когда старик узнал еще от него про царские милости да про его предстоящую женитьбу на родовитой баронессе и писаной красавице, он руками развел:
– Вот счастливчик-то! Ну, подумайте! И что же, ты повел себя с нею заправским женихом, обнял ее и расцеловал? Аль не дерзнул, духу не хватило?
Счастливчик в ответ смущенно только улыбнулся.
– Так что же, сказывай.
– Я вот что скажу тебе, старина, – признался тут Самсонов. – Стой тогда позади меня палач с отточенным топором, чтобы мне сейчас голову срубить за мою продерзость, я точно так же обнял бы, расцеловал бы ее крепко-накрепко, мою ненаглядную и желанную!
– Ну, подумайте!









































