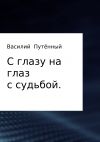Читать книгу "Двое на всей земле"

Автор книги: Василий Киляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Василий Васильевич Киляков
Двое на всей земле
© Киляков В. В., 2024
© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2024
«Светлые дали» Евсеича
Человек – несомненно и безусловно и честен, и прав, когда все как будто бы и «кривые» линии жизни его направлены к пользе народа.
Из размышлений
Наступило жаркое лето, устоялись долгожданные ветреные деньки. Наталья Хломина, всегда опрятная соломенная вдова с приметными, на удивление широкими и чёрными бровями при седых волосах, развешивает на верёвках зимнюю одежду, трясёт, выстукивает, чистит щёткой… И ворчит. И всё из-за этого гадкого полушубка, как она говорила «энкавэдэшного», пропади он пропадом. Полушубок чёрной дубки Наталья тащит с отвращением, крепко схватив за воротник. Седого молодого барашка воротник – всё еще остист и колок, – тащит волоком в дальний угол старого сада, заросшего высокой глухой крапивой. Крапива отцвела и поблёкла, но всё ещё кусается.
Наталья вскрикивает от боли, чешет ужаленные места, ищет глазами сына. Прикусив от усердия нижнюю крашеную губу, тяжко поднимается на носки, накидывает полушубок мехом к солнцу на дубовые колья изгороди и пристально смотрит на пархатый испод: личинки и порхающая моль. Забыв про жгучую боль и густую крапиву, она кидается с веником в руке за кружащей молью, вскрикивая: «Зараза! Вот пакость-то какая навязалась!»
Единственный сын Натальи, Юра Хломин, сидел на низкой садовой скамеечке под раскидистой молодой яблонькой, глубокомысленно курил, казалось, не слышал голоса матери.
– Иди-ка глянь-ка! – вскрикнула Наталья. – Ты только полюбуйся на своё!.. – теряя терпение, звала она Юру. – Полюбуйся на своё имущество!
Юра в синих широких армейских трусах, босой, ровной мягкой походкой военного подошёл к матери, разводя крапиву по сторонам. Наталья, запрокинув седую голову, посмотрела на сына, как на гору или вершину высокой яблони. Карие у неё глаза, пронзительные.
– Вот, полюбуйся… Нет, ты на рукава погляди… Наказанье. Сил моих нет воевать. И никакая отрава не берёт: ни антимоль, ни табак, ни керосин, ни лаванда, ничего, хоть плачь! И висит, и висит. И не нужен вовсе он, этот полушубок. Моль кинулась на зимнюю одежду, шапки, ковры, до сапог добралась… Нет, ты не отворачивайся, ты гляди! Все сожрёт, останемся без шапок, без воротников… Нынче, сам знаешь, одежонка-то кусается, поди-ка купи её, зимнюю одежонку…
Наталья выговаривала, строчила, как из пулемета, скороговоркой. Юра, не говоря ни слова, полез пальцами в ворс. Уж как неказист, кургуз полушубок, рукава залоснились, блестели на солнце, засмоленные грязным блеском, кое-где из прорех выбивался наружу седой ворс. В подмышках начисто выпал и только на спине и подоле всё ещё был жёстко остист. Даже неопытным беглым взглядом можно было определить, что полушубку лет пятьдесят, а то и шестьдесят.
– Доброго слова не стóит. Кинь на дорогу – ни едина душа не подберёт, – ворчала Наталья, брезгливо тыкая веником в личинки и серый помёт. – Кобелю на подстилку не годится…
Юра молча глядел на полушубок, думал о чём-то, покуривал. И вдруг, на удивление матери, запел тихо, нудно:
Моль, моль – вредная букашка,
Моль, моль – маленький жучок,
Где ни сядет – всюду тянет,
Тянет и сосёт…
И эта глупая, не к месту песня почему-то доконала, взорвала Наталью. Карие глаза её налились слезами.
– Запоёшь зимой-то! Запоёшь по-другому, – не спуская с сына глаз, запричитала Наталья. – Копила, собирала по рублику, каждую тряпочку берегла, экономила. Ты погляди на мою шапку, она денег стоит! И всё из-за какого-то полушубка военного, энкавэдэшного…
– Да брось ты, мать, – отзывался шутливо Юра, обнимая Наталью за плечи… – Это же вещи, покупаются и продаются… Вещи не стоят слёз.
– Да?! Не стоят слёз? Ка-акой богач! – Наталья раскинула короткие, маленькие, как ласты, пухлые белые руки. – У тебя же ничего нет – гол как сокол, а тебе жениться надо, семью заводить… Отвези ты его за ради Бога владельцу, – скидывая с плеч тяжёлую руку сына, взмолилась Наталья.
– Ладно, отвезу, говорил же – отвезу…
– Когда? Отвезёшь-то? – смаргивая набегавшие слёзы, твердила Наталья.
– Сам напрошусь в командировку, заменю кого-нибудь из наших. Да и пора навестить старика, отблагодарить…
– «Отблагодарить!» За что? За моль? Говоришь чего-то как пьяный. Ходишь по саду как во сне… Женить тебя надо, вот что…
Полуденное солнце палило и жарило. Старый сад блестел листьями, млели головки ярко-алых роз, в юбках соцветий и в цветах работали пчёлы. Сквозило в густоте яблонь и груш – ясно и мило – такое близкое, точно стираный хлопок – синее небо. Не смолкали голоса птиц. Юра отыскал в сенцах бутылку с керосином, ветошку, распластал полушубок и принялся чистить, протирать загаженный ворс и верх чёрной дубки. То, сидя на пятках, то – на коленях, он хлопотал над полушубком, и тут глубокое раздумье застигло его. Он не чувствовал ни запаха старого полушубка, ни керосина, не видел матери, горестно глядевшей на него. «Моль, моль… – тихо пел Юра, – вредная букашка…»
– Он живой ли, старик-то? – успокоившись и устроившись на ступенях крыльца, спросила мать.
– Какой старик?
– Да этот, который дал тебе полушубок-то, в Заозёрье-то?
– А-а! Дядя Фома-то! Фома Евсеич… Живой, вот только болеет… Ко Дню Победы, ты же знаешь, письмо прислал. Поздравил и меня. И про полушубок помянул, оставь, мол, на память…
– Нет уж, не надо, скажи: спасибо. Он что же, инвалид, что ли?
– Инвалид. Всю войну прошёл от звонка до звонка и после войны хватил лиха, бандеровцев ловил, «лесных братьев».
– Офицер, энкавэдэшник?
– Да, до сих пор в штанах с лампасами ходит, знаешь, такие тёмно-синие с голубыми тонкими полосками. Хороший, душевный старикан. С таким я бы пошёл в разведку, жаль, что мало у нас таких стариков осталось.
– Про них вон нынче говорят и пишут не больно того… Пишут, какие герои они были. Убивали ни за что, ни про что, издевались над заключёнными, душегубцы. Даже песню сложили такую, баба в короткой юбке, исподнее видать, поёт и пляшет: «А ты – не лётчик…» И прочее такое. На работе как послушаешь разговоры…
Юра поднял голову и искоса взглянул в лицо матери. И тут Наталье надо бы помолчать, а она понесла без остановки:
– Как же, читала! И начальство энкавэдэшное всё подлое… Ежов, Ягода, Берия… Наворочали дел, волосы дыбом. Вот я и думаю: полушубок-то, может, в крови людской, невиноватой? Вот моль-то и точит, она, моль-то, видать, не дура… Точит в отместку. Чует кровь.
– Чево, чево-о?
И тут Юра, как говорят в таких случаях про молодых и горячих, закусил удила. Сжимая ветошку с хрустом в суставах, простуженных в армейских караулах, – так, что меж пальцев потекли грязные ручейки, резко встал, порывисто бросил мокрую тряпку на полушубок, шагнул к матери. И, оседая, заглядывая ей в глаза, зло и по-солдатски отчётливо заговорил:
– Слухи? Всё слухи! Все Разгона читают, проштудировали «Архипелаг» да Шаламова. Это его «Непридуманное» – и я читал. А там одно только и есть про то, как Лев Разгон обиделся… На всех обиделся. На Советскую власть. Сел за тестя, за сомнительные делишки и рассвирепел. Они все обиделись, когда их за ж… взяли. А когда в Кремле они пили, гуляли, с бабами красивыми спали, подворовывали – тогда они, конечно, молчали. Это ведь они, молчуны и сластолюбцы, наплодили ежовых, берий, ягод. И других воспитали, помельче, но ещё более жестоких, неумолимых, бессовестных… И на кого всё свалили? Я так спрошу: на кого всю вину свалили? На Сталина. На мёртвых валить безопасно. Трусы они…
– Да что ты, что ты… С ума сошёл, что ли? Чего ты на мать-то орёшь… Я тут при чём?
– Не знаешь? А ещё всё свалили на стрелочников, на «вертухаев», «малорослых», «рябых», «коротконогих», на тех, кто вовсе не при делах. И на того, кто на остановке снимает с себя полушубок, как ты говоришь «энкавэдэшный», и спасает от неминуемой инвалидности твоего сына, а то и от смерти. И кого спасает? Совершенно незнакомого. Меня, например. И ты знаешь об этом, помнишь, как я поехал в полупальтишке, в полупердончике и ботинках. У меня, кроме этой одёжки и обувки, не было ничего. Да я уже чувствовал: замерзаю, не выжить. И стояли, и мимо проходили. И вздыхали, и сочувствовали. А вот этот «энкавэдэшник», «вертухай», инвалид – снял с себя полушубок, надел мой полупердончик. А уже ночь наступила. До посёлка добрых три километра. Да и гостиницы там нет, завод номерной, Сибирь, не пустила и в проходную погреться «вохра». Даже удостоверение не помогло. А там, в удостоверении-то, написано: «Оказывать всемерное содействие и помощь фельдъегерю в исполнении возложенных на него обязанностей…» Не стало власти, и удостоверению веры не стало. А с ним, с «энкавэдэшником», – пустили. С одного слова, с одного взгляда. Вот тебе и «вертухай», вот тебе и надзиратель-конвоир-надсмотрщик.
– Ты говорил, я вспомнила… А что же по удостоверению не пустили?
– Такое удостоверение, так уважают государевых людей на службе и при исполнении с некоторых пор… Сказали, в любой подворотне напечатать влёгкую можно теперь. Нет уж, выслушай, а то забудешь опять. Так вот этот «энкавэдэшник» убедился, что сходить мне некуда, только в морозную зимнюю ночь сибирскую. В автобусе уговорил ехать к нему, одинокому больному человеку. И там он налил в тазик воды холодной для ног и отмачивал обморожения мои, потом выпросил у соседки-староверки гусиного сала, смазал ноги, и руки спас мои тоже. И под этим полушубком я спал до утра… Едва-едва отошёл, отогрелся…
– Я вспомнила, не говори, ты же не был таким…
– Нет уж, слушай. Ты хотела сказать: не был таким жестоким? Ведь так? Я жестокий весь в своих родителей, в тебя… В мир этот жестокий. Вон наш сосед, три ходки сделал и всем говорит: «…Ни за что сажали…» А напротив живёт ещё один, матрос, весь зад, как говорят, в ракушках… Тот, что на деревянный бушлат дышит уже лет десять, а как выпьет, всем рассказывает, плачет: дважды давали по пять лет, сидел «от звонка до звонка». Обижен он? Обижен! «А за что посадили? Да, украл, но ведь и копейкой не попользовался!» А украл на миллионы… Тогда и взяли. А теперь время иное пришло, «во всём Хозяин и его окружение виновато», вот и отпустили. Теперь их тысячи, развели жулья. Они как вот эта моль на полушубке – всё источили, испортили, обожрали.
– За что он сидел-то? Анисим-то?
– И совсем ни за что! Отец и братья валенки катали, нужна была шерсть. Он был снабженцем. И с шубно-овчинного завода машину шерсти увёз. Накрыли. Пять лет.
– А второй раз?
– Во второй раз то же самое, в прошлую войну машину американских консервов спёр – снова червонец. Ну, это далёкий разговор. Давай-ка о нас поговорим. Так вот, я, твой сын, тоже «энкавэдэшник»? И вот такие носил полушубки. И служил в конвое… Выходит, и на мне кровь «невинная»?
– Ты же писал, что служишь в унутренних войсках…
– «Унутренних»… Это они теперь «унутренние», а тогда их называли «энкавэдэ». От названия ничего не меняется. Служба одна и та же. И что? Оказывается, я, восемнадцатилетний, по нашей Конституции должен был служить, с меня взяли клятву на верность родине и народу и обязали охранять заключённых. Почему обязан? Кто обязал? Народ, закон, Конституция. И почему этим «поганым» делом должен был заниматься именно я? Заключённые воровали, убивали, насиловали, а я, деревенский парень, который до службы ни сном ни духом не знал про эти их дела и делишки, – и должен, и обязан даже с ними мёрзнуть, кормить комаров… А? «Вертухаи» – они не убивали, не грабили, не насиловали, а, оказывается, обязаны мёрзнуть с этими негодяями разного масштаба. Страдать, голодать, кормить мошку и наживать болезни. Почему так, а? А ещё бывает – и жизни лишаться. За что? Во имя народа? Чем же одарил их народ? Почестями, наградами, может быть, добрым словом? Нет, «энкавэдэшник», «вертухай», «малорослый», «кривоногий», «серый», «стояк»… Вот и вся награда! И выходит так, что даже родная мать не понимает и говорит про своего же сына фиг знает что…
– Не говорила я… Не знала, чего это ты… Вот окрысился на мать родную.
Юра с нервной дрожью гнутыми пальцами вытащил сигарету, чиркнул зажигалкой, закурил и, выпуская синий дым, нервно раздувая ноздри, вдруг почувствовал какую-то острую внутреннюю пустоту, тоску. Ясно ощутил, что бесполезно кому-то и что бы то ни было объяснять, даже матери. И опять, как уже много раз в жизни, почувствовал мертвящий холодок одиночества.
…Шум сада, блеск солнца, шелест трепетной листвы… А он как будто заглянул в пропасть…
…У Натальи всё валилось из рук, жалела она, что связалась в воскресенье с сушкой одежды, завязала разговор о моли, этой вездесущей моли… Недаром же верующие люди в воскресенье отдыхают, не работают. Грех…
– Что правит миром?.. – сдерживая волнение, крикнул Юра.
– Ой, отвяжись за ради Бога… Уже и сама не рада, что упрекнула тебя тулупом этим.
– А я тебе скажу, что правит миром: жестокость! Должностные лица «в рамках закона», преступники в беззаконии. Чиновники всех ведомств – личинки, и «интеллигенция» так называемая – те же личинки. Моль, порхающая на просторах философских идей. Из них лучшие-то – как раз и есть «вертухаи» простые. Они следят, чтобы эта зараза, эта моль не расползлась по всей стране. Они жизнями своими рискуют. Судьбы у всех поломаны, условий никаких. А благодарность, ну, кто они, так сказать, «в миру»: Цербер, Гоблин, Торчок, Шустряк, Стояк, Нянька… Интеллигенция… Она и развалила империю, по сути, совершила суицид. Она, интеллигенция эта самая, – она же не кормит даже себя, своими руками, мозгами… Не то, что ещё кого-нибудь. Потребляет труд других… Трутни. Моль… А претензии? Сталин – чудовище! Если поверить, даже на столько сойти с ума, что согласиться… Но кто же тогда шесть миллионов доносов друг про друга настрочил? Сталин, так, что ли?
– Далеко тебя понесло, стыдоба моя… Хватит на сегодня, давай-ка лучше закончим с одёжкой. Больно уж далеко шаришь, в историю дальнюю. Да успокойся, уймись, люди мимо ходят, совестно…
– Можно и поближе, не на историческом, а на семейном, так сказать, уровне… – Юра сел на тёплую траву, банку с керосином отставил в сторону, чтоб не воняла. – Можно и с нас с тобой начать, с нас самих, это поближе. Вот вы – отец и мать, мои родные, кровные… Сколько помню себя, всегда ссорились, не проходило выходного дня, чтобы я не убегал от ваших скандалов. Вы постоянно чем-то были недовольны, что-то делили, считали деньги, расходились, сходились… И когда я возвращался домой вечером – срывали зло на мне, это как? Не жестокость?
– Что ты, какая жестокость, тебя ни разу ремнём не били ни отец, ни я…
– Вот видишь, мама… Прости, но ты и сейчас не понимаешь, о чём речь. «Ремнём не били…» А жил я среди вас как избитый. Вам вместе всегда было тесно. И вы наконец разошлись от греха. До беды недалече было, перегрызлись бы, а то и хуже – ножами бы перерезались… Конечно, делёж приспел. Квартирка в городе. Наследство.
– Нет, ты невыносим, я больше не могу слушать, – Наталья вытащила из-за пазухи платок, слёзы душили её. Сморкаясь и всхлипывая, зачастила: – Я только и живу для тебя, каждую копейку берегу…
– Мам…
– Перестань ради Бога, прошу тебя… Вот ты – так уж действительно жестокий. Испортили тебя в армии…
– Не знаю, что меня испортило и кто. Дом или Княжин Погост. А может, я просто слаб. Слаб в коленках, как говорят. Надо бы сдерживаться или пропускать мимо ушей. Но ты же мне залезла в душу вместе с полушубком и молью на нём… «Энкавэдэшник», а сами-то, праведники, так, что ли?
Наталья ручьём разливалась, плакала. И небо уже не виделось близким и голубым. Всё казалось чужим, враждебным; и сын, и ослабшее солнце, и кривые тени деревьев, косые и спутанные. Листья замерли как перед грозой. Загорелось единственное стекло амбара ослепительной позолотой. С центральной улицы пробивался шум троллейбуса, а тут по деревянным тротуарам стучали каблуки прохожих, равнодушных и к ней, и к сыну, и друг к другу, ко всему…
Тревожный день завешивался багровыми облаками, а в саду стоял полусумрак от густого вишенника. Пьяный сосед, держась за частокол, пробирался к своему крыльцу, а кобель, дремавший возле конуры, вдруг кинулся на него, дёргая и гремя цепью, угрожая сорвать натянутую проволоку.
– Сволочь… – выговорил пьяный и загнул такой мат, отыскивая глазами камень, что запутался сам, забыл, что плёл и в чём упрекнуть хотел соседей.
– Отрыж! Фу! – крикнул Юра на рыжего алабая. Так громко и неожиданно, что Наталья, сидевшая на скамейке у крыльца, вздрогнула и поспешила в сенцы, хлопнув дверью.
– А-а, гэбэшник, – трудно ворочая языком, простонал сосед, вцепившись в городьбу грязными, в наколках, руками. – Дома сидишь, сад караулишь? Шмотки?
– Иди, душегуб! – сдерживаясь, чтобы не двинуть соседа, отвечал Юра. – Иди, а то до крыльца не дотянешь…
– Убери кобеля, а то застрелю… У меня ствол есть, в два счёта уработаю.
– Тебя самого давным-давно надо застрелить, целошник. Четвёртая ходка тебя ждёт, и пересылка на коленях. Распустили вас, Сталина на вас нет, он бы тебя прижухнул.
Кобель кидался на пьяного, Юра с трудом держал его за ошейник. Хлопнув щеколдой, из дверей выскочила соседка и закричала на Юру матерно, тоже вечно пьяная, сухоногая от запоев и дерзкая, – она у него пятая, он у неё шестой. Нюра сидела два раза, и всё же в торге работает.
– Собакой травить? – нарочно орала она на всю улицу. – Гэбэшники проклятые! Сейчас на вас управа есть, отошло ваше время! К стенке вас, к стенке…
И тут быть бы драке, если бы не Наталья. Спотыкаясь на дорожке, она успела добежать до сына, озираясь на собравшихся прохожих. И странно было слышать беспорядочные разговоры случайных людей: обвиняли не синюшников, не пьяниц, а Юру: «Зачем связался», «Пьяного Бог сторонится»…
– Пойдём, пойдём домой, – тащила Наталья сына… – Ишь, народ собрали… Пойдём же…
А соседка-маруха спала ли она до того, загорала ли, – кто её знает, сама как с цепи сорвалась: в купальнике на маленькой, высушенной зоной груди, забыв про кобеля, изводилась на брань. На ляжках наколка: «Свобода!», чуть ниже пупа: «Равенство!», а на груди – «Братство!» И приняла от «супруга» папиросу, оторвав зубами бумажный мундштук, сплюнула. Жёстко затягиваясь дымом, по-мужски отставив в сторону ногу с крашеными ногтями, продолжала:
– Людей собакой травят. Я его отравлю, твоего алабая. Пойдём, Коля, пойдём, милый… Власть взяли гэбэшники, опять их взяла… Ничево, ничево. Трупоеды… Пожиратели невинных и сирот. Мало они народа постреляли, в ямы закопали, теперь собак завели, гады, на людей натравливают…
Послушного, с мокрой ширинкой, невменяемого Колю соседка тащила, оглядываясь, встряхивала супруга, напившегося без неё и нависавшего с мотавшейся головой и с недопитой бутылкой в кармане. Ей помогали сердобольные, неодобрительно поглядывая на Юру и Наталью.
– На-ка, на-ка, я и тебе оставил, Нюраха. Я человек и ты человек! Мы – люди, а остальные – гэбня!.. – еле ворочая языком, матерился Коля в короткие минуты передышки. – Всех на печь загоню, будете сухари грызть…
…В дом пришли сутемки, темнело от надвигавшихся туч. Наталья налаживала ужин. Юра надел штаны и рубаху, в шлёпанцах вышел в сад таскать одежду. Солнце уже закатилось, небо поблёкло и приблизилось. Ныли комары. Липли к голым местам, жестоко впивались в руки, лицо, шею. Юра охапкой затащил в дом одежды, вышел в сад, сел на любимую скамью в ожидании ужина.
Был весенний час медленно умирающего дня. Ни единый лист не шелохнётся, не вздрогнут головки роз, роняя лепестки. Лишь изредка сорвётся яблоко, хлыстнет по листьям и упадёт с глухим стуком, где-то пропоёт мотором легковушка, и снова тихо так, что слышно отчётливо, как трещит на реке чей-то спиннинг.
В сознании всё ещё неприятно ворошились события дня: моль, полушубок, мать, Коля и маруха его с наколками. И томила тоска от этого разительного контраста существования: чарующая природа, созданная Богом для благих дел, и… вот они, эти люди.
Стукнула створка окна, мать позвала ужинать. Юра тяжко, как старик, – болели обмороженные ноги – встал со скамейки и пошёл в кухню. Ели молча гречневую кашу, запивали молоком.
– Прости меня за ради Бога, сынок… – отводя в сторону взгляд, сказала мать. – Я найду место для полушубка, пусть лежит в сенцах.
– Это ты меня прости, мама… Я не сдержался… А полушубок я завтра отвезу старику, выкрою командировку. Дед Фома хоть и не велел возвращать его, всё же чужую вещь надо вернуть. Да и совестно: старик, надо навестить, как сына меня привечал.
Так они сидели в полутьме – родные, близкие друг другу люди. Юра обнял мать, ощущая всю её, лёгкую, беззащитную, хрупкую. Каждую косточку её и стать.
– Собрать тебя, что возьмёшь?
– Да ничего, полушубок заверни. В какую-нибудь чистую тряпицу – яйца, колбаски, сальца. Завтра я что-нибудь выпить куплю ему, гостинец. Коньячку французского было бы неплохо.
– Это за двадцать тыщ? – обмерла мать.
– Дешевле хорошего не найти.
Юра укладывался спать. Мать всё ещё хлопотала по дому: стучала крышкой кованого сундука, скрипела дверью, звенела посудой. И вновь ему стыдно стало за раздор с матерью и за то, что связался с соседями. Завелась теперь привычка думать по ночам, когда, хоть глаз коли – темно… И вновь видел он эти лагеря, надоевшие по срочной службе… С дремучими лесами, с опутанной проволокой-запреткой, с зэками на крышах бараков, машущими шапками проходящим мимо зоны поездам и пролетающим самолётам. Корявые хромые вышки по углам зоны, серые заключенные с картузами.
«Истрепал нервы или приобрел чувствительность в этих лагерях? – думалось Юре. – Кого на самом деле больше наказывали, заключённых или нас, бедолаг? Впрочем, прапорщики и офицеры живут не лучше вохры солдатской. Те хоть могут уволиться вчистую на дембель или по болезни, если постараться, а офицеры? Ну чем они провинились? Двадцать пять – как медным котелком греметь до пенсии. Глядеть каждый день на серых злых, ненавидящих всё и вся “з. к.” – насильников, воров, убийц. Водить их под конвоем и всегда чувствовать опасность в любую минуту, в любой миг быть посаженным на какую-нибудь заточку арматуры или получить в бок электрод, нож, а то и пулю. И такая короткая жизнь, и много передумано, и пока ничего светлого. Нет чистого ничего, а всё какая-то грязь. “Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок…” Может быть, попробовать поступить хоть бы в институт? Попытка – не пытка…»
– Юра, сынок, спишь?
– Не-ет, а что?
– В сумку уложить полушубок или в рюкзак?
– В сумку, ту, что с лямкой.
– Ладно, ладно, спи…
В понедельник Юра Хломин пошёл к начальнику Филипенко. Начальник, маленький, толстый, с кудрявой головой, неестественно белыми руками, неприятно тонкими и такими нежными, что можно сосчитать каждую жилку, был на месте. Юра знал переменчивость настроения его: то на удивление весёлый, беззаботный, такой, что «всё до лампочки», то не в меру и даже напоказ властный, жёсткий. Не начальник, а плохо обработанный после родов пупок младенца: как ни прикоснись к нему – всё не так и с болью. (Начальника так и звали между собой – Пупок). В такие дни к нему не подступись: этот «Пупок», «Чайник», маленький тиран становился упорен. «Я сказал…», «Я не потерплю…», «Я не люблю, когда в моей тарелке ночуют мухи…» И так всё: «я, я, я…» И все знали: выдвинуло его начальство под досмотром родственника из полковников-отставников. Ждал он повышения, подъёма по лестнице того самого «курятника», где стараются, по его же словам, как на насесте, на птичьем базаре: взлететь повыше, клюнуть ближнего и обгадить нижнего.
Юра пришёл на службу в центр спецсвязи рано. Поставил сумку «самосвал» возле двери, рядом с мусорным ящиком, чтобы не было слышно керосиновой вони от полушубка. Сам присел за рабочий фельдъегерский стол (стол сварен со стулом вместе). Здоровенные ребята грузчики, ходившие туда-сюда с автоматами, дула которых тупо торчали из-под защитного цвета бронежилетов, – поздоровались сочувственно (с утра к начальнику, значит, у парня неприятности). «Идти или не идти», – вертелась в голове мысль. Вовремя войти – значило добиться желанной командировки.
Между тем солнце разгоралось. Лакированные стенды с указами, приказами, законными и подзаконными актами под стеклом горели жарко и ярко, пахли подсолнечным маслом – от распущенной жарой краски в недавно выкрашенном коридоре. Постучав в высокие двери, оклеенные «под дуб», он услышал «да». За дверями была ещё одна дверь. И эти двойные двери начальства особенно были неприятны, они как будто задуманы предупреждать, что ты гораздо меньше, чем тот, к кому идёшь. Открываешь дверь, ожидаешь увидеть начальника, а вместо этого – тупик и опять дверь. От подслушивания, что ли? Или так: открыл решительно первую с твёрдым намерением найти правду, а – вместо кабинета – вот она, вторая. В молчании незыблемом своём предупреждает категорически от глупостей: «Ты куда, оно тебе надо? Не ходи, остынь, подумай, не трать нервы. Всё равно справедливости не найдёшь…»
За вторыми дверями, на той стороне стола подле стопки бумаг сидел шеф. Окна были раскрыты, и тут тоже светило солнце, а из кондиционера капало на подоконник в оцинкованное ведро дистиллятом. Словом, всё так, что невольно думалось: «Неплохо устроился и этот…»
– А-а-а, Юра, проходи, садись!
Начальник отложил ручку в сторону, серо-зелёные глаза его блестели. На широкое, бледное одутловатое бабье лицо просочилась улыбка. На нём белоснежная рубашка с обрезанными выше локтя рукавами, подтяжки были так натянуты, что, казалось, вот-вот лопнут; брюхо так и просилось на низкий стол. Сцепив узкие руки замком, шеф улыбнулся, показывая мелкие хорошие зубы от умелого стоматолога. Пахло дорогим, тонкого аромата одеколоном «Консул».
– Сижу вот как каторжный. Та республика отделилась, эта стала автономной. Названия городов меняют, улиц – тоже. Теперь уже не Кишинёв, а Кишинеу, изволь посылать отправления как хочешь, а попросту говоря – швах, – он говорил тихо и значительно. – Сижу и подновляю в местных инструкциях кое-что о правах и обязанностях в службе спецсвязи. Новый план инструкций. Ты парень шустрый, вот послушай, что не понравится – поправь.
И Филипенко начал журчать тихим прозрачным голоском, таким казённым и скучным, что Юра беззвучно, как говорят, «маленьким язычком», начал ругать себя за вход к начальнику. И когда тот закончил и выкатил на Юру большие тёмные, с белками, как облупленные яйца, глаза, и молча как бы спросил: «Ну, каково?»
– Годится, – сказал Юра. – Только вот что-то прав мало, а обязанностей навалом. Никто не пожелает жить по новой вашей инструкции. Но примут, конечно. А куда они денутся. Будут молча недовольство копить. Незаметно. И не поймёшь, кто преданный работник, а кто только притворяется таковым. Кстати, стало известно недавно, целое открытие: у нас же не только братья Черепановы да Кулибин были… А и аппарат рентген как таковой, оказалось, изобрёл… кто?
– Кто? – удивился начальник? Рентген и изобрёл. Нет? А кто? Кюри? Тоже нет?
– Достоверно доказано: Пётр Первый. Он боярам так напрямую и говорил в семнадцатом веке ещё: «Я вас всех, дармоедов, насквозь вижу!»
Шеф прыснул в руку. Юра, стараясь держать серьёзную паузу, продолжал:
– Как повторял наш «кум» коротко, но принципиально по поводу всяких там инструкций: «У каждого подчинённого есть только одна-единственная, раз и навсегда заданная, нигде не написанная обязанность, – казаться глупее своего начальства».
Юра передал слова «кума» со срочной действительной службы как-то ровно, точно инструкцию читал, и никак не ожидал взрыва хохота начальника: шеф откинул голову к отвалу высокого кресла, круглое брюхо заколыхалось над столом как шар, начиненный гремучим газом.
– Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, – надрывался начальник. – Пётр Первый, рентген… Это так точно, ай, да кум!
Знал Юра слабости шефа – большой любитель «травить» и слушать анекдоты, он записывал их в блокнот, также нравились ему долгие разговоры о слухах и происшествиях. Шеф отхохотался и невольно заразил Юру хорошим настроением.
– Ну, угостил, – смахивая костяшками пальцев слёзы, говорил шеф. – На весь день зарядка. А то сидишь тут, как чернил выпил… Юморист ты у нас, ей-богу, хорошо подпустил… А кто это твой кум-то?
– Кум-то? – улыбаясь, отвечал Юра. – Лагерный начальник по режиму. Это его так «з.к.» звали.
– Поеду в Москву, – не слушая уже Юру, сказал начальник, – своему патрону про обязанность расскажу. «Насквозь вижу…» Да… Хоть посмеётся…
– Не советую, – Юра попросил разрешения закурить и, пуская дым в растворённое окно, думал о командировке, – не советую, и вот почему: примет на свой счёт, может подумать, что это про него.
– А ведь верно! Вот нарвался бы! А ты сказал, надо понимать, про меня?
– Да ну, что вы… Так отбарабанил. К инструкциям вашим пришлось к месту.
– Ты зачем пришёл-то? – спохватился шеф, улыбку на его лице как рукой сняло.
Юра начал рассказывать, заходить со всех сторон, напомнил, как был на больничном, обморозился, будучи в Заозёрье, в этом медвежьем углу…
– Помню! – остановил начальник Юру. – А чего сейчас-то надо?
– В командировку попасть в Заозёрье опять. Полушубок чужой отвезу, а заодно и с делами, какие есть, постараюсь управиться…
– Делов там – тьма тьмущая! – перебил Юру шеф. – Гори синим пламенем эта конверсия и космическая программа вместе взятые. Туда надо мешок «секретов» посылать, да нет возможности. Да ради Бога, ради Бога поезжай, пропади оно пропадом это Заозёрье. Самолётом или поездом желаешь?
– Самолётом, – просиял Юра, – самолётом!
Шеф надавил на кнопку, проговорил по «матюгальнику»:
– Настя, слушай… Выпиши Хломину Юрию командировку на три дня с сегодняшнего числа… На завод пэ-я пятнадцать. В Заозёрье командировочное предписание заготовь и билет закажи…
– Самолётом, – подсказал Юра.
– Билет закажи самолётом, знаешь через кого?
– Знаю, будет сделано, – ответила Настя малиновым голоском.
Когда начальник говорил по селекторной связи, Юра подумал: «Ляд его знает, это начальство! Всё оно может, если захочет. Вот он, пупырышек, пупочек, чайничек, а куда там! Везде у него свои, все его знают в этом городе, “суметь” и “достать”, “заказать и подсказать” – самые любимые его слова, не сходят с языка…»
– Ну вот, дело в шляпе… – потягиваясь и зевая, сказал шеф. – Скоро у нас отберут этот маршрут, этот куст малиновый, решают… Конверсия, понимаешь. «Росатом» теперь под себя всё гребёт, да хоть бы и отобрали, всю плешь проело это Заозёрье. Как командировка – жди неприятности. Ты там осторожнее, в посёлке, что ни дом – химики или бывшие зэки. Завод построили и осели там. Да староверы бывшие, тоже непростой народ. Прямо рок какой-то. Да вот с тобой случай – ты обморозился, а прошлой осенью там у Гали Савиной украли метиз[1]1
Метиз – спец. термин. В службе фельдъегерской и специальной связи отправление «металлоизделие», упакованное по нормам спецслужб.
[Закрыть] с приборами образцовыми, с клеймами. Верно, думали, что там доллары… Ведь выкинули же, гады, за ненадобностью, в чистом поле. А меня за горло по этим делам. И чуть не судили. А лет пять назад в самый разгул химиков произошёл такой случай, до сих пор верить не хочется…