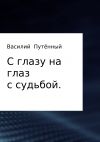Читать книгу "Двое на всей земле"

Автор книги: Василий Киляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Евсеич не сказал, у кого «у них». Но было и так понятно.
– Но ведь и Америка воевала…
– Да. Во Вьетнаме воевала. В Кампучии тоже… Воевала, да… Только ковровыми бомбардировками, чужими руками и на чужой земле. И что это была за войны? Избиение младенцев, раздутое прессой до катаклизма. Там, брат, хорошо подумают, прежде чем своих в ад войны послать, решиться на что-то серьёзное, воевать своими солдатами. Физический урон для них неприемлем не только потому, что они не вояки. Это русский сначала пукнет, а потом оглянется, а там – шалишь…
Юра по-мальчишески засмеялся и пролил коньяк. Опять налили. Меж тем Евсеич горестно вздыхал.
– И заметь, запахнет жареным, все кинутся стелиться под англосаксов. И немцы, которых в сорок пятом от ядерной бомбы спасло только то, что они успели подписать акт о капитуляции. И японцы, горевшие в Хиросиме и Нагасаки заживо. Все под америкосов лягут. Даже сербы – и те, и «братушки» наши болгары… Все перебегут-переметнутся, знаем, проходили и это… Кто больше всех воевал? Немцы да русские. И вот ведь как-то немцы вытащили экономику, а мы достукались до ручки. Почему? Да все потому же: пукнем, а потом оглянемся. Оглянулись – стыдно стало… Обмарались в очередной раз. А как мне обидно, представь. Всю жизнь служил своей стране верой и правдой. Даже семьи не нажил. Эх, брат, и навоевался я! Грехов на мне – не счесть! Сколько душ загубил, столько «в расход» отправил по приказу, что теперь не то, что в рай, в ад не попаду! И в ад не достоин, так, что ли, получается? А почему, оттого ли, что головушку мою заморочили, или от чего другого? А? Вот и живу, потому что никак земля не принимает…
– Врагов же… «в расход», – пригубив рюмку, попробовал возразить Юра.
– «Врагов»… Людей! И теперь вот, оглядываясь, смотришь на всё по-другому. Я знаю эти души, охранял их, водил на работы. Лучше бы многие из них вовсе не родились, а в чреве сгноились… Такие и не должны были жить. Не мне их судить. Так я и не судил. Был приказ привести приговор в исполнение. И всё-таки это были люди… Это ты охранял мелкую сошку, синюшников, воров, ну, может быть, кого-нибудь из «тени». Мелкота, – и тут Фома Евсеич махнул култышкой. – А я имел дело с публикой покрупнее… Меня ночами мучают эти души. Незабываемые лица. Да вот: Сталин и Берия, что их объединяло? Ведь Лаврентия-то «вождь народов» вытащил из низов. Каким делом, чем они были так связаны?.. И почему, когда Сталин умер, Берия радостным голосом крикнул будто бы своему шофёру: «Хрусталёв, машину!» Нет, тут были дела, возможно, ещё при Ленине. А возможно, и до него. Загадочные кавказцы. Прямо скажу – загадочные. И расстреляли Лаврентия подозрительно быстро. Одни говорят, из пулемёта прямо в окна, потом в ковёр завернули тело и вынесли. В центре Москвы, на Никитской. По приказу Никиты, торопился очень расстрелять. В окна из пулемёта расстреляли, а судили подставного, который лица не показывал, шарфом прикрывался… А Сталин с Берией работали над проектом по атомной бомбе. А Никита испугался… Чего он испугался? Значит, было чего пугаться. Другие пишут, что Маленков всё подстроил, вроде бы пост министра железных дорог прочили Берии, а не расстрел, да всё пошло не так, как следовало. Ящиками сжигал компромат Хрущёв, торопился, а расстрелял будто бы сам Конев на Малой Никитской в особняке…
– Жуков, он признавался, был нужен как авторитет именно Жуков. Сам писал об этом, как два часа ждал сигнала от Хрущёва в подвале, а вверху в кабинете Маленкова проходило заседание ЦК КПСС…
– Не верь, ложь. Берию кончил другой кто-то, на московской квартире. Когда Жуков будто бы брал Берию, того уже не было на свете. Двойника брали. Спектакль. Хоть Жуков и сам мог о том не знать. Я вот эти дела расстрельные, крутые, знаю из первых рук. Так быстро идейных и тогда не стреляли… А судили двойника, повторяю… Половина лица всегда была закрыта на суде шарфом, чтобы ни по подбородку, ни по голосу не разобрать, кто это. Берия спас мир от атомной войны. Но ты посмотри уровень и требования дисциплины – взять, вот хоть ты и Берия – а в расстрельную комнату извольте под белы руки… А теперь? Вор. Четыре убийства на нём, миллионы выкрал у государства, но он свой, поэтому на воле.
– Далековато хватил, полковник, – сказал Юра, как бы норовя убавить сердечный огонь Евсеича, принимая дальний прицел за простой трёп.
Про конвойную службу, про службу надзирателем Евсеич не любил рассказывать. Но что-то сегодня зацепило за живое.
– Дело прошлое… были дела. А с чего всё началось…
– С чего?
– Да с малого. По комсомольскому набору пошёл служить. Вот как ты после армии в свою фельдсвязь. В то время модно было, шли в авиацию, во флот. А меня в энкавэдэ занесло. Это мне, конечно, так казалось, «просто» занесло. А время было страшное. После убийства Кирова – очередная чистка рядов партии. Троцкисты, подпольные организации – это не выдумка и слухи: «до родного вождя» добираются – не были лишены оснований. Слушай, Юра, мне очиститься хочется, душа горит! А-а, всё равно скоро туда, под бугор. «Геместир» или «Готтосакер». А как у нас говаривают: «домой, под сосёнками на погосте»… Знаешь, теперь предстоящая смерть мучить стала. Раньше думал: «дело правое», а теперь, веришь ли, земля уходит из-под ног…
Евсеич шоркнул рукавом рубахи по глазам, отвёл взгляд в сторону растворённого окна. И только тут Юра заметил, что у него странные, трагические уши – как свинухи осенние – большие, прилизанные назад, к затылку, и раковины ушей диковинного излома, как у борца. И лицо трагическое, невозможно смотреть: лоб и виски чуть ниже испаханы шрамами, в глубоких морщинах – чёрные жирные линии, как у старых шахтёров; под глазами набрякли тяжёлые мешки. Узкие плечи овалом, и рубаха казалась не по плечам, и только крепкая челюсть свидетельствовала о несокрушимом характере…
Высокий, сдвинутый назад косой лоб тоже в морщинах, и всё лицо косое, овалом – в яйцо… Нет, это лицо не злодея – это лицо исстрадавшейся, смертельно усталой души…
– По нынешним временам, – говорил Евсеич, и в горле его стоял ком, – по нонешнему, если верить печати, меня надо расстрелять, как собаку бешеную, «шлёпнуть», как мы тогда говорили… В конвое, в тюрьмах надзирателем, исполнителем высшей меры. Стычки с бандеровцами. «Лесные братья» мину на тропе устроили, и тут только я успокоился, в госпитале, думалось: на веки вечные. О, Господи, сколько довелось перестрадать… И как ещё тогда, в команде особого назначения, не пустил себе пулю в рот? А сколько было на моей памяти этих «особистов»! Стрелялись, вешались, сходили с ума… Лет десять по уходе из органов ни одного не встречал, кроме врача, где они?.. Да и я сам давно дышу на домовину. И, слава Богу, дело к развязке, сколько можно страдать? И за что?.. Но, знаешь, за что обидно? Эти… нынешние…
Часов около двенадцати, когда горели редкие огни в домах, укладывались спать, чекисты и не думали тушить свет. Изрытая огнями тьма за окном не спасала от дум, воспоминаний, сколько ни смоли в неё табачным дымом. Висело густое облако, горькое и грозное, хоть топор вешай.
– Ты… Ты был всё-таки палачом? – спросил Юра, вдруг ужаснувшись той бездне трагизма в душе Евсеича.
– Ну да, исполнителем. Чего ты так испугался-то. Не бойся, не застрелю. Так вот: когда уходил, в госпитале проверили меня, посоветовали в Дом инвалидов войны лечь. А врач, мой дружок, так и сказал: «Мой тебе совет: дома помирать». Чудак, ей-богу… Я, говорит, дома буду помирать и тебе советую…
– Да какая разница, где помирать, – сорвался Юра.
– Умер Максим, да и… фиг с ним.
– Да что ты всё про смерть свою, полковник, помереть не мудрено, как сказал поэт: «Сделать жизнь значительно трудней…»
– Сказал и сам застрелился… Некого мне просить, а тебя попрошу, Юра. Похоронишь, как помру? Гробовые есть у меня… Евсеич прятал взгляд.
– Похороню… Вот, помирать он собрался.
– Я уж и место себе присмотрел… И сирень там посадил прошлой осенью, пусть будет в головах… Я ведь ещё до войны начал помирать, когда самого первого «перманентного революционера» уложил, ещё из «ленинской гвардии». И до последнего времени работал в аппарате областной прокуратуры, был старшим помощником прокурора области. Первым старичок был у меня, седенький, невзрачный. И умер он как-то тихо: после выстрела ткнулся так, даже не вскрикнул. А я ночей не спал, думалось: правда, что враг? А кому скажешь? С кем посоветуешься? Бумаги оформлены, с делом дали ознакомиться, и приговор – высшая мера. Бланки с грифом «совершенно секретно» и постановление особого отдела при НКВД…
– И много ты их…
– Помню всех. И хоть специальных инструкций на этот счёт нет, приходилось надзирать за исполнением приговора. Ты знаешь, что такое человек, осуждённый на «вышку»? Если человек приговаривается к расстрелу областным судом, а затем Верховный суд оставил приговор без изменения, в прокуратуру шли так называемые «красные бланки» – телеграммы такие правительственные. После этого я должен был побеседовать с осуждённым и всегда предлагал ему написать прошение о помиловании. Составлял специальный акт, если человек отказывался…
– А что, бывало и отказывались?
– Да, было. Один кричал мне в лицо, рецидивист, брызгая слюной: «Писать к помилованию? Нет, не буду! В тридцать седьмом убили отца, “врага народа”, на фронте погибли братья, так убейте и меня, убейте последнего Сидорина, чтоб уж весь род под корень! Чтоб и следа нашего не осталось на этой земле!» Три покушения на убийства и изнасилование малолетнего. А смерть ему заменили пятнадцатью годами, бывает и так…
– Да, кому быть повешенным, тот не утонет… Так ты, что же, был и священник, и палач одновременно?
– Выходит, что так. Исповедовал перед вратами ада… или рая? Не знаю. А теперь вот тебе исповедуюсь сам.
– Прямо в камере исповедовал?
– Нет, для этого был специальный кабинет. Прямо в наручниках. Исповедовал в наручниках. Кстати, это не мешало говорить по душам. У человека в предчувствии смерти совсем иное отношение ко всему, чем в миру.
– А камеры смертников, они что, страшны?
– Нет, обычные камеры в дальнем крыле тюрьмы. Отдельный коридор с усиленным надзором. В камере по одному, иногда по два человека.
– Говорят, что стреляют по шесть-семь человек солдат, и никто не знает, у кого боевой?
– Ну, это только в фильмах. Исполнитель, нажимая на крючок, знает, что у него боевой…
– Так расстреливает один?
– Не всегда. Как-то раз с приисков бежал человек, рыжий, высокий, такой силы звериной, чутье тоже звериное… Всемером вытаскивали из камеры. Разорвал наручники. Надели двойные…
– А как же он дал себя убить?
– Буйны они только в камере, да и то не все. А извлечёшь из камеры – и он как рачок. Послушен и тих становится. Ведь камера – последняя крепость, оплот, где теплится его жизнь. А затем он приведён на место исполнения; ему объявляется, что прошение о помиловании отклонено, опять шок, покорность. Ставят на колени лицом к стене и стреляют в затылок.
– Что же, стреляют в камере или во дворе?
– Да, в камере без окон, и она длиннее обычной. И стены обшиты досками. Был случай: один с колен увернулся, я промахнулся, и пуля обожгла мне шею. Пол в этой камере ещё при царе был выложен булыжником. Последней была женщина.
– Молодая?
– Для меня – нет. На ней моя карьера и кончилась исполнительская. Когда вёл на место, в коридоре незаметно кобуру расстегнул. Она, верно, поняла, куда ведут, да и понимать-то нечего: чугунные щиты, загородка с отверстиями, пол стальной… Как она обернулась, выкатила сумасшедшие глаза, закричала дурным голосом: «Убийцы, будьте вы прокляты!» Помню, как где-то топали, бежали по лестнице, я выпустил в неё всю обойму, в голову, а она жива, и даже кровь не идёт. Чудовищная живучесть, а может быть, она была невиновна… Сам испугался, месяц отлёживался в больнице, руки дрожали от сомнения. Врачи не знали, в чём дело, думали, от водки…
– А ты не пил?
– Что ты, таких сразу освобождали от службы с дальнейшим надзором. Кстати, садистов тоже… Всё должно было быть в рамках разумного, если только можно считать разумным этот сумасшедший мир… Все же наблюдали друг за другом. Доносили. Нервы, алкоголь, промах… Что ты! Государственное же дело. Что тогда было для нас Государство! «Жила бы страна родная, и нету других забот». Если бы хоть раз позволил себе напиться – быть бы мне алкоголиком. А спивались, и ещё как. Даже один раз побывавшие на месте – и те спивались. Даже женщина – врач и та, то ли нервы, то ли… И ушла навечно. Тот, кто хоть один раз выпивал, – больше не работал. Срывались и так, без бутылки. Молодого дали одного. Он только глянул на меня, а я на него – и понял: ему у нас не работать. Комиссовали его со второго раза: шизофрения. Попал он в психбольницу, но даже в бреду не проговорился ни разу о том, где работал. Вот как нашего брата шпиговали! Что значило: чекист! Да, привыкнуть к чужой вынужденной смерти – невозможно. У меня и у самого в этот день особый сохли губы, пил воду бидонами. Потом, когда вёл, губы трескались в углах рта до крови, знаешь, как у детей от ананаса. Сильно терял вес. Спасался тем, что принимал холодный душ и отвлекался чем угодно. Обязан был ежедневно стрелять или держать на время утяжелённый макет пистолета, чтоб рука не тряслась.
– Что же, снились трупы, хрипы расстрелянных?
– Нет, и хватит об этом… Я считал себя санитаром людского леса. Но раз приснилось, что попал к заключённым. И вот живу среди них, хожу, принимаю пищу. Они не знают, кто я такой, но вот-вот узнают…
– Сколько же всего было смертей?
– Не скажу. Скажу, что однажды, в один год – около ста… Но часто, часто вспоминаю того троцкиста, первого. Маленький, седоватый, вроде бы безобидный… На смерть шёл как-то легко, словно и не его должны стрелять, так его заморочили, что ли…
Объявился ему отказ в апелляции, он как-то ахнул, никак не мог понять, что надо встать на колени… Поставили его… Как-то всё невзрачно. А ведь произошло ужасное. Мир утратил человека. Мир стал беднее на целый мир, ведь как-то хорошо сказал поэт, что умирают не люди, а миры… Мне даже кажется иногда: смерть для человека – это ничто, но каждая человеческая смерть для мира – трагедия. Просто нам этого не дано знать. Мы знаем только то, что нам позволено. Да, теперь оглядываешься, и тогда приходит расплата… За многое. Помню, как меня очень удивило, что жизнь и смерть – вот так рядом, и прекрасно уживаются… Вот только что шёл, кряхтел, шмыгал ногами, и вдруг стал неизвестно где и никому не подвластен и недоступен… Нет его… И никогда не будет. И какой-то жёваный обрывок от мундштука папиросы прилип на подошву его ботинка… Помню, я ему ещё в камере сказал: «Завяжи шнурки…» – «Зачем?» – спросил он, подслеповато и близоруко глядя на меня через очки. «А, действительно, зачем, – подумал я, ведь его через несколько минут не станет…» Он так и шёл впереди меня, спотыкаясь и наступая на шнурки… Конечно, это было нарушение…
– А жалко ли было кого-нибудь ещё?
– Да, так называемых дезертиров. Некоторые из них были награждены орденами. Они переоценили жизнь. На колени не вставали: «Русский солдат умирает стоя!» В штаны не наваливали.
– А было, что и наваливали?
– Конечно. В основном – блатные, или из тех, которые насиловали, расчленяли трупы. Это трусы, которые умирают, ещё сидя в камере или по пути. От разрыва сердца. Ведёшь стрелять уже покойника, зомби, мумию. Один, переживая, как от проказы покрылся сплошь коростой, струпьями, красными пятнами. Глядеть страшно. Иные умирали ещё до выстрела. Поставишь на колени, а он хлоп на бок – и готов. Страшнее всего – осечки, но бывало и такое. Реакция – дикая до бешенства. Они же думали осечка – значит, всё, прощены, свободны. Это знаешь, как при царях – узелок на верёвке виселицы или обрыв, – и гуляй, свободен и прощён, и взятки гладки. Бог помиловал.
– Ты исповедовал? А часто исповедовались?
– Всегда, только четверо не сознались в убийствах. Один – истерзавший священника и всю его семью, другой – родную мать. Кстати, по Библии, это самые страшные грехи, и умерли они, так и не покаявшись. Ты знаешь, Юра, ведь исполнители – это специально подобранные офицеры НКВД. Подбирали таких, чтобы им можно было довериться по всему, и по притягательности, по обаянию, что ли, тоже… Как в попы, да…
– И были льготы? – спросил Юра. Такой человек сидел перед ним, какой силы воли! Человек – которого всё-таки страшат последние дни… Почему, ведь жизнь прожита, так какая же разница, как встретить небытие?
– Нет, без обиды говорю, ни льгот, ни денег в избытке не имел. Но мы-то тогда думали, что кто-то должен это делать, не мы – так другие. Так вбивалось в голову иными идеологами, и впоследствии, когда я осуществлял надзор, исполнители получали лишний паёк, обмундирование, путёвку на курорт…
– А на самом деле стреляют на рассвете?
– Очень много подготовки, прежде чем нажать на курок. Всё в строжайшем секрете, знали только двое: я – по надзору и тот, на котором организационная работа. Особенно тщательно скрывают от тюрьмы. Тюрьма в зависимости от расстреливаемых авторитетов и может подняться. Ничего нельзя упустить. Всё делается после захода солнца. На рассвете – только в кино: вот, дескать, жизнь пробуждается, а тут убивают… Кстати, это не только традиция, ты же служил, знаешь, что вечером в тюрьме после последнего приёма пищи прекращается всякое движение. Не отправляют на этапы, всё тихо и спокойно. Да, тут прав Солженицын, но, пожалуй, только тут. В остальном – предвзят… В это время никто не услышит, даже и случайно, глухого выстрела из-за двери.
– Стреляли один раз?
– По-разному. Бывало и кричали: «Добейте, гады!» Здесь главным было не потерять самообладания.
Евсеич, казалось, совсем успокоился.
– Что ж ты не бросил эту работу? Чувствовал удовлетворение?
– Пожалуй, порой… Что вот, занимаюсь таким, не каждому под силу. Для защиты Отечества, для Государства. К тому же, убив хоть однажды там, а затем на фронте – уже грешен, всё одно к одному… Ведь стреляли не только «политических», как это пишут сейчас, а и подонков, негодяев, зверей в человеческом обличье. И чувство такое, чем скорее убьёшь гада, тем лучше. Для всех. И для него тоже, кстати. А они и вели себя соответствующе: бросались горло грызть. Так однажды в тюрьме в Кутаиси армянин прятал в камере гвоздь. Алескеров, здоровенный, как шимпанзе, с заросшей шерстью грудью. Запорол двоих насмерть, кричал: «Не один уйду, и вас прихвачу». Зэк из Жилкино старику перерезал горло, так тот зэк и перед расстрелом кричал: «Мне пулемёт, так я бы вас всех…»
– А давно ты отказался от этого исполнения?
– Я же сказал: после той бабы идейной, пламенной… После отправленной к Богу женщины. Невероятно показалось: столько выстрелов и – жива! Чуть не свихнулся, как выдержал – не знаю… И впрямь помогло сознание, что делаю нужное дело. А всем тем, кого сопровождал в расстрельную камеру, – поделом было: преступники…
«Что за человек, – думал Юрий, – этот Фома, видел сотни людей в пресловутой “тамбурной” зоне, между жизнью и смертью, между прошлым и будущим… Его и их отделяли друг от друга секунды, мгновения и – вечность. Этот человек видел столько страшного, что хватило бы на тысячи жизней, и вот не озлобился от всей виденной им жестокости, сидит перед ним, обыкновенный…» Непонятно было Юре, как можно после этого остаться человеком…
– Они были враги, полковник?
– Теперь совсем о другом думаю, и свербит в душе: они были людьми. Всё перемалываю в себе… А тогда старался не думать. Было время, когда и сами себя боялись. Да и намерения-то были благие: всё делалось ради «светлого будущего». Коммунизму дырку сверлили к нам через стену. И «одной ногой уже стояли…» – так фраер Плешатый, кукурузник говорил. Благими намерениями вымощена дорога в ад…
И непонятно было Юре, почему жизнь так жестока к человеку, чекисту, исполнявшему свой служебный долг. Где была совершена ошибка? Чего ради? Им – тогда, или – теперь, в наши дни? Теперь вот только и пишут, что шмотками пользовались, посылками, в ресторанах с бабами гуляли… «Магами» звали… «Маг» – это надо же такое выдумать!
– Возможно, на Лубянке в Куропатах, когда расстрелы были массовыми, кто-то чего-то и выгадывал. Да и то вряд ли. Никто чужого не брал. За нами смотрели. Была и честь офицерская. Платили как младшему офицерскому составу. Все считали, что были свободными, в особом почёте… И этого хватало с избытком, даже гордились. И всё не так как-то… Если обманули нас, то кто и когда? Уж точно не в ту пору героическую, вот что… Вот Таисья Кривокорытова, с которой ты ехал в автобусе, моя невеста была, всегда как-то с состраданием смотрела, хоть и не знала она ничего. Чувствовала, как всё непросто. Отпустили меня тогда на три дня. Баловали с ней возле клуба. Ко мне подошёл человек в штатском, я его не знал. Много не говорил, спросил только фамилию, имя и сказал культурно: «Вас на службе ждут». И во сколько явиться сказал. Вроде бы и свобода, а как овца на приколе. Как стёклышко я должен быть на службе. Это сейчас пишут: спирт в бочках, пьяные исполнители, недочитанный приговор… Язык без костей. В войну, возможно, и было, но не у нас…
– И что же, после дел с бабой списали? – спросил Юра.
– До самой войны счетоводом работал в артели, в войну перевели в «СМЕРШ», «смерть шпионам и диверсантам!» Контрразведка. После войны – в Западной Украине. Там бандеровцы орудовали. Хуже войны. Бывало так: деревня. Висит на колу частокола или плетня горшок или шапка, сушится. Ну, висит и висит. А это сигнал: мол, тут чекисты. Дважды ранен был, выходили. Потом в Прибалтику уже старшим лейтенантом. Там на мину наскочил, «лесные братья» подложили. Вот результат, – Евсеич постучал култышкой по протезу. – И что заслужил? Вот всё, что ты видишь – отцовское и от сестры, покойницы, осталось. Моё вон обмундирование, ордена и медали. Пенсия нищенская. Да это что! Мне и не надо ничего. А почёт какой? Еду на День Победы в автобусе, нас собирали в Доме Культуры… Сижу, гляжу на праздничных людей. Подходит хорошо одетый, видно, что из интеллигенции, опрятный такой… Трогает орденские колодки и говорит, змеёныш: «Сними эти побрякушки, цацки, ляльки, сними, душегубец…» Я как хватил его, гада, за холку, думал пьяный, нет, трезвый. Схватил и держу. Клюшкой хотел его отходить, встать не мог, теснота. На него женщины закричали, выкинули на остановке. Вот тебе и почёт. И думалось мне тогда же, в автобусе: кто во все времена больше всего мутит воду, морочит голову работному люду?
– Кто? – спросил Юра усталым голосом.
– Интеллигенция эта самая. Во все времена эта гнилая интеллигенция шарахается по сторонам, шаткая и трусливая. Всё время они натаскивают чужеродные идеи, забивают головы простому народу. Что, например, крестьянину или рабочему, идеи были нужны? Простые люди всегда думали, как прокормить семью, обуть-одеть, а люд этот загоняли в тесноту красных уголков и кормили обещаниями, идеями… Морочили голову. Хватается за орденские колодочки! Он мне их вешал? Что он, сопляк, знает про эти награды? Интеллигент с «гаврилкой» на шее, с «собачьей радостью» или как её, масонскую эту штуку, называют, не знаю… Ладно, давно пора спать, – взглянув на часы, с сердцем сказал Евсеич. – Всего не расскажешь, ночи не хватит. Да и утро уже, кажется, дождичек пошёл…
…В окно проглядывалось мглистое серое утро. Угадывался белыми разводами клокастый сырой туман, похожий на мутную горную реку вдоль улицы. Серой фланелью стояло низкое небо, и неслышно потряхивал листочки в вишняке мелкий неспешный дождичек. Перед окнами висели гроздья рябины. Невесело и недружно чиликали голодные воробьи.
Вставал тяжёлый мокрый рассвет, робко, медленно, грустно; думалось, вовсе не будет уже светлого дня, яркого солнца.
Евсеич похлопал по подушкам, снял покрывало и постлал чистую простынку.
– Вали, ложись, тебе на работу, – сказал он Юрию, дремавшему за столом. – Я в сенцах себе постелю, там топчан у меня есть.
– Нет, полковник, тут устроюсь, на диване. Я привычный.
Громко стуча протезом, без клюки, при каждом шаге взмахивая руками, Евсеич принёс одеяло, матрац и подушку. И когда укладывались, молчали. Евсеич вспоминал прошлое, перебирал накипевшее сегодня. Сравнивал.
– Ничего не изменилось… Ведь эту теперешнюю свободу разливанную, кто её придумал? Интеллигенция вшивая и выдумала. А свобода для них – рваться к кормушке, стучать глоткой, правдами или враньём – выдвинуться… Примерно то же самое было и раньше. Я знавал и таких: родную мать, гад, застрелит, лишь бы выдвинуться, покомандовать… У меня есть на примете один интеллигент, так он, представляешь, для «красно-коричневых», на будущее, казнь такую придумал, никогда не догадаешься. Всем казням – казнь. Залить медицинским клеем половой орган. Кормить солёной рыбой и воды не ограничивать. Представляешь, три языка знает, подлец! Три! А ты говоришь – свобода! Вот и возьми этих дураков, съешь их с кашей. А? Каково… Или хоть этих пьяных возьми, про которых ты, Юра, говорил, они так и понимают слово «свобода»: пей, гуляй, на работу – хочешь иди, а не желаешь – наплюй, не ходи. «Пусть работает железная пила, не для того меня мамаша родила…» Также и про коммунизм тогда думали. Хочешь – иди работай, нет – лежи, спи. Кстати, и Ленин любил этих «умников»-интеллигентов. Эх, жизнь – жестянка ржавая! Прожил, как в преисподней побывал, эх, я и по-па-рил-ся… Сколько мук пережил…
И старый, и молодой – оба улеглись. В доме было тихо. Уже рассвет восстал. А всё висело серое небо шатром мрачным; крапал дождь и пятнил стекло, то смелел и усиливался, то отпускал шорох.
– Да-а-а, – закрывая глаза, зевая, вполголоса сказал Юра. – Ну, дела-делишки. Как говорил наш кум на «пятерке»: «Кругом шашнадцать выходит».
– Как? – Евсеич изо всех сил приподнял голову. – Как ваш кум говорил?
– Кругом шашнадцать!
– Да, выходит так… Хм… – Фома Евсеич заулыбался. – Юра, а Таиска-то Кривокорытова много обабок набрала?
– Старуха-то? Целое ведро! Там у неё не одни обабки, были ещё маслята… Что-то ты вспомнил про неё, полковник?
– Да так. Молодыми ещё бегали. Первая красавица была, и юбка на ней такая узкая, серая, и накидка, как говорили тогда, «я те дам». Помню и туфли красные на кожаном ходу. Эх, и девка была! Загляденье! «Где мои шестнадцать лет?»
– Всё проходит, Полковник, и хорошее, и плохое, всё, – заключил Юра с закрытыми глазами.
Евсеич улыбнулся его глубокомыслию:
– Да, всё проходит, даже любовь. Остаётся только память. И та не навсегда.
Юра встал, надел в сенцах глубокие калоши, от которых сделалось больно в щиколотке, вышел покурить на крыльцо. Сумка его валялась в сенцах, вспомнился полушубок. Юра вытащил его из сумки и повесил на вешалку. Запахло керосином.
– Зачем ты его привёз? – спросил Евсеич. – Говорил же тебе – не вози.
– Он же ещё хороший, зачем вещами разбрасываться, вот тут чуть моль побила. И память твоя, сам же говорил.
– Возьми себе, у меня всё равно пропадёт. Портному отдай, он тебе верх сделает, покроет крепким материалом, оверлочит края. Будешь ходить как Башмачкин. Только не по Питеру, а по Москве…
– Я так и сделаю, полковник, а в чём ты будешь ходить зимой?
– Зимой, похошь, он мне не пригодится. Зимой я буду в другом месте. В лучшем из миров, в раю!
– Брось, что ты заладил… Жестоко это. А хочешь, поедем ко мне, у меня поживёшь зиму. Мама разрешит, она добрая, моя мама. В городе в госпиталях подлечат малость.
– Спасибо на добром слове, но мне уже не надо. Некуда, ни к чему. Везде я успел. Даже слишком. Как сказал мой друг, бывший тюремный врач, лепила: «Ты только с виду здоровый, а внутри – труха. Хоть сейчас на актировку». Давненько это было… Лепила хоть бы соврал. Он и тогда точно констатировал смерть. Когда умру, – продолжал Евсеич каким-то совсем другим, грудным голосом, – когда умру, должно быть по осени, побудь на могилке. Посадил я сиреньку молодую, поправь её в головах… И сам приходи разок-другой, а лучше почаще, слышишь, за милую душу… Больше некому.
Юра не слышал, он уже спал.
– И Таиске Кривокорытовой, если увидишь, скажи, что я любил её. Женился бы, да тут жизнь так сложилась… Эх-ма, ладно. Нет, лучше не говори… Побеседовали ладком, как мёду наелись… Горького мёду, брат ты мой… От сердца отлегло, как в церкви побывал, ровно на молебне исповедался…
Юра спал напряжённо и зло. Снился ему огромный тулуп Евсеича, который вместо карты России висел исподом вверх в кабинете начальника фельдсвязи. Источенный молью, он будто бы оседал, сползал с крепежей этот тулуп-карта и угрожал страшным падением. И непонятен был этот страх, откуда он? Из-за него ли, точно ли из-за этого тулупа? И как бы из другой комнаты, ширмой которой он и являлся с широкими полами, один за другим выходили те, по чьим судьбам были решения и исполнения.
Выходили они друг за другом, пригибаясь под тяжестью отодвинутой полы, и не расстрелянные они были все, а живые…
И во сне он, Юра, всё беспокоился и никак не мог понять, не мог объяснить сам себе, за что же люди так страдали, если всё, даже лучшее в «перестройку-революцию» низвергнуто в прах. Поругано, отнято, поделено теперь по карманам этого тулупа и припрятано в его бездонных подкладках. Присвоено и переименовано. Ради чего люди жертвовали собой? «Не жалея здоровья и самой жизни», – ради того, как сказано в присяге? И только?
Он пытался объяснить им всем, что они не виновны, что не виновен и старик Евсеич, которому приказывали именем революционного закона исполнять… Но кто виновен, с кого именно спросить за всё, – он не знал и сам. И получалось так, что если и был героизм, если и была жертвенность – то теперь кто-то смог «обнулить» её и даже насмеяться над всем тем, что ставили люди во главу угла и целью своего существования… Не «жертвы», а исполнители, те, которым ставили задачу общего блага и счастья выше самой жизни на этой земле, они на деле и оказались жертвами. И всё обесценилось, но отчего… И это было непонятно, беспокоило, мучило и томило во сне как в больном бреду. И вдруг последним из-под тулупа, отодвигая точёную молью полу, вышел сам Евсеич. Он пригнулся и сложил руки на груди, как к потиру – причастник. Не старый, а молодой. Засмеялся страшно и белозубо, выхватил «ТТ» и нацелился в Юру, и, вздрогнув, он проснулся.
…Умер Фома Евсеич, и впрямь не дожив до зимы, тихим октябрьским утром. Вставало яркое солнце, темнело мокрое от инея по утрам крыльцо его заколоченного дома. Темнели под окнами гроздья рябины, налитые соком. С каждым днём все слышнее гомонили вороны за гумнами и летели мимо усадеб, крутя крыльями.