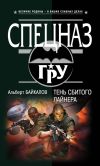Читать книгу "Цвет жизни"
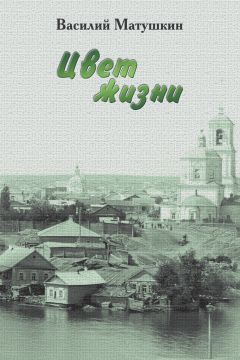
Автор книги: Василий Матушкин
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Но до ставшего горьким и для Василия Матушкина тридцать седьмого у нас ещё есть пара лет, в течение которых случились многие знаковые события в жизни сначала формально «перекованного», а потом и по-настоящему выкованного в заводской среде молодого писателя.
…Включённая в сборник «Изобретатели» повесть, а вернее, всё-таки рассказ об Иване Алёшкине, молодом сталинградском сталеваре, объявленном мировым рекордсменом по плавке, которому сам нарком Орджоникидзе подарил от имени Тяжпрома аж легковой автомобиль, действительно получила известность. Отзывы о ней, вопреки скупому на похвалы времени, начиная с первой журнальной публикации, были и впрямь чуть ли не хвалебными. Критик Ф. Раевский писал в седьмом номере журнала «Сталинград» за 1933 год: «Писатель обещает стать крупным мастером художественного слова… Любовь рабочего класса к производству передана просто, но сильно». С такими оптимистическими напутствиями, как я говорил выше, Матушкина посылают на курсы в Москву, где он получает из рук Горького писательский билет. Сим достоверным фактом Василий Семенович лет тридцать пять ни в коей мере не козырял. А на мои предложения рассказать о том поподробнее с улыбкой-вздохом отвечал так: «Да, вручил… Мне и ещё нескольким ребятам… Кандидатские билеты… Потом я ещё разок к нему как-то сумел протиснуться… Даже руку пожал…»
Вполне вероятно, что великий писатель в порядке подготовки к встрече с молодыми рабочими, авторами-ударниками, держал в руках книжку Матушкина, может, и листал её, входя в общий «курс дела». А вот Алексей Толстой рассказ «Сталевар Алешкин» читал точно, о чём сказал наверняка огорошенному этим известием автору летом тридцать шестого, когда приезжал, вернее, приплывал на пароходе «Урицкий» в Сталинград для творческих встреч, а заодно и сбора дополнительных материалов в ходе работы над не сильно удавшимся романом «Хлеб». Об этом в своей книге «Символ веры» поведал Борис Дьяков, начинавший писательский путь в довоенном Сталинграде. Вот кусочек из неё.
…Началась церемония знакомства. Алексей Николаевич спрашивал каждого литератора, что тот написал, что пишет, что замышляет писать. А Василию Матушкину сказал:
– Читал вашу повесть о сталеваре Алёшкине. Интереснейшая книга. Пишите, пишите о рабочих людях, Василий Семёнович! Неисчерпаемый родник характеров и фактов!
– Я сам рабочий. О ком же мне ещё писать! – сказал Матушкин.
Последнюю, несколько напыщенную фразу Дьяков ввернул наверняка от себя. Ибо к тому моменту Матушкин на заводе не работал уже больше года, а по тем временам это был огромный срок. Да и не стал бы он так вот «блистать» перед классиком. Допускаю, что он скорее покраснел от неожиданности…
Тем летом Матушкин уже трудился ответственным секретарём небольшого и недолго в духе того времени просуществовавшего крайиздатовского журнала «Социалистическая культура». Это издание было наверняка чисто теоретическим, художественные вещи в нём не печатали. И свою новую повесть «Тарас Квитко» тридцатилетний автор предложил сначала в «свой» журнал «Сталинград», а потом в новый альманах «Литературный Сталинград», созданный на базе выходившего ранее краевого «Литературного Поволжья». Но в этих изданиях повесть не появилась по причине того, что довольно быстро была издана отдельной книгой, даже в твёрдой обложке.
Писавший до того времени основные свои вещи только о заводе и его людях, Матушкин в «Тарасе» сделал небезуспешную попытку выйти за очерченный круг и поведать о судьбе царицынского подростка уже на бытовом, уличном, скажем так, фоне. Фон тот включал и малознакомый для автора уголовный мир, и даже атеистический… Несмотря на укреплявшийся самобытный язык, повесть всё же вышла сыроватой и в сюжетно-персонажном отношении выглядела, как уже в семидесятых годах говорил мне сам Василий Семёнович, «комом». Правда, задним числом, уже в послевоенные годы, он переделывать её не хотел. Лишь в восьмидесятых у него возникла мысль включить слегка поправленную повесть в юбилейный однотомник, но неожиданно пропал единственный экземпляр той книги, писатель оставил его где-то в вагоне во время своих не прекращавшихся до самой его кончины поездок…
Я уже говорил выше, что в тридцатых годах появление в Сталинграде (за всю страну не буду говорить) нового произведения писателя являлось не просто событием, но и обязательным поводом для публичного обсуждения или, как в те времена говаривали, «дискуссии». Причём с обязательным опубликованием «резюме» после всех разборов. К тому же Матушкин после «Изобретателей» выпустил в течение двух лет очерковую книжку «Колхоз „Большевик”», сборник рассказов «Хладнокровный человек», вышла также в его переводе книга рассказов писателей Калмыкии, входившей тогда в Нижне-Волжский край. С калмыками, кстати, творчески сотрудничал и ответственный секретарь, начиная с тридцать пятого года, Сталинградского отделения рождённого в 1934-м Союза писателей СССР Григорий Смольяков. В общем, Матушкин считался уже не начинающим и не «молодым» автором, тем паче с писательским билетом в кармане. Оттого-то его новая вещь в момент попала в жернова тех самых дискуссий.
Повесть «Тарас Квитко» явилась для Матушкина переломной во всех отношениях, вплоть до житейских… Если кратко говорить о художественной составляющей, то автор, продолжая делать упор на индивидуальность, особинку и образность языка произведения, одновременно взялся «воспитывать» юного героя по в общем-то непререкаемым для того времени шаблонам. Но язык всё ещё пересиливал, «скрашивал» и заслонял «лобовую» идеологию.
Нет, Матушкин не конъюнктурил. Просто он, к тому времени вместе с молодой женой учившийся на третьем курсе вечернего факультета городского учительского института, невольно, а затем и вполне осознанно и охотно стал растить в себе педагога. И, надо сказать, успешно вырастил не только в профессиональном, но и, я бы сказал, в духовном, даже проповедническом смыслах, что буквально через год ох как ему пригодилось в сельской железнодорожной школе…
Герой повести несуразный Тарас – исключенный из училища за хулиганство, лишившийся во время расстрела мирной демонстрации отца-рабочего, оставшийся со смертельно больной матерью, – попадает в тёмную воровскую среду, а затем и в тюрьму. Но новые люди, борцы за права рабочих и счастье простого народа помогают подростку встать на нужную дорогу, выйти в день Февральской революции из царицынского узилища с твердым желанием примкнуть к большевикам. Вот, собственно, идеологическая «арматура» повести. И никуда уже в тридцать шестом году автор от той арматуры не мог, да и не желал деться.
К тому же Матушкин стремился, повторяю, соединить неизбежную назидательность и сюжетный схематизм с хорошим языком. Желал нагружать образностью, эпитетами, красками почти каждое предложение, начиная с самого первого: «Каменская улица, по которой идёт Тарас с родителями, похожа на длинный пересохший овраг»…
О языке его первых повестей и рассказов можно говорить много, ныне просто дивясь – как его довоенные произведения отличаются по языку от послевоенных, вплоть до середины шестидесятых. На то были свои причины, о которых я ещё скажу, а пока просто несколько цитат их разных книг.
«Обер-мастер электрической мастерской Фёдор Алексеев усадил свою плотную фигуру за стол, и пожилой стул сердито заскрипел под тяжестью».
«Пожилой» стул. Просто «под тяжестью», а не, допустим, под его тяжестью или тяжестью тела.
Это начало «Барабана». Помнится, прочитав, я сразу «заподозрил» здесь влияние Андрея Платонова. И не ошибся. Матушкин, по собственному признанию, в тридцатых годах и даже раньше находился не то чтобы под магией языка, а под обаянием биографии этого писателя. Книги Платонова «Река Потудань» и «Сокровенный человек», а также некоторые рассказы и публицистические статьи в журналах он прочитал в молодости с особенным интересом ещё и потому, что Платонов по рабочей профессии был землеустроителем и вдобавок великолепно знал железнодорожное дело – родное с детских лет и для Матушкина. «Представляешь, – восхищённо говорил он мне, – Платонов участвовал в строительстве восьмисот небольших плотин и трёх крупных по тем временам сельских электростанций! А ещё занимался вместе с соратницей-женой осушением и орошением земель, прилично знал электродело. «Ремонт земли» – это не просто заголовок статьи, это суть его воззрений на новый мир и всю революцию».
«Колючий ветер, разведчик зимы, явился в посёлке, пробежал по улицам, осмотрелся и с доносом умчался обратно. В зорях стеклились лужи, в парках лысели деревья. Их жёлтые кудри валились на землю».
Это уже кусок из вроде бы чисто производственного рассказа «Коммутатор», написанного в тридцать втором году. А начинается-то он как! Ремонтник-наладчик Никанорыч видит в доверенной ему загрузочной цеховой машине поистине живое существо, по сути – свою сестру родную, недаром и зовет её Никаноровной.
«– Здорово, Никаноровна! Как дела? Плохие? Это что же такое? Ты как будто пьяная в грязи валялась! Нехорошо, всего неделя прошла, как тебя куколкой обрядили, а теперь лица не видать».
Невольно вспоминается машинист Мальцев из рассказа Платонова «В прекрасном и яростном мире» или его коллега Петр Савельич, герой рассказа «Жена машиниста» – вот так же, на грани не многим понятного «фанатизма», ушедшие с головой в свои паровозы…
А уж описание цеховой плавки и Алёшкина с друзьями-сталеварами… Тут начнёшь цитировать и весь рассказ приведёшь. Ну, попробую вовремя остановиться…
«…Печь пятая полыхает жаром. Человек восемь потных рабочих с лопатами в руках извиваются у раскалённой пасти. Они хватают рычащими совками известняковый камень, магнезитовый песок и посылают в печь, подскакивая к завалочному окну так близко, что кажется – пламя уже ухватывает их. Лица напряжены, к козырькам фуражек прицеплены синие очки. Люди дерутся с пламенем печи. Иногда я слышу крик, свист, и тогда окошко закрывается, и тотчас же открывается новая пасть…
Неожиданно появилось знакомое лицо.
– Алёшкин!
Передо мной маленькая, как дубовый чурбачок, фигура Алёшкина. Он как будто только что вылез из воды, рубашка прилипла к телу, а там, где она ещё сухая, видны соляные пятна».
Это, конечно, ещё тридцать третий год. В тридцать шестом лучшего сталевара Советской России и мирового рекордсмена общепечатно называть «маленьким» да к тому ж «дубовым чурбачком» никто бы уже не позволил. А тут Алёшкин ещё простой смертный. И друг-писатель под стать ему…
Но – вернусь к подростку Тарасу. Уж и не знаю, чем он, перевоспитанный, так не угодил тогда некоему Фейгину, опубликовавшему в местной газете зимой тридцать седьмого рецензию под названием-доносом «Вредная повесть». Впрочем, подобные фейгины, почуяв тогда опасность и спасая собственные шкуры (что рецензенту удалось, и он, уже в шестидесятых-семидесятых, благополучно доживал свои деньки, литераторствуя в Грузии), объявили тогда «вредной» всю писательскую организацию, настучали о «контрреволюционном заговоре среди писателей и литературных работников Сталинграда». Как следствие – в ГУЛАГ ушли Григорий Смольяков, Михаил Дорошин. Это только те, чьи имена я знаю. Смольяков погиб в том же году… А Михаилу Федоровичу Дорошину – одному из первых среди советских поэтов, воспевшему в большой поэме несчастного мальчишку Павлика Морозова, которого в либеральные времена взялись вновь убивать в своих реваншистских писаниях жёлтоязычные некрофилы и даже некоторые до времени гуманные литераторы, – достались почти двадцать лет Соловецкого лагеря, сибирских поселений и подневольных строек…
…Безработным Матушкин стал в самый неподходящий житейский момент. В тридцать пятом у них с женой родилась первая дочка – смуглая, в отца Нины, терпеливая крепышка, которую в честь героини «Овода» красиво назвали Джеммой… После трудных родов (пятикилограммовый младенец!) или по ещё какой причине у Нины стал падать слух. Дальше больше, и она впоследствии уже не смогла окончить учительский институт. О слуховых аппаратах тогда простые люди и не ведали… Великий Циолковский и тот к уху трубу навроде грамофонной приставлял. В общем, осталась вскоре без постоянной работы и Нина.
Теоретически в Сталинграде работы было достаточно, но, как и положено, работодатели интересовались причиной последнего увольнения. А когда узнавали, то глядели на писателя как на чуждо-чумного, боясь как бы самим не измазаться об его «вредность». Матушкин был в отчаянии, особенно когда его не взяли на родном заводе на несколько дней рыть какую-то траншею. Это недавнего ответственного секретаря краевого журнала!.. Ещё в конце тридцать пятого он взялся на общественных началах вести литкружок в клубе СТЗ, куда к нему ходили старшеклассники, а потом рабочие и вечерние студенты учительского института Михаил Луконин и Коля Турочкин (Отрада). Через год дирекция клуба пригласила писателя в штат «по совместительству», подрабатывал он до апреля тридцать седьмого. Сохранилась расчётная книжка, листки за первый квартал, где проставлена сумма месячной зарплаты в 350 рублей. Но и этой небольшой суммы он лишился как неблагонадёжный.
А тут и новая беда… Пришла из Камышина весть, что на севере по политическому делу арестовали старшего брата, уехавшего в Архангельск ещё в конце двадцатых, имевшего весьма востребованную тогда профессию радиотелеграфиста. И только в пятидесятых годах выяснилось, что «пришили» Александру Матушкину связь с иностранными специалистами, шпионаж и поставили к стенке… (В марте пятьдесят шестого в осунувшийся дом возле камышинского вокзала, где доживала свой давно уж вдовий век Евдокия Степановна, пришло письмо в казённом конверте за подписью председателя Архангельского облсуда Н. Романова о запоздалой отмене постановления тройки при Управлении НКВД по Северной области от 7 августа 1937 года и прекращении дела за отсутствием состава преступления…)
Что ж, и впрямь его беда не стала одна ходить… Положение для Василия осложнялось ещё и тем, что попробуй-ка теперь выйти сухим из соответствующей анкетной строчки о наличии «врагов народа» среди родственников…
…В начале августа того тридцать седьмого, съездив ненадолго в Камышин за продуктами и хоть малыми родительскими деньгами, Нина призналась Василию, что беременна уже три месяца… Нужно было предпринимать что-то кардинальное. А что, кроме отъезда в Камышин или хоть в Дурникино под Балашовом, где он когда-то родился и отроком любил жить у бабушки, где оставались какие-то родичи по матери, – что можно было придумать? Но и это проблематично… В Камышине что, чекистов нет? Иль «потерять» трудовую книжку?..
Нет, всё это бегство не подходило Василию ни в коей мере. Тогда он принимает два решения. Поскольку в местных газетах «дискуссия» о его повести ещё не получила никакого «резюме», то он посылает книгу в Москву, в Союз советских писателей, откуда её перешлют в отдел критики журнала «Октябрь». Но Матушкин в тот момент, конечно, не знает об этом. В письме он излагает суть дела и просит срочно прислать объективный отзыв о книге в издательство, в «Сталинградскую правду» или полуразгромленную писательскую организацию. А через неделю, собравшись с духом (или со злостью), идёт в… НКВД. И, как я писал выше, кладёт свой писательский билет на грозный стол. Разбирайтесь. Семье жрать нечего. Сажайте, коль враг я людям. Поступок, что ни говори. Или срыв нервный.
Наверно, дежурный оперативник ещё не видал «самосдающихся» врагов, да к тому ж писателей. Решил «согласовать и сообщить». Главное – не задержал, а отослал домой, мол, вызовем, если понадобишься.
Не знаю, как и кем Василий надоумился, но на следующий день он подался от греха сначала в Камышин, а через пару дней, по совету отца Семёна Петровича, в Саратов, где разыскал отдел школ Рязано-Уральской железной дороги. Там предъявил (слава богу, не сданный чекистам вместе с писательским) билет члена Литфонда Союза ССР за номером 2469 с подписью известнейшего тогда советского писателя Всеволода Иванова, но главное – справку, что учится на вечернем факультете Сталинградского учительского института. Сказал, что желает в порядке практики поработать на какой-нибудь отдалённой станции. Да ещё и попутно собрать материал для книги о сельских учителях, беззаветно отдающих свои знания детям советских железнодорожников…
Так 10 сентября 1937 года у старшеклассников школы № 37 станции Верхний Баскунчак появился новый учитель литературы и географии.
…В конце сентября Нина потихоньку засобиралась из Сталинграда в Камышин. Как жить тут полуглухой и практически безработной? Да и как работать? Одному дитю два с половиной, другое в животе уже торкается… Жалко, конечно, ох как жалко…. Сталинград строится не по дням, а по часам, центр его – белый, красивый, скверы чуть схвачены осенней золотой сединой… Волга – синяя, задумчивая… И с продуктами получше… И, может, слух улучшится, восстановится она в институте… Ведь почти три курса одолела… И… Да что теперь говорить…
Однажды утром нашла в почтовом ящике письмо с печатью вместо обратного адреса. Внимательно, до буковки, прочла отпечаток: «Союз советских писателей. Правление. Москва, ул. Воровского, д. 52. Тел. № Д 2-14-42.» Торопливо вскрыла сероватый прямоугольник, вынула два листка. В одном, поменьше, сообщалось:
Уважаемый тов. Матушкин!
Пересылаю Вам рецензию т. Войтинской. Она заведует критическим отделом журнала «Октябрь». С её мнением мы согласны.
О принятии дальнейших мер – поставим Вас в известность.
Референт ССП СССР Саблин. 21 сентября 1937 г.
К сообщению прилагалась рецензия. Вот она, почти целиком:
…Матушкин написал сырую книгу «Тарас Квитко». В ней очень большое внимание уделено уголовным приключениям Тараса. Обо всём остальном говорится мимоходом. Положение рабочих, жизнь ребёнка в дореволюционной рабочей семье описывается очень серо. Совершенно непонятно, почему Тарас в тюрьме становится революционером, почему главными героями повести являются уголовники. В книге нет запоминающегося героя или волнующей ситуации. В таком виде рукопись нельзя было отдавать в печать.
Редактор И. Кравченко должен был заставить автора ещё поработать над повестью. Вместо этого Сталинградское издательство выпускает недоработанную книгу, а некий М. Фейгин вместо помощи автору занялся его политическим шельмованием. Он, попутно занимаясь домыслами, почему-то сравнил «Тараса Квитко» с романом Островского и объявил, что Матушкин написал вредную книгу. Рецензия Фейгина написана плохо, хотя это не является поводом для защиты книги Матушкина.
О. Войтинская
Замечу, попутно и вкратце, как эта строго-отрывистая рецензия не походила на товарищеское письмо Виктора Буторина, которое я приводил выше. Ни слова о языке, о пейзажах, об образности. Главное – идеологическая составляющая. Впрочем, Войтинская и рассматривала повесть только под этим, очень нужным в тот момент для Матушкина углом. И сделала главное: дала отпор доносу Фейгина, чем и спасла провинциального автора от вполне возможной расправы, пусть тот и уехал, как казалось, далеко от сталинградского чекистского дома, расположенного тогда над Волгой, в районе, где ныне Музей-панорама «Сталинградская битва».
Нина в тот же день написала два письма, одно – в Москву референту Саблину, где указала новый адрес мужа, другое – Василию в Верхний Баскунчак. Среди «принятия дальнейших мер», о котором писал Саблин, было и то самое «резюме»: вскоре в сталинградской печати появилось сообщение, что «дискуссию» по новой книге Матушкина можно считать законченной. И не в пользу Фейгина. Клеймо с повести было снято. Через неделю в Малую Францию пришло письмо и денежный перевод от Василия. Он настоятельно советовал жене ехать в Камышин, ибо ей там при матери будет спокойней жить и рожать, чем в глухом Баскунчаке. Написал также, что он решил, согласно договору, доработать этот учебный год. Мол, на Новый год иль после родов твоих примчусь, конечно, на пару дней, но доработать надо обязательно. Ибо одно дело – расторгать договор нельзя, что о нём, писателе, люди и дети подумают? А второе – учить ребятишек некому…
…О войне он не любил рассказывать. Не помню, чтобы, допустим, уже в шестидесятых-семидесятых, когда на книжные прилавки и экраны буквально хлынул «военный» поток, он охотно комментировал новые произведения о войне. В том числе доселе непривычный, скажем так, взгляд на неё в книгах Константина Воробьева, Григория Бакланова, Евгения Носова. Особо не трогали его и широко известные эпопеи Константина Симонова или Александра Чаковского. Даже когда у него самого в шестьдесят шестом в журнале «Октябрь» впервые была напечатана повесть тоже о военном времени и, казалось бы, пришла пора и ему «разговориться» хотя бы на семейном уровне, – нет, не было такого. Вытянуть из него хоть что-то стоило большого труда. Иногда, правда, он вдруг сам неожиданно вспоминал какие-то эпизоды.
Собирается, к примеру, дочка блины печь, возится с мукой, шурудит-взбивает тесто в чашке. Он глядит-глядит и…
– Нам… месяца полтора… зимой уж… в декабре… тоже муку давали… Ржаную только… В пакетиках… Индивидуально в руки… Ешь как хошь. Котелков и тех у каждого не было, в банках или ещё как наболтаем и варим… Тут костерок, там… Большие-то боже упаси разводить… Прилетит снаряд иль мина на закуску… Да и маленькие… Я, к примеру, развожу, а кто-нибудь прикрывает костерок, дым размахивает…
– Да что ж, никакой кухни не было, что ли?
– Я за всю армию не знаю, но у нас тогда… в конце самом сорок первого… случалось, что подолгу и не было… Разобьют её, кухню, и всё… Другую, что ль, наутро пришлют?..
– И что, только болтанкой ржаной и питались?
– Один день болтанкой… В другой, глядишь, в каком-нибудь селе сгоревшем картошки немного найдём… И то мёрзлой… Прямо так и говорили, что вот вам завтрак, а обед – трофейный…
– Ну хоть сто грамм-то наркомовских?..
– Ага… двести… Это уж потом… Я… в первый заход… не захватил, не успел и разок остограммиться… Правда, спирта на меня в санбате не меньше пол-литры, наверно, потратили… Срезали одежонку провшивленную… Обтёрли всего… Потом без наркоза кость раздробленную вынимали… Я только через неделю в санэшелоне вспомнил, что у меня накануне ранения день рождения был… прошёл… Тридцать шесть годков стукнуло…
Тут он умолкал…
Войну он разделял на два собственных «захода». Рассказывать я о том сам не буду, а приведу запись, которую Василий Семенович сделал уже в восьмидесятых, не знаю, по какому поводу. Остался в архиве листочек с десятком строк.
«…На войну я был призван 12 сентября 1941 года. Из Саломатино, где работал учителем. Наш 1169-й стрелковый полк формировался и обучался под Астраханью. Был назначен командиром отделения взвода пешей разведки. Первое наступление начали на Изюм-Барвенковском направлении, восточнее Харькова. Форсировали Северский Донец и освободили село Богородицкое. За полтора месяца освободили ещё ряд других населённых пунктов. 19 февраля 1942 года был тяжело ранен в бою за село Шаврово. Слепое осколочное ранение левого предплечья. Находился на излечении в эвакогоспитале № 3262 в Астрахани. В мае комиссовали с переосвидетельствованием через 6 месяцев. В этот период жил и работал в Камышине. Снова призвали в январе 1943 года, зачислили в 7-й отдельный учебный автополк сначала курсантом, а затем назначили помощником командира взвода. В марте 1945-го вступил в партию, а демобилизовался 20 октября того же года».
Уйдя на войну, оставив в камышинском домишке жену с тремя малыми дочками, младшей из которых чуть перевалило за годик, родным он смог послать весточку только из госпиталя. Как ни хотела Нина не расстраивать раненого мужа, но некуда было деваться в ответном письме от горестных известий. И первым было то, что через две недели после его ухода на фронт заболела корью и воспалением лёгких их младшенькая, Галочка. Пошла Нина в госпиталь, чтоб хоть чем помогли. Дали таблетки какие-то… А 29 сентября умерла малышка… В августе сорок шестого в память о ней назовут Нина и Василий очередную родившуюся дочь Галей…
Помню, я как-то спросил Василия Семеновича – писал ли он что-то в те полгода, которые провел в прифронтовом Камышине. «Нет, не писал, – скупо ответил он. Потом, помолчав, неожиданно разговорился: – Каждый день думал, как накормить семью, работал… Но с одной, считай, рукой много не наработаешь… Хорошо, что брат устроил на мясокомбинат учётчиком… Лёня в бухгалтерии там работал, по годам на фронт не взяли его… Но это ныне мясокомбинат – значит шматок за пазухой утащить можно… А тогда за это десять лет давали. Законы военного времени… Да и люди другие были… Правда, ударникам кости выдавали, килограмм по пять в конце недели… Хотя какой конец недели, когда без выходных почти работали. Но я на комбинате, слава богу, бесплатно обедал, а домой – кости те несу: Леня половину своей ежедневной управленческой пайки нам отдавал. Наварим бульона, а хлеба нет, хоть Нина Фёдоровна, тёща твоя будущая, на мельнице работала… А моя тёща в том ещё сентябре сорок первого, перед тем как Галочке помереть, позвоночник сломала… Пошла в дальний овраг за глиной, кухоньку в зиму обмазать хотела, а тут дождь, скользко… Пластом с тех пор около года лежала… Пока я по школам перед войной работал, Нина у неё жила, и я, комиссованный, туда ж приехал. В Старый город, на Колёсную… В нашем, в отцовском доме не поместишься – мать там крутилась с больным отцом, и семьи братьев старших там же, ребятишек куча… Вскорости, в конце сорок второго, отец умер… А ты говоришь, писал ли?
…Писать я начал потихоньку только в самом конце сорок пятого… В газету камышинскую устроился, в «Ленинское знамя», литсотрудником… Начал, кроме статей, вспоминать про художественную прозу. Правда, до войны немного писал в Морозовской, где два учебных года провёл после Баскунчака… Хоть и сняли вроде с меня в НКВД тогда обвинения, но в Сталинграде я не рискнул оставаться. В июле тридцать восьмого приехал, даже с месяц поработал в «Молодом ленинце» очеркистом… Луконин там как раз тоже работал… Но уже в Москву активно собирался, в литинститут переводился. В общем, не остался я… Хотя с приездом нового первого секретаря обкома и горкома Чуянова политическая обстановка в Сталинграде вроде бы выравнивалась… Но я всё равно перевёлся в Морозовскую. В первый год и семью забирал туда. Даже роман об учителях начал писать, несколько глав набросал… Но в начале войны тут, в Камышине, все рукописи порастерялись…»
С лихвой познав в первый свой «заход» кровавое лицо и нутро войны, её беспощадный натурализм, Матушкин как писатель в дальнейшем оказался перед нелёгким выбором. В очерке о Михаиле Лобачеве, напечатанном в 2006 году в «Отчем крае», я отмечал, что многие наши писатели, особенно те, кто имел педагогическое образование и перед войной учительствовал, считали литературное творчество в первую голову заочным воспитательным и просвещенческим диалогом с подрастающим поколением. И старались в своих произведениях создавать примеры для подражания. Эта доминанта и тормозила, я думаю, желание Матушкина писать войну, что говорится, с натуры. С другой стороны, что-то выдумывать, сотворять этакие «собирательные» образы он тоже не хотел, памятуя о том, что сам вживе видел и пережил на войне. Типовое «героичество» (это его словцо) тогда претило ему, о чём он мне не раз говорил.
Конечно, в подённой газетной работе, начавшейся для него осенью сорок пятого, в статьях и рассказах для той же газеты нередко появлялись «типовые» для литературы того времени фронтовики, вернувшиеся преимущественно в свои колхозы. Но на этом вся война на страницах тех его рассказов обычно и кончалась. Писать чисто военные вещи и вообще подробно вспоминать на людях войну, с чего я и начал этот разговор, он не торопился до середины шестидесятых. Не конъюнктурил, не выводил желанные для агитпропа образы, а сосредоточился на очень обычных людях, что подымали из разрухи послевоенное село.
Но – куда учителю деваться? – писал он тогда как бы преимущественно для детей старшего школьного возраста, то есть оптимистично и светло. Да и время писать о послевоенном селе в стиле, допустим, известнейшего фильма «Председатель» ещё не подошло. Тот же нагибинский Егор Трубников явился к читателю только в шестидесятых, когда и сам Матушкин начал писать по-иному: сначала повесть «На высоком берегу» – о безвестном фронтовике, потерявшем на войне руки и ноги. А потом и лучшую свою вещь – о девчушке-почтальонке, у которой сердце разрывалось от похоронок, но надо было работать, кормить, без отца-матери, своих младших сестрёнок и братишек. А уж повстречав в Рязани героя из героев – Бориса Ковзана, единственного в мире аса, в свои девятнадцать-двадцать четырежды таранившего фашистские самолёты и оставшегося после этого в живых, уж тут-то он справедливо взял в своей пьесе о нём возвышенную патриотическую ноту. Мол, попробуйте-ка обвинить меня в какой-нибудь «лакировке», отстранённом от жизни соцреализме или агитпропе. Вот он герой – живой, после спектакля под гром аплодисментов скромно выходящий на сцену.
Как он, навсегда оставшийся в душе сельским учителем словесности, радовался, когда в театр на этот и другие спектакли по его пьесам приходили старшеклассники! Наверняка вспоминал своих учеников с довоенной станции Морозовской, особенно свой класс, где был руководителем, из которого все вышли, как говорится, в люди.
Уже в семидесятых он узнал о том, что его ученик Володя Киселев был во время Сталинградской битвы командиром зенитной батареи, что в тяжком октябре сорок второго за кровопролитнейшие бои на севере Сталинграда он был награжден орденом боевого Красного Знамени. А Мамаев курган как раз в те дни в очередной раз штурмовал вместе со своим стрелковым взводом родимцевец Коля Кузнецов, тоже его ученик. И остановила отчаянного двадцатилетнего сержанта только вражеская пулеметная очередь, прошившая обе ноги. После войны Володя Киселев учился в ленинградском вузе, работал на Сталгрэсе, назначался, как сейчас говорят, вице-мэром Сталинграда, а потом возглавлял крупные нефтегазовые строительные тресты в нашей области, на Ямале, в Монголии. Известным в Донбассе рабочим-шахтёром, а потом и начальником шахты стал бывший воин знаменитой 13-й гвардейской дивизии Николай Кузнецов.
В семьдесят пятом Николай Михайлович прислал из своего городка Жёлтые Воды Матушкину в Рязань очередное письмо, приглашал на 30-летие Победы в Волгоград. Писал старому учителю и известному писателю, что на Мамаевом кургане, у статуи «Стоять насмерть», решили встретиться морозовские одноклассники: генерал Борис Засядкин, комбриг погранвойск генерал Леонид Тараниченко, полковник Александр Семенцов, другие «ребята». И, конечно, любимица класса, ставшая заслуженным учителем России, директор волгоградской девятой школы Татьяна Филатова. Татьяна Аполлоновна была директором «девятки» и в годы моей учёбы. Мы с ней много лет жили в одном дворе. Позвонила она нам с женой однажды, попросила зайти и вручила мне полдюжины документальных и краеведческих книг своего друга и морозовского одноклассника, известного ростовского писателя и журналиста Владимира Моложавенко – ещё одного ученика Матушкина…