Текст книги "Цвет жизни"
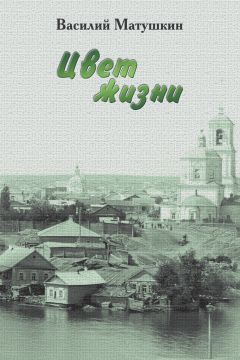
Автор книги: Василий Матушкин
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Уже пятый день Тарас Квитко сидит в карцере. Но ему кажется, что с тех пор, как он посажен сюда, прошли месяцы.
Карцер похож на темную и сырую яму. Цементный пол покрыт скользким слоем грязи. Ни стула, ни нар. По ночам бегают и с писком грызутся крысы. Тараса не выпускают на прогулку и даже в уборную. Целые сутки в карцере стоит вонючая параша, которую опорожняют только раз в сутки. От постоянной тошноты и болей в животе Тарас с трудом ест куски так называемого хлеба, который дают по утрам. А пару раз вообще не мог ничего проглотить, и вечно голодные крысы тут же, на глазах растаскивали эти куски по своим ходам и норам…
Часами тычется Тарас по карцеру из угла в угол, брезгуя сесть, но, вконец измученный, вынужден опуститься на липкий пол. Но садится лишь на корточки, обхватив ноги руками, положив голову на колени. Бредовая дремота начинает охватывать его…
Зудливые вши и клопы, кажется, осыпают всего узника. В полусне Тарас до крови скребет себя ногтями, всё его худенькое тело горит от зуда, потому ссадины, полученные в драке с купцом, не только не заживают, но даже не покрываются коркой…. Вконец измученный, Тарас то нервно ревет, то прикусывает язык – чтобы только заглушить этот воший жор… Он вскакивает и снова и снова, вороша на голове свалявшиеся от грязи волосы, тычется по каменному мешку, пока усталость опять не пригнет его к полу.
…На седьмые сутки к вечеру Тараса выпустили из карцера. Когда он увидел на дворе чистое небо и солнечный свет, у него закружилась голова, больно заломило глаза, он зашатался и упал на талый снег. С трудом поднялся и, качаясь, как после длительной болезни, стал взбираться по лестнице.
Войдя в камеру, он удивился, не увидев в ней купца и техника. Их, оказывается, уже выпустили. На койке лежал один Зотов. Он был весь в синяках и перевязан тряпками.
Тарас тотчас же сбросил с себя сырую, пахнувшую гнилью одежку и упал на койку. К нему стала возвращаться бодрость, и уже чудилось, что он на воле, выйдет сейчас на улицу и понесется вперед, набирая полную грудь свежего воздуха.
Чайник был полон воды. Тарас, намочив рубашку, выжал ее над парашей и стал обтираться и промывать ранки, которыми было усеяно все тело. Стало полегче.
Вечером Тарас разговорился с Зотовым и узнал, что три дня назад его на допросе сильно избили, в камеру еле доволокли, сам он идти не мог. И только теперь начинает понемногу двигаться.
На другой день надзиратель выпустил на гулянку только одного Тараса. Парнишку это явно озадачило: с чего бы такое?
За тюремным корпусом был узкий, как коридор, дворик. С двух торцов торчали часовые. Надзиратель в одиночку проминался вдоль массивной стены, наблюдая, как прогуливаются арестанты, которые как-то смирно, механически ходили гуськом взад и вперед по вышарканному за много лет «тротуарчику»…
Выведенный в первый раз после карцера «погулять», Тарас с наслаждением вдыхает свежий воздух. Небо чистое, безоблачное. С крыши корпуса днем уже сочится вода, падая вниз безудержными каплями. Слышно, как где-то бойко чирикают воробьи. При первых признаках весны лица арестантов особенно тоскливы…
– Сейчас бы на волю… – вздыхает Тарас. Теперь-то он окончательно уверился в том, что на свете нет ничего лучше, чем свобода, воля. И невольно начинает сверлить сознание мысль о побеге… Но как? Корпус и стены, фигуры часовых и надзирателя моментально рассеивают разыгравшуюся фантазию. Эх, вырваться хотя бы на несколько дней, а там будь что будет.
Как только за Тарасом закрылась дверь камеры, он тут же спросил дядю Антона:
– Почему они тебя так стерегут?
– Моя песенка, видно, спета, – мрачно заключил Зотов. Но все еще продолжал шутить: – Меня, брат, не сегодня-завтра на веревочку, проветриваться повесят. Нагуляюсь на ветерке…
Тарас ужаснулся. Он решил, что Зотов должен узнать историю с похищением чемодана. И не медля начал рассказывать ее во всех подробностях. К удивлению, Зотов ничуть не обиделся. Он даже улыбнулся, повеселел:
– Молодцы! А я иду в то утро, смотрю, вся улица запружена, люди подбирают прокламации. Полиция разгоняет, свист, крик… Мой чемодан летит в сторону, пустой и разбитый. Выходит, ты революционер поневоле. И как же быть теперь? – Зотов задумался.
– Что… теперь? – непонимающе переспросил Тарас.
– Я считаю… на допросе тебе надо рассказать всё, как было. Укажи прямо на меня. Мне один черт конец, а тебя, глядишь, выпустят. – Зотов испытующе поглядел на Тараса.
– Не… Так не пойдет, – решительно покачал головой Тарас. – Да и не поверит жандарм этот. Я уж ему по-разному плел. Одно твердит: «Врешь, твой отец был бунтовщик, и ты в него. У меня, говорит, есть точные сведения, что ты в их организации состоишь».
– Ничего, парень, выйдешь, – уверенно заметил Зотов и с сожалением добавил: – Одно плохо, с пути ты сбился…
Оба замолчали. В камере стало как-то особенно тоскливо. Дядя Антон, подсунув руки под голову, лежал на койке и чуть слышно напевал:
Зовет меня взглядом и криком своим,
И вымолвить хочет – давай улетим…
Голос у старика был неважный, но слова песни заставляли сжиматься сердце. От самых разноречивых мыслей, теснившихся в голове, Тарасу становилось невмоготу. Хотелось встать и сказать старику: «А давай и вправду улетим!..»
Тарасу принесли передачу – краюшку хлеба и записку. На бумажке было написано всего несколько строк печатными каракулями.
Прочитав записку, Тарас побледнел. Затем он скомкал бумажку, порвал ее и бросил в парашу. Ухватившись за голову, он вдруг закружил по камере и, упав на койку, зарыдал громко и безутешно.
– Да ты что, парень… что? – попробовал его успокаивать Зотов. Он взял Тараса за плечи, хотел поднять его. Тарас вырывался, снова падал лицом на соломенный матрац и кричал еще громче. Он, задыхаясь, всхлипывал, вздрагивая всем телом, судорожно хватался за койку, тюфяк, словно стараясь кого-то обнять. Наконец рыдания прекратились, Тарас поднялся с красным заплаканным лицом и опухшими глазами. С трудом умылся, сел против Зотова.
– Дядя Антон… А давай вправду улетим?
Зотов с состраданием, по-отцовски посмотрел на парнишку.
– А скажи, зачем тебе воля? Будешь снова воровать, чтоб когда-нибудь прибили или искалечили на всю жизнь? Еще хуже будет.
– Я уйду от них. От воров… – убежденно выдохнул Тарас и ударил себя кулаком в грудь. – Примите меня в эту… в вашу подпольную типографию. Возьмете меня? У меня отца сгубили. А вот теперь и мать померла… Записку дружок прислал… – Лицо Тараса стало вновь наливаться огнем. – Я мстить буду за них. Ведь мне же ваши скажут, как надо мстить. Я теперь знаю, кто виноват, что я один остался. Дядя Антон, таких, как я, принимают у вас? Я всё буду делать. Если нужно, убивать пойду этих гадов. Как Степка Разин… – Глаза Тараса горели решительностью. – Я… я знаю, как улететь. Тюрьму подожгем… Они всех вытолкнут на улицу, а там крой кто куда. Пускай стреляют…
– Нет, не пойдет так, – твердо оборвал Тараса Зотов. – Подожгем… Ты мечтаешь, что на улицу выгонят? А если нарочно воспользуются и пожгут нас? Тут многих довели допросами, что те и ходить не могут. Вытолкни таких… Еще и камеры крепче закроют. Что мы для них? Я их знаю… Но ты, парень, не беспокойся. У меня тоже план есть. У нас и дело уже сговорено. Всей тюрьмой… Не мстить надо, а бороться, власть свою, рабочую установить. Отец твой не такой горячий был. Вот пропал отец при расстреле, мать там же покалечили… А кто это сделал? Солдаты, скажешь? Солдаты пешки, надо до корня доходить. Убьешь ты, к примеру, жандарма, на его место еще два. Говорю, надо за самый корень браться. Этот корень – купцы пожаднее, помещики, заводчики, капиталисты. Они, значит, всё на народном горбу организовали себе, всё у них в руках. Главное, власть их, а не наша, установлена. Рабочий люд горбит, а они сливки согребают. В одиночку мстить им? Не… Опрокинуть всю эту власть надо…
Долго еще Зотов рассказывал Тарасу о том, какая при народной власти хорошая наступит жизнь. Под конец дядя Антон негромко, склоняясь к уху Тараса, вымолвил неожиданное:
– Что до побега, то все готово. Нужен только человек сильный, надежный, чтоб почин сделал. Я бы сам, да куда мне… И так хромой, да на допросах добавили, каждый с ног сшибет. Тут всякие есть, но и наших много сидит, их вот и хочется в первую голову освободить. Они сейчас на нашей работе во как нужны!..
Зотов стал шепотом раскрывать план побега. Это было смелое, рискованное и в то же время вполне возможное дело.
Черные глаза Тараса заблестели догадкой.
– Дядя Антон, в соседней камере Кошка сидит. Может, видел, рыжий такой? Пойдет за надежного? Ему точно каторга светит, Сибирь… Он на все пойдет. А силища у него…
– Хорошо. Но надо помозговать, – согласился Зотов и снова повеселел. Ему уже начинало казаться, что он не смертник. Что это просто шутка, будто его приговорили к высшей мере. Появилась надежда, что он еще выйдет на волю и поработает как следует.
В этот же вечер Тарас сумел хитро, через полупьяного надзирателя передать Кошке горбушку, что принес Соловей, с замаскированной в ней запиской о побеге и с планом, что и как тот должен делать.
На другой день вечером дежурил надзиратель Оглобин. Желая поскорее управиться, он по обыкновению выпустил вместе две маленькие камеры, 20-ю и 21-ю. Шесть человек зашли в уборную. Долговязый Оглобин, зыркая жадноватыми глазками, стоял у открытой двери и, позвякивая связкой ключей, дожидался, когда арестанты кончат оправку.
Кошка, делая вид, что его подпирает, выругался и закричал на Тараса:
– Слезай, скворец, другим тоже хочется посидеть. – А затем, обратившись к Оглобину, предложил: – Закурим, господин начальник? Махорочка, конечно, не турецкий табачок, но чистит горло хорошо.
– Что же… За компанию, как говорится, и жид удавился, хехе…Чуток можно… – согласился Оглобин и, взяв бумажку с табаком, стал медлленно скручивать цигарку, испытующе поглядывая на парня. Кошка тоже свернул и не торопясь спрятал невзрачный кисет в карман. Чиркая спичкой по коробу, Кошка крутил в зубах цигарку, но больше ничто не выдавало его волнения.
Закурив, Кошка аппетитно затянулся и протянул догорающую спичку надзирателю. Оглобин, скручивая цигарку из чужой пачки, не пожалел махорки и соорудил целую козью ногу, чтоб накуриться на несколько часов вперед. Но не успел еще и раза пыхнуть, как Кошка сильно и умело лягнул его по ногам. Надзиратель в момент грохнулся на грязный каменный пол.
Миг – и пять арестантов вцепились в надзирателя. Кошка железными пальцами сдавил любителю чужого табачка горло…
– Извиняйте, я… – только и успел молвить Оглобин.
– Ничего, ничего, лежи спокойно, – подбадривал того Кошка. – Ты же понимаешь, какое дело, у нас без этого нельзя…
Оглобина раздели донага, его же нижним бельем и ремнем скрутили руки, запихали в рот туго скрученную тряпку, чтобы он не мог пикнуть и, посадив на стульчак, крепко привязали к нему.
Плотный Кошка втиснулся в форму Оглобина, пристегнул кобуру с револьвером и направился по коридору к выходной двери. Тем временем Зотов и Тарас забрали у Оглобина связку ключей. Они бросились отпирать камеры, сначала политических, а потом какие удавалось, при этом предупреждая арестантов, чтобы те не шумели и выходили из камер в коридор.
Кошка, спустившись на второй этаж, увидел надзирателя. Тот стоял около одной из камер, подбирая ключ в связке. Кошка надвинул фуражку на глаза, чтобы не сразу быть узнанным, и уверенно двинулся к надзирателю. Уже наступали сумерки, но лампочка в коридоре еще не горела. Не дойдя шагов пяти до надзирателя, Кошка выхватил револьвер.
– Руки вверх!.. Уложу!..
Надзиратель с испугу присел и, не сопротивляясь, поднял руки. Сверху спустились другие арестанты и этого второго надзирателя, как и Оглобина, оттащили в уборную.
Такая же участь постигла и надзирателя первого этажа. Вскоре практически все камеры в тюрьме были открыты. Разношерстные арестанты торопливо одевались и, толпясь в коридорах около выходных дверей, настороженно прислушивались, ожидая сигнала, чтобы броситься лавиной из узилища.
Тем временем три переодетые надзирателями арестанта спокойно вышли из корпуса. Два из них направились в канцелярию. Это были молодые, решительные парни; один – солдат, убежавший с фронта, а другой политический. Когда они зашли в канцелярию, Кошка быстро подошел к постовому у ворот. Тихо, чтобы не расслышал часовой за воротами, Кошка прошипел:
– Вверх руки!.. Ни звука!.. Прибью!..
Но часовой попался не из пугливых, сумел выхватить свой револьвер. Кошка снизу саданул его по руке, и выстрел ударил в воздух. Тут же из корпуса хлынул поток арестантов – одни бросились к воротам, другие в канцелярию, а третьи за корпус, где стояли часовые.
Хлопнуло несколько беспорядочных выстрелов, взвизгнули свистки, и всё смолкло. Ворота оказались запертыми снаружи. Часовой, который там стоял, куда-то побежал. Его свистки раздавались все дальше и дальше.
Расправившись с надзирателями и служащими в канцелярии, арестанты лавиной бросились через стену, сообразив притащить к ней ящики, столы и стулья из канцелярии, десятки лавок из бани и всё, что попадалось подходящее. И по этим грудам муравьями карабкались на стену.
Весь тюремный двор был запружен. Политические смешались с уголовниками. Поднялся гвалт, и никто уже не старался сдерживать себя. В некоторых явно проснулся зверь, и только одно желание руководило ими: поскорее перебраться через стену, пусть и по головам других… Зотову помогал Тарас. Но за них то и дело цеплялись другие, хватали за руки и за ноги, стаскивали вниз…
Тут из толпы вынырнул Кошка. Точно пьяный, он кричал направо и налево:
– Разбегайся, я вам свободу даю! – Увидев Тараса и Зотова, он заорал еще громче: – Старику помогите! Лезь, отец!..
Политические из 10-й камеры и рябой парашечник помогли Зотову взобраться на стену, а затем, помогая друг дружке, кое-как влезли сами. Отсюда один за другим арестанты прыгали вниз. Чтобы не задерживать других, хромой Зотов, а за ним и Тарас, бросились со стены…
Кошка же медлил прыгать. Сидя, он продолжал орать:
– Разбегайся, братва, хватай свободу!..
Тарас заметил, что дядя Антон здорово ушибся. Но всё же поднялся и, опираясь на Тараса, запрыгал. Вскоре они скрылись в саду, расположенном неподалеку от тюрьмы. Здесь Зотов упал на первую же скамью.
– Дальше не могу… И ступить нельзя… Ты давай вперед, парень, а мне все одно конец.
– Дядя, тут же рядом совсем… Из садика в переулок, – сбивчиво уговаривал Зотова Тарас. Их обгоняли арестанты, разбегаясь по переулкам во все стороны.
Наконец Тарасу удалось уговорить Зотова, старик, мучительно морщась от боли, запрыгал дальше.
Вот они уже выбрались из садика и движутся по переулку. Осталась всего сотня шагов до домишки, где обитал Соловей и где можно спрятаться. Но тут у Тараса захолодело сердце: навстречу цепью бежали солдаты с винтовками на перевес, скакали на цокающих конях казаки.
– Ну всё. Кончено! – с отчаянием выдохнул парнишка. – Прощай, дядя Антон, больше нечем помочь.
Тарас рванулся в первые же ворота. Широкий двор с двумя сараями пуст. Через мгновение он забился в щель между дровяным сараем и высоким забором. Местечко было укромным, опасность быть найденным почти миновала, и беглеца мучила лишь мысль о бедном Зотове…
Неожиданно на соседнем дворе зарычала собака. Гремя цепью, псина подобралась к самому забору и почти над ухом Тараса стала отрывисто гавкать. В отчаянии Тарас попробовал ласково уговорить пса:
– Кутёк… Шарик… Полкан… Ну молчи, молчи!.. – Но собака продолжала хрипло лаять, невольно выдавая спрятавшегося беглеца.
Тарас уже решил выбраться и нырнуть в другую, более надежную дыру, но не успел он вылезти из укрытия, как тут же был обнаружен. Два солдата схватили его, скрутили руки и потащили со двора, то и дело подсаживая пинками.
У самой тюрьмы руки Тараса отпустили, но бежать ему уже было некуда. Цепь солдат и казаков выходила из сада, из переулков. Они гнали перед собой арестантов гуртом, как скотину. Тех, кто сопротивлялся, били смертельным боем. Под крик, стоны, ругань и проклятья кольцо сжималось у́же и у́же…
Но Тарас, к радости, обнаружил, что добрая половина беглых сидельцев всё же успела скрыться. Около тюрьмы пригнанную толпу задержали. У ворот построили два длинных ряда солдат и офицеров. Арестантов по одному стали пропускать сквозь этот строй…
У Тараса потемнело в глазах, когда он увидел, что творили с несчастными. Очередь дошла и до него. Стиснув зубы, не подавая вида, что страшится, он шагнул на эту живую длинную плаху… Тут же свистнула плеть и ожогом легла на спину. Тарас качнулся вперед, но чей-то палаш ударил его по рукам. Затем посыпались удары прикладов, шомполов и нагаек.
Парнишка закачался, захрипел и, не дойдя до середины строя, упал без чувств. Его подхватили два солдата и потащили дальше…
Тарас открыл глаза и понял, что находится в той же одиночке и опять с дядей Антоном. Сначала ему почудилось, что побег и избиение были только кошмарным сном. Но нет, Зотов охал и постанывал еще сильнее, чем в тот день, когда Тарас вернулся из карцера. Да и у него самого тело болело и ныло так, будто его переехало несколько груженых подвод, переломав все кости.
Зотов лежал на койке почти без движений. Его обросшее лицо серело, теряло жизнь…
После побега арестантам уменьшили пайки, отменили прогулки и не выпускали в уборную. Жесткий режим продолжался несколько дней, затем немного ослаб: снова стали выводить из камер, но лишь на оправку. В коридорах теперь дежурило по два надзирателя. Они стали заметно грубее, глядели по-волчьи, разговаривали с матюками.
Несмотря на усиленные режим и надзор, по тюрьме разными путями поползли слухи. Говорили, что по камерам под видом арестованных рассажены шпики, чтобы точно выведать зачинщиков бунта и побега. И что все зачинщики будут посажены в карцеры и там замучены до смерти. Эти слухи подтверждались тем, что в тюрьму стали приводить много новых арестованных.
В одну из ночей Антон Зотов, явно чувствуя свою неизбежную кончину, решил написать письмо дочери. Как ни постарались надзиратели вычистить камеры от всего, что так или иначе могло бы способствовать связям арестантов внутри тюрьмы и с внешним миром, бумагу и карандаш в камере опытные сидельцы спрятать сумели. С трудом выводя строки, Зотов намеревался передать это последнее письмо через парашечника, как это делал и раньше. Но, не дописав несколько слов, почувствовал всё более охватывающую боль в груди. Его сердце как бы вспыхнуло, дыхание сжалось от перебоя, и Зотов упал на койку без памяти…
Проснувшись, Тарас удивился: сквозь решетку уже пробивался свет, а поверки не было. «Что еще за оказия?» – гадал он, услышав, как в камерах их этажа арестанты всё громче стучали в двери, что-то кричали, требовали. Бросив взгляд на неподвижно лежавшего Зотова, Тарас поспешил к «волчку». И удивился еще больше. Надзиратели в коридоре почему-то не орали матом, как раньше, а пробовали уговаривать арестантов.
– Не велено, не велено выпускать, и всё. Не приказано…
Тарас недоуменно обернулся на койку Зотова. Только теперь он заметил, что Зотов лежит не моргая с остановившимися безжизненными глазами…
– Дядя Антон, дядя Антон! – вскрикнул парнишка и испугался своего голоса…
Через минуту смятения Тарас заметил бумагу, зажатую в руке умершего. Он осторожно вытянул ее из холодных пальцев и отскочил к двери. Поглядывая в «волчок», осторожно, с непонятной боязнью развернул лист. В глазах запрыгали неровные строчки, словно пишущего кто-то торопил, толкал под руку…
«Наденька, доченька моя, – писал Зотов, – таскали меня недавно на допрос, там колотили, но я ничего этим гадам не сказал лишнего, никого не выдал. А потом, ты, наверно, про это слыхала, пробовали мы бежать. Много наших товарищей ушло, а вот я не успел уковылять. А когда нас сквозь строй пропускали в тюрьму, меня вовсе доконали. Был изуродован на войне, а теперь и здесь… Меня только одно утешает, что я сохранил свою организацию, не выдал товарищей. Я, Надюша, уверен, что придет времечко и ты вместе с товарищами постоишь за трудовое дело и как следует отомстишь за меня, за всех. Попируют эти еще, но чует сердце, что скоро расплата, что придет правда мозолистая. Вырастет она на земле, упитанной нашей кровушкой и потом. Одно жалко, сколько лет за дело рабочее положил, и вот рядом уж новая жизнь, а вряд ли увижу ее. Веревку они мне готовят, да по всему не дождутся.
Доченька, ты никогда не пятнала меня, помогала, росла смелая и справедливая. Впереди много трудного, но главное, что рабами не будем мы больше никогда. Посмотреть бы на тебя хоть одним глазком, касатка ты моя. Но не буду растравлять тебя… Прощай. Сплел я тебе поясок на память. И не руками катал хлебные зернышки, а думками о тебе, и все их делал как сердечки. Я…»
На этом письмо обрывалось.
С волнением прочитал Тарас последнее послание дяди Антона, словно оно было адресовано и ему… Потом спрятал бумажку в карман, схватил серый помятый чайник, стал со злостью колотить им в дверь. Но никто не подходил к «волчку», словно в коридоре было пусто. А в соседних камерах арестанты кричали всё сильнее.
Тарас опустил чайник, смахнул холодный пот со лба и стал прислушиваться. За стеной нарастал какой-то непривычный, подозрительный шум. Он поднялся на столик и, вытянувшись, глянул через решетку. Перед взором измученного неволей парнишки предстало волнующее зрелище. По направлению к тюрьме шла огромная толпа. Тут и там над головами людей трепыхались, как костры, красные флаги. Доносились твердые звуки какой-то песни. Шествие стремительно приближалось к главному царицынскому узилищу. Тарас смотрел, смотрел и не видел конца, ему казалось, что сюда идет весь город.
Но вот толпа подошла совсем вплотную. Тарас на миг спрыгнул вниз, снова схватил чайник, залез на столик и разбил грязное стекло узкого оконца. В камеру вместе со свежим мартовским воздухом ворвались ясные крики: «Товарищи, свобода!..», «Революция!.. Революция!..»
Пришедшие к тюремным стенам смотрели на окна, махали руками и что-то кричали узникам. И опять в радостном многоголосье лучше всего было слышно одно: «Революция!.. Свобода!.. Товарищи!..»
Вскоре толпа упругим потоком ворвалась в тюремный двор, бросилась к главному корпусу. Солдаты махали винтовками, рабочие прутами и ломами, женщины и старики вглядывались в окна, ища в них родные лица. Мелькали и какие-то остроглазые типы, без особой революционности на лицах, наверняка выглядывая дружков-уголовников. На этажах корпуса сильнее нарастал треск взламываемых дверей и решетчатых ограждений.
Вот и в дверь камеры Тараса зачастили ухающие удары. Наконец дверь то ли распахнулась, то ли вообще сорвалась с петель, и высоченный разухабистый мужик с обликом грузчика громко, словно на другой берег реки, заорал:
– Выходите! Вам революция свободу дает!..
В коридоре люди обнимались и плакали, торопились оказаться на воле, всё ещё не веря до конца в происходящее.
Неожиданно Тарас увидел Надю Зотову, которая, разрумянившись, прорывалась против течения толпы, искала камеру отца. На ее груди, как восходящее солнышко, алел большой бант. Завидев Тараса, она с радостью кинулась в камеру:
– И ты тут! Тарас, у меня где-то здесь отец…
Увидев неподвижно лежащего Зотова, она сдавленно вскрикнула и разрыдалась, упав головой на холодную грудь не дождавшегося ее родителя…
Камера заполнилась людьми. Все замолчали и сурово переглядывались.
А тем временем на тюремном дворе по толпе летали крики:
– Ура!..
– Свобода!..
– Конец буржуям!..
Но вот из корпуса выходит группа людей с носилками. Любопытные потянулись было вперед, но притихли. Толпа расступилась, люди шепотом стали передавать весть о замученном старике-большевике. Затем над головами поплыл, стал нарастать ропот. И вот уже группа мужиков молча, по-деловому поспешила обратно в корпус. И вскоре запылала в черном треске мрачная глыба узилища…
Чем сильнее металось пламя и выше поднимался дым, тем громче слышались крики людей. Рыжий работяга, взобравшись на ящик, вдруг замахал руками, чтоб его услышали:
– Казакова сюда!.. Митинг!.. Пусть Казаков говорит… Митинг давай!..
Тарас увидел, как средь толпы образовался круг, принесли стол из канцелярии и установили его ближе к носилкам с мертвым Зотовым. На стол не торопясь ступил рослый молодой мужчина в рабочей блузе. Ветер трепал его смолистые волосы. Играя желваками скул, Казаков выбросил вверх руку, выждал, пока стих говор.
– Товарищи!.. – раздался его крепнущий голос. – Мы ждали революции и свободы. Сотни лет защитники народа сидели в тюрьмах и всходили на эшафоты. И вот теперь двери к свободе открыты. Царизм пал, рассыпался в труху. Да, нам обещают свободу. Но ту ли, какую мы ждали, за какую умирали такие, как этот израненный на проклятой войне и уморенный в застенках рабочий Антон Зотов? Не верьте посулам и агитации меньшевиков и эсеров. Не успокаивайтесь! Были такие революции и у других народов, но эксплуататоры опять возвращались на троны, если не цари, так буржуи. Народ вновь загоняли в рабство и кидали в тюрьмы, и кабала опять росла. Дерево самодержавия срублено, но надо еще выжечь все корни, которые питали его. Надо убрать помещиков и капиталистов.
Казаков с улыбкой окинул толпу, хотел еще что-то сказать, но снова неукротимое «Да здравствует революция! Дорогу свободе!» – покатилось по толпе. Выше поднялись красные полотнища, некоторых освобожденных подхватили на руки и стали их качать.
Тут только Тарас увидел, как взлетал над толпой арестант с очень уж знакомым лицом. Приглядевшись, Тарас узнал Арнольда Бояринцева. И враз потухла в нём воспылавшая от митинга радость, как костер, залитый водой…
Желая разобраться в увиденном, Тарас обратился к рыжему рабочему, тому самому, который первый призвал к митингу.
– Дяденька, скажи, а вот которые выдавали подпольные типографии и вместе с жандармами обыски делали, листовки искали… Они что, тоже свободой будут пользоваться?
– Ты это про кого?.. Про того, что ли, которого вон там качают? Он что, жандармский прихвостень, провокатор?
– Да, – твердо ответил рабочему Тарас.
– Таких, парень, мы, как вшей, на ноготок и р-раз!
Мужики бросили Бояринцева на землю и расступились. Он пробовал было подняться, но Тарас саданул его кирпичом…
Заметив, что на голове Бояринцева проступила кровь, Тарас почувствовал какое-то облегчение, словно раздавил жирного клопа, который долго сосал его кровь. Удары посыпались на Бояринцева со всех сторон. В этот момент в толпу пробралась Надя.
– Не бейте!.. Надо провести его по Царицыну, показать всем! Чтоб все видели эту жандармскую гадину!..
– Правильно, девка! – согласился кто-то.
– Представить шпика!..
– Чтоб все его видели… И замученного старика тоже, – загудели голоса.
Кто-то принес из канцелярии крышку от папки, на которой наспех написали: «Шпик. Провокатор».
За передние ручки носилок взялись Надя и Тарас. Людская колонна двинулась к центру Царицына.
Идет Тарас, сбиваясь, поет, вторя Надежде, повторяет ранее никогда не слышанные слова:
Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу…
Тарас оборачивается, смотрит на Зотова и кажется ему, что старик слышит эту песню. А иначе почему же у него такое спокойное и довольное лицо, словно у живого?
1935–1936
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































