Текст книги "Цвет жизни"
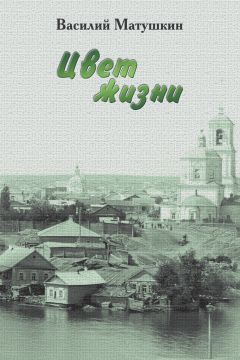
Автор книги: Василий Матушкин
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Базарная площадь роится, гудит. Народ толчется на ней, как загнанное на тесный баз стадо. По краям площади – большие лабазы, магазины, в середине кривыми рядами тянутся мелкие лавчонки. Стоят воза свежего пахучего сена. Далее молочные, зеленные и прочие ряды.
Криками, руганью, поросячьим визгом, ржаньем лошадей перекликается древняя царицынская площадь.
Самая большая толчея за мучным рядом. Здесь так густо от скопившегося люда, что, кажется, можно ходить прямо по головам. Одни это место базара называют «бешенкой», другие – «кружилкой», «вшивым рынком».
Здесь прямо на земле навалены груды изъеденного молью и мышами тряпья, старой обуви, домашней посуды, книг и множества других вещей. Торговцы и торговки расположились со своим товаром длинными рядами. Между ними толпятся покупатели, зеваки, продавцы товара с рук.
Бояринцев не торопясь пробирается мимо ворохов старья, чутко прислушивается к разговорам, выкрикам, подозрительно оглядывает неблагонадежных.
Вот он остановился около седого старика, который вытащил на базар груду истрепанных книг и пальто, уже потерявшее свой первоначальный вид и цвет. Усевшись на корточки, Бояринцев вяло перебирает не особо интересующие его книги. К старику юрким голодноватым воробышком подскакивает еще один покупатель – мужичок в широких, как у грузчика, шароварах и в плотно обтягивающей талию ученической куртке.
– Сколько хочешь за эту рухлядь? – спрашивает он и начинает разглядывать пальто на свет, пересчитывать заплаты.
Старик сначала просил пять рублей, потом трешницу, наконец съехал на два рубля. Теперь он чешет затылок и безнадежно машет рукой:
– Крайняя цена полтора рубля…
Но бывалый покупатель и тут несогласно свистнул, дескать, загнул старина. Снова рассматривает пальто на свет. Локти почти насквозь протерты.
– Не новое… – вздыхая, соглашается старик. – Но перелицевать еще можно.
Просунув в растрепанную петлю палец, покупатель с невозмутимым видом продолжает:
– И петли – тово…
– Да это ничего… Дырки-то, их залатать можно, а петельки на ином месте прорезать, – пробует найти выход старик.
Но покупатель гнет своё:
– Работа большая… И вида не будет.
В уме он подсчитывает, сколько потребуется ремонту.
– Пятьдесят копеек, – тоном окончательного решения наконец произносит покупатель, передавая пальто старику и вытирая, как от грязи, руки об свои шароварища.
Старик вздыхает, качает головой:
– Да что ж я на эти деньги сделаю? Дома-то у меня два рта кроме меня. Пожалей, мил человек, не для себя продаю, внучатам на хлеб. Отец-то их на войне, уж три года мается…
Бояринцев, полистывая роман «Война и мир», вдруг схлопнул книгу, стал прислушиваться к торгу.
– Ну ладно, четвертак прибавлю на внучат.
Торг длится еще минут десять. Вновь и вновь обладатель шаровар и ученической куртки поднимает к солнцу пальто и находит новые дыры…
Наконец, обрадовав зевак, седой соглашается отдать пальто за семьдесят пять копеек. Получив деньги, он тщательно их пересчитывает, кладет поглубже в карман, всё так же безнадежно качая головой.
А мужичок в ученической куртке уже распушившимся воробышком летает в толпе и громко кричит:
– По случаю, по дешевке, демисезонное пальто диагональ. Пять рублей!..
Бояринцев, не услышав ничего подозрительного, решает уходить. Но вот его глаза задерживаются на потрепанной книжке в ободранной обложке. На титульном листке выцветшие буквы: «Русская история». Бояринцев перелистывает учебник, и его скучное лицо начинает оживляться. Почти на каждой странице он находит портреты царей, полководцев и патриархов. И все они чьей-то смелой рукой разрисованы. Одному подмалеван, как пьянице, нос, другой повешен за веревку и выпустил язык. А императору Николаю и царице подрисованы длинные уши…
Бояринцев в радостном волнении от такой находки.
– Сколько ж вы, отец, хотите за эту книжечку?
– Пятак, – без раздумий отвечает старик.
Бояринцев, не торгуясь, платит и, окрыленный надеждой, что напал на нужный след, осведомляется:
– Может, у вас еще какие учебники дома имеются?
– Как же, целый ящик, – добродушно хвалится старик. – У меня сын был охоч до грамоты. И география и арихметика. Закон Божий, конечно… Разные ученые книжки есть. И прямо умористые тоже есть. Как, бывало, начнет он, сын-то, мне рассказывать… Будто человек от собаки или там от обезьяны произошел. Откуда же от обезьяны, когда у человека-то хвоста нет!
– Вот-вот, мне такие и нужны, – обрадованно заторопился Бояринцев.
– Завтра же принесу.
– Зачем же трудиться старичку, – заметил Бояринцев. – Я сам могу к вам забежать. Вы мне адресочек только дайте-с…
В этот же вечер Бояринцев привел жандармов на Канатную улицу. Во время тщательного обыска в домике у старика была найдена пачка писем от сына с фронта. В одном из них говорилось, что по всему скоро царь и все правители полетят вверх тормашками и тогда война кончится. За крамольное письмо и за «Русскую историю» старика взяли под стражу.
После этого случая репутация начинающего сыщика Арнольда Бояринцева заметно окрепла, и он был взят в жандармское управление на постоянную службу. Вскоре Бояринцев совсем бросил мечтать о собственном гастрономическом магазине, поскольку перед ним развертывались куда более заманчивые перспективы. И он постоянно стремился доказывать, что недаром ест жандармский хлеб. Одевшись под мастерового или мелкого служащего, он целыми днями бдительно сновал по «обжоркам», базарам и магазинам Царицына в поисках подозрительных людей.
Как-то вечером Бояринцев направил свои стопы в известную закусочную «Золотая чайка» на Архангельской улице. Здесь он плотно подкрепился и, не заметив ничего подозрительного, покинул заведение. Город продувал довольно сильный ветер; улицы опустели. После ужина тянуло покурить, но вынутая из кармана пачка оказалась уже пустой. Бояринцев направился в магазин.
Почти в самых дверях он неожиданно столкнулся с девушкой. Глянув на нее, сыщик вздрогнул и посторонился в темноту, чтобы не дать себя опознать.
То, что эта девица не кто иной, как Зотова, у Бояринцева уже не было сомнений, хотя Надя заметно изменилась. Казалось, что всё забыто и его вряд ли взволнует встреча с ней. Но сердце вновь замерло и забилось чаще. Но не от теплых душевных чувств. Вспыхнуло другое… Когда-то Бояринцеву и впрямь казалось, что он искренне любит Зотову. Но полученная от этой девчонки позорная пощечина надолго заронила в нем желание однажды отомстить обидчице. И вот теперь….
К тому же, справедливо поразмыслил он, теперь, будучи штатным служащим жандармского управления, он может безнаказанно исполнить задуманное. Тем более строптивая девица уже исключена из школы как дочь политического. А с подобными церемониться нечего.
С такими мыслями и желаниями сыщик Бояринцев, профессионально крадучись, направился вслед за Надеждой Зотовой.
Но что это? Почему она с зембелем, полным продуктов, уже в порядочно сгустившихся потемках идет не домой, а в сторону Волги, к пристаням?
Полный разноречивых догадок и сомнений, Бояринцев продолжал преследовать девушку. В его голове уже начинали копошиться мысли иного порядка. А что если Зотова причастна к подпольной организации, как и ее отец?
Такое предположение подтверждалось каждым новым шагом девушки.
Вот она спустилась к берегу Волги, села в небольшой рыбачий челнок и поплыла вниз, подозрительно прячась за баржами, пристанями и пароходами.
Бояринцев бежал по набережной до окраины города, чтобы приметить, где высадится Зотова. И уже за водокачкой, за белым оврагом, черная точка вдруг круто повернула, стала медленно, но верно двигаться поперек реки в сторону острова. Сыщик хорошо знал, что на этом лесистом острове, омываемом со всех сторон Волгой, никаких поселений нет, кроме одинокого домишки бакенщика.
В полной уверенности, что там скрываются революционеры, Бояринцев, не теряя ни минуты, бросился бежать в жандармское управление.
* * *
Отец Нади Зотовой, старый рабочий, после того как стал большевиком, долгое время находился под неусыпной жандармской слежкой. И однажды решил покинуть город.
По чужому паспорту Зотов устроился бакенщиком, стал жить в домишке на волжском острове, который официально зовут Голодным, а в народе еще и Дубовским, хотя дубов, в том числе и вековых, много на соседнем острове, Сарпинском. Там и хутора с селами. Потому подпольщики выбрали практически безлюдный Голодный, перебросив в жилище бакенщика, кроме всего прочего, небольшой печатный станок.
Раз в неделю, вроде бы за рыбой, на остров приезжала Надя. Она привозила отцу провизию, затем укладывала на дно зембеля несколько пачек прокламаций, сверху пойманную отцом рыбу и увозила поклажу в город.
До того как Зотову начал выслеживать Бояринцев, она наведалась в рыбную лавку, где получила от члена подпольного комитета Казакова оригинал новой прокламации. Под видом торговца рыбой Казаков принимал от Нади не только судаков да лещей, но и пачки свежеотпечатанных прокламаций, передавая их дальше, по назначению.
Вручая теперь девушке листок с новым текстом, он тихо сказал:
– Праздник скоро будет, Наденька, большой спрос на зубастых щук. Поработайте ночку, чтобы утром несколько сотенок были на месте. Это обязательно!
– Был бы спрос, а улов будет, – улыбнулась девушка. Потом свернула листок, умело засунула в резиновый мешочек, накрепко завяла его и спрятала в горшок с кислым молоком.
И теперь, придя на темный волжский берег, она отвязала лодку и внимательно оглянулась по сторонам. Вроде бы ничего подозрительного. Изредка покрикивают издали пароходы. Ближайший дебаркадер освещен электрическими огнями. Видно, как один за другим торопливо движутся грузчики по сходням на дебаркадер и пароход. Они, переругиваясь, таскают мешки. Пароход тихо посапывает.
Спрятав зембель в ящик под сиденьем на корме, Надя оттолкнулась веслом от берега. Лодка закачалась, начала медленно резать надвое темную воду. Девушка еще раз внимательно глянула окрест и взялась за весла.
Рассохшиеся кочетки уключин некстати заскрипели. Надя насторожилась, зачерпнула горсть воды, смочила кочетки. Теперь весла уверенно и без шумных всплесков опускаются в черную реку. Лодка послушно обогнула дебаркадер, пароход и, выйдя на быстрое течение, заплясала на волнах.
Надежда осторожно ведет лодку в тенях барж и пароходов. Но вот миновала пристань «Кавказ и Меркурий». Еще минут двадцать борьбы со встречным ветром – и лодка за городом.
Но впереди – самый трудный участок пути. Надо беспрерывно грести поперек Волги с таким расчетом, чтоб течением снесло как раз на Голодный.
Тормозя одним веслом, а другим загребая, Надежда повернула лодку. Выбрасывая вперед руки с веслами и откидываясь всем корпусом, она начинает грести изо всей силы. Но чем дальше уходит лодка от берега, тем больше волны. Грести трудно. Лодка то ныряет носом и задирает вверх корму, то заваливается набок. И тогда сердитый беляк, пенясь, уже высится над бортом, готовый опасно обрушиться в лодку. Но она, вертлявая, снова взлетает на гребень и потом, как с горки, скользит в следующий провал.
Волны ревут дикую буйную песню, ледяные брызги секут лицо девушки. Из-за туч, как вспышка, то и дело является луна. Тогда кажется, что все это широкое речное пространство усеяно осколками стекла. Тысячи блесток вспыхивают и тут же гаснут.
На середине реки упругие волны еще выше. Беляки бегут косматым стадом, кувыркаются и снова поднимают пенистые гривы.
Кажется, ветер решил повернуть течение реки вспять. Но она, упрямая, не хочет подчиниться, скалит зубы, рычит и все время рвется вперед, туда, к необозримому простору, к великому вольному Каспию.
Взволнованная неравной борьбой с волнами, Надежда невольно, как в горячке, начинает кидать наперекор ветру строки любимых стихов:
…Волга, Волга, весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля…
Она оборачивается и видит, что до острова еще далеко. Порывы ветра становятся резкими с лихвой. Уже ливнем хлещут ледяные брызги. Мокрая юбка вязким холодом липнет к ногам Нади.
– Доеду!.. Всё равно доеду!.. – упорствует она и еще сильнее нажимает на весла.
Но вот очередной беляк опять вознесся над бортом и с шумом опрокинулся в лодку.
«Доеду!..» – стискивает зубы Надежда и сдвигается в лодке вправо, чтобы левый борт поднялся выше и лучше сдерживал удары волн. Но расхрабившиеся беляки один за другим бьют лодку с еще большей силой. Лодка осаживается, Надежда чувствует, что ее ноги уже по щиколотку в ледяной воде. Еще немного – и мелькнет страшная мысль: «Конец…»
Почему-то ярко возник в памяти давний случай. Два года назад, в половодье, Надя ловила на Волге что попадется на дрова. Заметила, как среди мелкого льда покачивается на волнах большая коряга. Обрадовалась, направила лодку ближе. Затем багром попыталась нащупать сук, к которому можно было бы привязать веревку и поволочить находку к берегу. Но коряга вдруг перевернулась в воде, и Надежда испуганно вскрикнула. Это был всплывший со дна утопленник, давний, распухший, весь пропитанный илом… После этого она неделю не решалась приходить к Волге.
Стараясь заглушить мрачное воспоминание, Надя твердит сама себе:
– Доеду!.. Доплыву!..
Она хорошо знает, что стоит только бросить грести и начать откачивать воду, как лодку моментально закрутит и зальет.
Девушка еще раз оглядывается на остров и с ужасом замечает, что еще пять-десять минут, и ее снесет ниже Голодного. И тогда она окажется на середине Волги…
Между тем левое весло ударом волны сорвало с кочетка. Надежда бросается за ним, но лодка накреняется и зачерпывает воду.
Надя пробует кричать о помощи, но ее голос тонет в шуме ветра и волн. Если бы было лето! Тогда бы она запросто вплавь достигла берега. Но хоть умри теперь нельзя расстаться пусть и с полузатопленной лодкой. Надя хватает весло, один конец сует под лавку, другой привязывает сорванным с головы платком к кочетку и, сидя в воде, продолжает работать одним веслом. Несмотря на отчаянную борьбу с волнами, лодку продолжает сносить ниже острова. Окоченевшими руками девушка продолжает грести вперед и время от времени кричит о помощи.
Но ни парохода, ни баржи, ни другой какой лодки… Лишь ворочаются глыбы волн, и нет им конца. Кажется всё, все силы иссякли. Впору бросить весло и нырнуть за ним вслед… Прерывисто вырастают в памяти сначала лицо отца, потом веселый Казаков, за ними следует Тарас и напоследок коряжий утопленник… Руки всё более коченеют, они уже с трудом держат весло.
Чтобы забыться, Надежда гребет и считает, сколько раз она взмахнула веслом, но счет путается.
В темноте трудно разобрать, много ли осталось до берега. И хотя волны стали мельче, ослабевшая Надежда не замечает разницы. Ее лицо мокро от слез и воды, голова кружится, перед глазами пляшут уже не волны, а какие-то чудовища. Они стаями налетают на нее, топчут… Постепенно пропадает ощущение холода…
Погрузив в очередной раз весло в воду, Надя, еще не совсем осознав удачу, с измученным облегчением вскрикнула:
– Дно!.. Дно!.. – И вся задрожала. Но тут же выпрыгнула из лодки и с невесть откуда взявшимися силенками потащила ее к берегу. – Миленькая, приплыла… Дно, дно… – лепечет она, как безумная.
Еще несколько саженей, и лодка уперлась в сушу. Надя, насколько смогла, вытащила ее по песку на берег, с трудом раскачала, сумела накренить, выплеснув почти всю воду.
Взяв мокрый зембель, девушка побрела к кустам. Там скинула с себя все до рубашки и, выбивая дробь зубами, стала выжимать одежду трясущимися, как у лихорадочной, руками…
Затем, одевшись, она бегает до устали, кувыркается, стараясь согреться. Достает из зембеля намокший хлеб, колбасу, жадно ест, отчаянно пляшет, чуть ли не катаясь по земле… Разогревшись, видит, что у берега волны совсем небольшие и можно двигаться дальше. Да и ветер вроде стихает. Мысль, что теперь она может добраться до острова и там в тепле отдохнуть сполна, вселяет в нее бодрящую радость.
Надежда опять с трудом пихает лодку, на этот раз обратно, и садится за весла. Первое время руки как деревянные, но потом разминаются, и лодка помалу движется вверх, краем берега.
Надежда думает о встрече с отцом, о том, как он приготовит ей постель и она зароется в теплое одеяло. А потом отец согреет на загнетке чайник и будет поить ее. Затем станет внимательно набирать текст прокламации, а она будет рассказывать о том, что испытала, как думала о смерти, как отгоняла ее… И отец, как всегда, будет повторять:
– Ты у меня не девка, а прямо орел.
И хочется Надежде, чтоб об этой ее переправе через грозную Волгу узнали и Казаков, и Савин. И Тарас Квитко тоже…
После давней встречи в сквере она часто вспоминала бойкого черноглазого паренька. Надежда не могла выполнить своего обещания и принести Тарасу книжку, потому что в тот вечер и в последующие дни она по поручению Казакова перевозила на остров печатный станок, бумагу и другие нужные отцу вещи. Но почему-то верила, что рано или поздно, но она еще встретится с Тарасом, будет давать ему книжки. А там, глядишь, смышленый, много испытавший и смелый парень пригодится их организации, сам решит вступить в нее.
Мысль снова возвращается к отцу. Напившись чаю, она крепко уснет. Отец поправит одеяло, а затем скинет с себя солдатскую фуфайку и еще теплее укроет дочку… Эти мысли прибавляют сил, и Надя гребет забористее…
Уже светало, когда лодка наконец пристала к острову. Надя завела лодку в густые прибрежные кусты и, схватив мокрый еще зембель, быстро пошла знакомыми тропками. Вот еще один поворот, и уже виден домик, сейчас кажущийся ей избушкой из сказки…
Надя легко толкает дверь и замирает на пороге.
Полы в избушке расковыряны, развалена печь, разбит сундук, где хранился шрифт, постель перерыта…
– Обыск!.. – охнула девушка. – Арестовали!..
Сердце забилось больной тревогой. Надежда с перемешанными в душе страхом и ненавистью выбежала из домика. Кругом ни души.
«К Казакову… Сейчас же…» – стучало в голове Нади. Рванувшись обратно к лодке, она на секунду остановилась, увидев, как вдали вставало над Заволжьем огромное, кажущееся кровавым солнце. А совсем недалеко от берега медленно, словно покидая сон, двигался по равнодушной Волге пассажирский пароход.
Глава седьмаяВ камере, куда был посажен Тарас, находились два арестанта. Один низенький, очкастый, другой – не выше первого, но такой, что и двоим не обнять. Морда, как определил Тарас, давно кирпича просит. В эту пышную физиономию были вправлены голубоватые кукольные глаза.
– Молодой, а уже… – укоризненно покачал большой головой голубоглазый. – Это ж по какому же случаю угодили сюда? И как величать вас прикажете?
– Тарасом… Политический я… За распространение революционной литературы, – отрапортовал Тарас, припомнив жандармскую фразу.
– Вы? Революционер? – удивился очкастый, вскочив с койки. Скинув окуляры, он торопливо стал их протирать, словно желая поскорее убедиться, действительно ли перед ним политический.
Но еще больше удивился голубоглазый и как-то придушенно прошептал:
– Анархист будете? Или… из террористов? – Он сидел на койке, взирая на только что развязанный узелок с передачей: сыр, булки, яйца, печенье, конфеты. Его испуганный вид развеселил Тараса, он непринужденно сел рядом.
– Ни антихрист, ни бомбист, а этот… – Не договорив, Тарас покосился на «скатерть-самобранку» и без спроса загрёб горсть печенья. От такой дерзости голубоглазый чуть ли не подпрыгнул, потом спешно завязал узелок с провизией, стал засовывать его подальше от Тараса.
– Да не прячьте вы… Я ж только попробовать взял, – усмехнувшись, стал успокаивать Тарас.
– Но все-таки… За что же вас взяли? – любопытствовал очкастый.
– За самые пустяки, – искренно ответил Тарас. – Иду по улице, гляжу, а на мостовой разбитый ящик лежит, какие-то бумаги из него вывалились. Наверно, с подводы упал. Я и набрал в карманы бумаги той для нужника. И вот посадили за те бумажки. Разберутся, выпустят… – убедительно закончил Тарас.
– Ну, это вы, извините за выражение, побасенку надумали, – очкастый, недоверчиво захихикав, снова лег на койку.
«Брешет, – между тем подумал голубоглазый. – Сам поди стащил ящик с воза, а теперь рассказывает, что нашел». Он уже твердо решил, что новичок анархист.
Наслышавшись в тюрьме разных небылиц про беззаконников-анархистов и злопамятных воров, голубоглазый решил не ссориться с новичком. Пряча под подушку узелок с передачей и подделываясь под простодушный тон, он выступил вроде как в защиту Тараса.
– Нет, почему же, Серафим Григорьевич… Такие случаи бывают, я даже могу рассказать одну историю из своей жизни. Закупил я однажды у оптовика Гренадерова десять ящиков обуви и возвращаюсь на извозчике к себе в магазин. Нет, вы не представите, что случилось! Заканчиваем разгружать, а вместо десяти ящиков – девять. Тридцати пар изящных женских туфелек как не бывало. Нет, вы не можете себе этого представить… Я с ума сходил. Ведь даже несмотря на то, что остальные пришлось продавать по повышенной цене, на всей партии получилось убытку пять рублей сорок шесть копеек. Ужас!..
Рассказывая, голубоглазый порядочно возбудился и под конец, забываясь, возмущенно выпалил:
– Могли же разбойники, навроде вот этого… – Но тут же осекся и залепетал, обращаясь к Тарасу: – Извиняюсь, это я не на ваш счет… Это… – Но, не договорив, он вдруг остолбенел. То, что увидел голубоглазый, превзошло все его представления. Этот еще недавно вроде как извинявшийся ворюга во время его пространного рассказа об исчезнувших дамских туфельках смог вытащить из-под подушки узелок и с самым нахальным видом поедал булку с изюмом… И теперь, быстро представил он, такие истории могут происходить ежедневно. Смятение перед подобным будущим наполнило слезами его чистые глаза…
Увидев, как расстроился человек, как посерело его лицо и взмокли глаза, Тарас стал утешать жадноватого товарища по тюремному несчастью.
– А булочки-то у вас сдобненькие. Теперь в военные времена такие только в ресторанах имеются. Вам что, их каждый день приносят?
Голубоглазый отстраненно заморгал, ничего не ответив. Он сидел неподвижно, как ударенный параличом.
Через несколько дней Тарас вполне обжился и ближе познакомился с сожителями по камере. Очкастый, как оказалось, был ученым человеком, техником, бывал до войны за границей. Посадили его за выступление в земстве на банкете, где, изрядно выпив, он стал подвергать резкой критике правительство за «ошибки в войне», вдобавок назвав царя Николая рассыльным у их высочества Распутина. А царицу…
Теперь критик двора его величества целыми днями лежал на узкой койке, затертой несвежей постели, ощетинился, мрачно курил, часами глядя в щербатый равнодушный потолок. Недавний ученый техник, он, по-видимому, тяжело переживал заключение. Просидев в тюрьме несколько месяцев, он ожесточился, и его когда-то умеренные нападки на существующий государственный строй теперь стали резкими.
Голубоглазый арестант был купец Размотывлин. Он попал в тюрьму за опасную махинацию, подрывавшую, как ему сказали, оборонную мощь империи: поставку в армию сапог с картонными подметками… Но Размотывлин не унывал. За него на воле хлопотали родственники, не жалея денег на адвокатов и взятки. Человек он был религиозный, одно время «дружил с попами» и даже в молодости во время тяжкой болезни дал обещание постричься в монахи. Но потом, выздоровев, решил, что можно и в миру спастись. Усерднее молись, посещай церковные службы, а остальное, включая и царство небесное, приложится само собой.
Надо сказать, купец старался делать все необходимое, чтобы обеспечить себе попадание в рай. Никогда не начинал есть и не ложился спать без того, чтобы не постоять перед небольшой иконой, которую примостил над своей койкой в камере. Даже зевая, творил маленькое «крестное знамение». Однажды техник едко поинтересовался у купца, когда тот перекрестил широко разинутый рот:
– Это-то для чего вы, милейший, делаете?
– Чтоб бес проклятущий не вселился, – вполне резонно ответил купец. – Дорога ему крестом преграждается.
– Ну, а ежели он уже успел сквозь уста ваши в нутро забраться, тогда как быть?
– Ум человеческий не может всё уразуметь. Немало еще тайн в природе не разгадано, а тем более в области духовной… – многозначительно ответил купец и замолчал, видимо, не желая продолжать с «нехристями» разговор на такую возвышенную тему.
Время в тюрьме тянулось медленно и скучно. Только через неделю Тараса вызвал жандармский офицер. Действовал он по-прежнему: сначала ласково уговаривал выдать подпольщиков, а затем стал грозить и бить. После такого допроса Тарас еле поднялся на третий этаж…
Иногда мать приносила Тарасу кое-что съестное. Но это были скудные, нищенские передачи: несколько вареных картофелин, сушеная вобла, краюшка черного хлеба, завернутые в чисто вымытую тряпочку… Прочитав корявую записку матери, Тарас потом тосковал несколько дней, метался по камере и дерзил купцу.
Однажды после обеда неожиданно загремела дверь, и арестанты увидели, как надзиратели на носилках тащат в камеру какого-то человека.
– Безобразие! Тюрьму превращают в кладбище! Этого еще не хватало! – возмущенно блеснул очками техник.
Вспотевшие надзиратели, втащив носилки в камеру, бесцеремонно вывалили человека на пол, рядом с парашей. Каково же было удивление арестантов, когда этот принятый за умирающего человек вдруг встал, отряхнулся и как ни в чем не бывало сказал:
– Христос терпел и нам велел. Я скорее соглашусь гореть на костре, чем преступить заповеди Учителя нашего….
На обитателей узилища это произвело впечатление. Они внимательно рассматривали нового арестанта. У него были длинные, как у священника, волосы, зачесанные назад. Густая черная борода – с четверть длины. Несмотря на это, он совсем не выглядел стариком. Тарас приметил резиновые галоши, привязанные к ногам волосатого бечевкой.
Глядя на очередного соседа по камере и догадываясь, что это, должно быть, сектант, купец полюбопытствовал:
– Вы что, непротивленец будете или толстовского учения?
– Я брат ваш… – тихо и таинственно прозвучало в ответ.
С тех пор в камере новичка стали звать «братом».
Когда принесли обед, Тарас один сел за жестяной тазик, наполовину наполненный мутной жидкостью, в которой попадались куски плохо очищенной требухи… Купец и техник питались постоянными передачами, и все казенное доставалось Тарасу, так что явно голодать ему не приходилось.
Видя, что новый арестант стесняется подойти к тазику, Тарас пригласил его:
– Иди, брат, обедать. С непривычки, правда, еда с душком покажется, но лучше, чем ничего.
Но тот отрицательно покачал головой. Тогда вступил купец. Теперь для него стало совершенно ясно, что прибывший «брат» – толстовец. А к толстовцам купец имел уважение. У него работал один приказчик, который увлекался этим учением и был трудолюбив, как добротный бык, делал все, что ни приказывали, не воровал и никогда не просил прибавки жалованья. Проникнув жалостью к «брату», купец предложил:
– Если стесняетесь насчет мясного, то могу яичко предложить. Яичко и… по возможному учению вашему… можно-с.
Но «брат» снова упрямо закачал головой.
Тарас пожал плечами и стал с удовольствием вылавливать из тазика куски требухи, долго жевал их, про себя посмеиваясь над этим богомольным.
Прошел один день, другой. Тарас с любопытством ждал окончания голодовки. Но «брат» держался уже четыре дня, только изредка понемногу пил воду. Тарас видел, как с каждым днем все заметнее проваливались у «брата» глаза, натягивалась кожа на скулах и острился нос. Последние дни недели он, как мертвец, уже лежал без движения на каменном полу и, казалось, вот-вот испустит дух.
На седьмые сутки в камеру вошли начальник тюрьмы и фельдшер. С десяток любопытных надзирателей сгрудились у двери.
Они забили весь проход, самые задние вытягивали шеи, таращили глаза, стараясь не пропустить происходившее в камере. Высокий, в темной шинели и форменной фуражке начальник тюрьмы вдруг громко, словно перед ним был полк солдат, рявкнул:
– По-о-равняться!.. Стоят, как коровы!..
Три арестанта вытянулись. «Брат» продолжал лежать. Начальник подошел к нему, толкнул сапогом в бок:
– Так ты что, будешь есть?
– Христос учил… – слабо произнес тот, – если тебя соблазняет глаз твой, то вырви его…
– Довольно распространяться, – оборвал начальник лежавшего и кивнул головой человеку в белом фартуке, который держал в руках миску с бульоном. Это был тюремный фельдшер. От него несло карболкой и еще какими-то аптечными запахами. Он выдвинулся вперед, и Тарас заметил, что пальцы и усы у него до того прокурены, что кажутся обуглившимися. Фельдшеру стали равнодушно помогать два рослых надзирателя.
– Покормим, покормим сейчас… Проголодался, поди… – добродушно, как к дитю, обратился фельдшер к «брату», прилаживая к специальной миске резиновую кишку. «Брат», покорно глядя на врачевателя, чуть слышно проговорил, подлаживаясь под тон мученика:
– Сказано в Писании… Не противься злу… и если ударят тебя в одну щеку, то другую подставь…
– Правильно, – заметил фельдшер, – ласковый теленок двух маток сосет.
Два надзирателя, как по команде, набросились на «брата», чтобы тот не смог сопротивляться. Одновременно участливый фельдшер резко сунул в рот голодающего кишку и поднял миску. «Брат» лежал спокойно, не то обрадовавшись случаю, не то соблюдая свое учение о непротивлении злу, и не без удовольствия глотал бульон.
Скученные в дверях надзиратели воспринимали происходившее как развлечение. Один из них ухмыльнулся:
– Проголодался бедный. Теперь, поди, сунь ему палец в рот, отхватит, как топором.
– Мясо ему законом их вопще никогда не велено употреблять… Так что за палец свой не беспокойся… – отпустил шуточку другой.
Часа через два после ухода тюремщиков «брат» заметно повеселел. Полупустой бульон, даже в небольшом количестве, оказал на него спасительное воздействие. Но, несмотря на это, он продолжал отказываться от еды. Каждый день приходили фельдшер с надзирателями и понемногу подкармливали его. Так что «брат» умирать не умирал, а поучать других сил хватало. Казалось, что в таком положении и при такой обслуге он может прожить еще очень долго.
Тарас стал замечать, что между Размотывлиным и «братом» завязываются близкие, прямо родственные отношения. Целыми днями они вместе читают евангелие, спорят о том, нужно ли поклоняться иконам и какая вера правильная. В конце концов купец и «сектант» сходились в своих мнениях.
Однажды они разговаривали далеко за полночь. Тарас несколько раз просыпался и всякий раз слышал их надоедливый шепот. Проснувшись в четвертый раз, Тарас услышал, что спор все еще продолжается. Он уже решил вскочить и заставить их замолчать. Но вдруг понял, что говорят-то они совсем не о религии. Это поубавило его пыл, затронуло любопытство. Размотывлин тихо вздыхал:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































