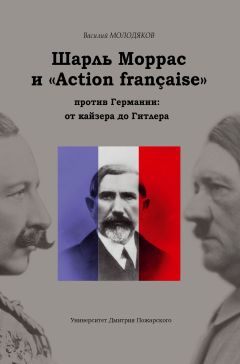
Автор книги: Василий Молодяков
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
III
Горячая любовь к родине и страсть к политике пересилили все различия и разногласия, хотя наши герои почти во всем были непохожи друг от друга.
Различия начинаются с географии. Моррас – уроженец юга, Баррес – севера, хотя оба появились на свет в маленьких городах. Провансальский Мартиг того же масштаба, что и лотарингский Шарм-сюр-Мозель, поэтому саркастическую фразу парижского радикала Люсьена Эрра о своем противнике Барресе как «типичном продукте французских провинциальных городков» (ВМС, xviii) можно применить и к Моррасу.
Прованс издавна осознал себя частью Франции, но гордился собственными, отличными ото всех языком и культурой. Герцогство Лотарингия, до 1766 г. входившее в Священную Римскую империю германской нации, в которой царствовали Габсбурги, было пограничьем между землями французов и немцев, между двумя великими языками и культурами, хотя и с преобладанием французского влияния. Баррес знал немецкий язык (его единственного сына Филиппа по желанию отца воспитывала немка), но родным для него был только французский, а для Морраса – французский и провансальский.
Моррас утверждал, что сознательно ненавидел немцев с двух лет, когда до Мартига – на другом конце Франции – докатились известия о вторжении врага; поверить этому непросто, проверить – невозможно. Родной город Барреса был занят «бошами», когда мальчику было восемь лет, и оставался оккупированным еще три года. Новая граница прошла совсем недалеко от него, но Шарм остался во Франции. Немцы расположились на постой в их доме, но вели себя корректно; одно время баварский солдат водил юного Мориса в школу. Неудивительно, что оба писателя стали фанатиками реванша. Удивительно, что уроженец Прованса по накалу германофобии опережал уроженца Лотарингии.
Отношение Морраса ко всему германскому, особенно прусскому – прусскому не столько исторически, сколько символически, – было простым и лишенным нюансов. Всех немцев он видел варварами, делая снисходительное исключение для тех, кто «имел счастье романизироваться» (ВМС, 124). Французам нечему учиться у них, а потому не стоить тратить время на их язык и литературу. Немецкую философию Моррас считал просто вредной для Франции.
Случай Барреса сложнее и интереснее.
Одновременно «барресист» и «коллаборант», Рамон Фернандес пытался посмертно помирить его с Германией. Напомнив, что предки матери писателя были родом с берегов Рейна, он в 1943 г. писал: «Баррес не желал видеть Германию угрожающей Франции, а после 1918 г. мечтал о Франции, угрожающей Германии, однако без Германии Европа теряла для него равновесие и смысл существования. Для Барреса Германия была одновременно и в равной степени полюсом притяжения и полюсом отталкивания. Его отношение к ней было слишком страстным для однозначного определения. <…> Эмоциональные склонности и германские корни всегда побуждали Барреса страстно искать modus vivendi с Германией. <…> Мысль Барреса не отлучить от германского присутствия, от германского влияния или от борьбы с германским влиянием. Германия дружественная и враждебная, Германия, которую он с тревогой изучает и которую не хочет выслушать, Германия, которую он надеется изменить по своему хотению и которую склонен воспринимать упрощенно, – эти сменяющие друг друга лики Германии, отражающие страсть, страх, желание, мудрость, составляют часть барресовского целого. В этом его радикальное отличие от других французских националистов того времени»[79]79
Fernandez R. Barrès. P. 13, 26–27.
[Закрыть].
В трактовке Фернандеса видна тенденциозность по обстоятельствам времени и места – если не лукавство, как допускал его сын и биограф Доминик Фернандес, писатель и академик[80]80
Dominique Fernandez. Ramon. Paris, 2008. P. 708–709.
[Закрыть]. Баррес не отвергал немецкую культуру, но считал ее во всех отношениях ниже французской. Лучшее в Германии создано немцами под французским влиянием; остальное духовно порочно и потому вредно.
Лотарингия занимала не меньшее место в его мыслях и текстах, чем Прованс у Морраса, но Баррес подчеркивал ее историческую обособленность от Франции: «Я лотарингец; моя маленькая страна всего лишь век назад (так! – В. М.) стала французской. <…> У нас был свой правящий дом, свои обычаи и институты – всё необходимое для завоевания места в истории или хотя бы для поддержания порядка, безопасности и создания своей национальности. К сожалению, в политике наши герцоги уступали Капетингам. Сначала они нас плохо защищали, а потом и вовсе бросили» (SDN, I, 88). «Я лотарингец-француз и боюсь стать лотарингцем-немцем, – писал он в 1905 г. – Мне нужно, чтобы социальная группа под названием Франция продолжала существовать, поскольку в ней я нахожу нравы и обычаи, к которым привык, мой способ чувствовать, мое понимание чести, мой язык. Ничто не важно для меня так, как слава Франции» (ВМС, 678).
Для Барреса граница Франции и Германии, понимаемых как два культурных ареала, две цивилизации, проходила по Рейну. Он считал всю долину Мозеля и западный берег Рейна единым целым – исторически и географически, культурно и психологически, чему не соответствовали проведенные монархами или политиками государственные границы. После Первой мировой войны Баррес выступал за отторжение от «пруссианизированной» Германии западного берега Рейна и за создание там независимого или хотя бы автономного государства с преобладающим влиянием Франции, благотворности которого он посвятил книгу «Гений Рейна» (1921).
В отличие от Морраса, Баррес неоднократно бывал в Германии: одним из сильнейших впечатлений юности для него стал вагнеровский фестиваль в Байроте. Но главной целью было посещение «отторгнутых провинций» Эльзас и Лотарингия, с интеллигенцией которых – «заложниками Франции в Германии» (BSA, 75) – он поддерживал тесные отношения.
Выступая 15 августа 1911 г. в Меце перед «лотарингскими соотечественниками», Баррес говорил: «Да здравствует Лотарингия! Это она всегда делает французов едиными. <…> На протяжении сорока лет самая постоянная мысль Франции обращена к Мецу и Страсбургу. Мы не сводим с вас глаз». «Великий Боже, не для того чтобы вас судить! Никому из нас не приходит на ум судить о ваших действиях с французской точки зрения или вмешиваться в ваши отношения с Германией»[81]81
Maurice Barrès. Un discours à Metz (15 août 1911). Paris, 1911. P. 12, 9.
[Закрыть], – поспешил добавить оратор, понимая, что местные власти могут сделать правильные по существу, но дипломатически нежелательные выводы.


Морис Баррес. На службе Германии. 1911. Титульный лист и авантитул с инскриптом: «Моему достопочтенному коллеге господину Анселю, который уже давно принял юную Колетт, я представляю юного Эрмана, сердечно, Морис Баррес, ноябрь 1912»
Жители Эльзаса и Лотарингии подчинялись германским законам (Баррес признавал, что в некоторых случаях они лучше французских) и призывались в германскую армию – на льготных условиях по сравнению с другими частями империи. Мукам эльзасца «на службе Германии» посвящен одноименный роман Барреса (1905) в жанре «человеческого документа». Половину книги занимает рассказ студента-медика Поля Эрмана о полугодовом отбывании воинской повинности, написанный по личным впечатлениям доктора Пьера Бюшера, друга автора.
Надо признать, муки были в основном моральными. «Негодование Барреса может быть признано оправданным, – заметил Хьюнекер, – пока мы не вспомним рассказы французов об ужасах французской армейской жизни»[82]82
Huneker J. Egoists. P. 231.
[Закрыть]. Но к Эрману отлично подходит формула «свой среди чужих, чужой среди своих». Сойтись с товарищами по службе – выходцами из той же социальной среды, но немцами – он принципиально не хочет. Немцы-офицеры донимают его не больше, чем русские офицеры – еврея-вольноопределяющегося Бенедикта Лившица (вспомним его мемуары «Полутораглазый стрелец»). Знакомые французы – которым не надо служить – обвиняют героя в трусости за решение отбывать повинность, а не уклоняться от нее, так что ему приходится драться на дуэли. И никакой социальной жизни: живущий на частной квартире в городе, Эрман вне казармы обязан носить форму, а «ни одно приличное эльзасское семейство не опустится до того, чтобы принимать у себя человека в немецком мундире» (BSA, 226). Мой экземпляр романа был подарен автором коллеге по Палате депутатов Жоржу Анселю, который подчеркнул многие фразы, включая эту.
Рассказ Эрмана призван доказать тезис Барреса о культурном и социальном превосходстве французов. Немцы в его изображении не только поголовно лишены вкуса, «учтивости, чувства нюансов, великодушия» (BSA, 243), но отличаются грубостью нравов, «раболепием перед старшими и высокомерием перед младшими» (BSA, 210), отсутствием чувства товарищества. Герой завоевал уважение командиров, став образцовым солдатом, то есть превзойдя немцев в «немецком» ремесле, но этим лишь подчеркнул свое достоинство эльзасца и француза.
После первого дня, проведенного в казарме, Эрман думал о дезертирстве: таковых за 43 года «под немцами» набралось до полумиллиона. Но отказался от поступка, означавшего не только проблемы для семьи, но невозможность вернуться домой и тем самым уменьшавшего французское присутствие в Эльзасе. «Я наследник, – говорит Эрман. – У меня нет ни желания, ни права бросить то, что создано ранее» (BSA, 137). Эльзасцам, эмигрировавшим во Францию, роман не понравился, но «имел успех в Париже и Страсбурге, поскольку изображение аннексированного Эльзаса хорошо отражало повседневные реалии жизни по ту сторону границы» (VMB, 287).
IV
Разница в возрасте стала разницей поколений в литературе и в политике. Оба в юности приехали покорять Париж: Баррес в одиночку, Моррас с матерью и братом, – но оказались в разном положении. Общительный, красивый и щеголеватый лотарингец быстро сделался завсегдатаем редакций, модных салонов и литературных кафе, а «вне кафе здесь нет литературы», как писал Моррас аббату Пенону (СМР, 315). Баррес не только много писал, но много и красиво говорил. Моррас тоже заводил связи, но из-за глухоты не слишком любил бывать на людях и больше писал, чем говорил. Убеждая младшего друга в необходимости зарабатывать литературой, старший водил его по редакциям и салонам, знакомил с нужными людьми. «Баррес делает это охотно, со вкусом и с интересом, – делился Моррас с Пеноном в 1897 г., когда сам уже приобрел известность. – Он любит своих друзей, и ему приятно использовать личное влияние (демонстрируя его) в их пользу» (СМР, 422).
«Я вас никогда не вижу, но мы все время сотрудничаем, – заметил ему Баррес на пятнадцатом году знакомства. – Нам всё не представляется случай обстоятельно поговорить, и вы больше присутствуете в моей библиотеке, чем в жизни. Не лицо, а печатная страница, абзац текста, а не звук голоса» (ВМС, 374). Моррас обиженно ответил: «Нет, вы для меня не печатная страница, не абзац, засевший в памяти. Ваш портрет стоит у меня на камине слева от Филиппа VIII, к которому вы повернулись спиной. Когда вы станете монархистом, я переставлю вас направо и вы будете смотреть друг на друга» (ВМС, 376–377).
Баррес рано вошел во влиятельные литературные круги Парижа, где его принимали и признавали, даже несмотря на позднейшие политические разногласия. Широкая известность пришла к Моррасу, когда он стал для многих политически «нерукопожатным». Баррес дружил не только с респектабельными романистами Анатолем Франсом и Полем Бурже и поэтами-парнасцами Шарлем Леконт де Лилем и Жозе-Мариа де Эредиа (кресло последнего он в 1906 г. унаследовал в Академии), но с богемными декадентами и оккультистами, в среду которых его ввел друг детства Станислав де Гуаита. Ранние годы Морраса-литератора, еще в школе прочитавшего запретные «Цветы зла» и романы Золя, прошли в католических кругах и среди земляков-фелибров, стремившихся сохранить язык и культуру Прованса. Кстати, Франс в числе первых поддержал Морраса и написал стихотворное посвящение к его первому прозаическому сборнику «Райская дорога» (1895), а политические расхождения из-за «дела Дрейфуса» не помешали их дружбе и взаимному уважению.
Среди немногих общих друзей Барреса и Морраса отметим Жана Мореаса – центральную фигуру младшего поколения французских символистов и автора термина «символизм». Грек по национальности, представитель старинного афинского рода, Иоаннис Пападиамантопулос стал в Париже Жаном Мореасом и получил признание как выдающийся мастер французского стиха. В 1891 г. Моррас выпустил отдельным изданием этюд о поэте – это его вторая книга. Прочитав ее, аббат Пенон, любитель литературы, но человек консервативных вкусов, предостерегал ученика против «ложного пути»: «Вы успешно опустили уровень Вашего таланта до уровня Мореаса, и Ваша критика не лучше его стихов и прозы» (СМР, 352). Адресат мог считать это комплиментом. В том же году он вместе с Мореасом основал «романскую школу», противопоставившую романтикам и декадентам «латинский дух» и традиции «Плеяды».
«В националистическом возрождении, в котором мы принимали участие и которому властно способствовал Баррес, есть вклад гостя Франции, почитавшего наш язык и наш вкус, научившего нас по-новому понимать и любить наших поэтов, – писал Моррас в статье памяти друга, озаглавленной «Метек Мореас». – <…> Жан Мореас не был ни паразитом Франции, ни возмутителем национального спокойствия. Во время самых бурных наших раздоров не было человека более скромного и сдержанного. <…> У нас есть все основания для глубокой благодарности этому благодетельному иностранцу, родственному нам по усыновлению и крови»[83]83
Charles Maurras. Sur la cendre de nos foyers. Paris, [1931]. P. 82–84.
[Закрыть] (SCF, 82–84). Идеальный «метек», но все же «метек»… Журналист L'AF Поль Матьекс сострил: «Нужно было явиться в орган интегрального национализма, дабы узнать, что величайший французский поэт звался Пападиамантопулос»[84]84
Bernard de Vaulx. Charles Maurras (Esquisses pour un portrait). Moulins, 1968. Р. 48.
[Закрыть].
На похоронах Мореаса в 1910 г., где присутствовал и Моррас, академик Баррес произнес речь «от имени друзей ранних лет» – как в 1896 г. на похоронах Верлена он говорил от имени молодых (тогда Моррас посвятил «бедному Лелиану» прочувствованную статью). Избегая вспоминать символизм и декадентство и уж тем более не считая Мореаса нефранцузом, Баррес привел слова поэта, сказанные им перед смертью: «Нет ни классиков, ни романтиков… Это всё глупости… Жаль, у меня нет сил объяснить подробнее». «Мы никогда не узнаем, какие аргументы приготовил Мореас, но я согласен с ним, – заявил Баррес. – Я уверен, что романтическое чувство, если поднять его до высшего уровня культуры, принимает классический характер. <…> Стать классиком – значит отрицать любую чрезмерность, достичь чистоты души, которая отвергает ложь, какой бы привлекательной она ни казалась, и приемлет только правду, одним словом – стать честнее»[85]85
Maurice Barrès. Adieu à Moréas. Paris, 1910. P. 10–12.
[Закрыть].
Собравшиеся у гроба литераторы отлично понимали, о чем идет речь. Баррес по инерции считался романтиком, хотя повторял, что «национализм – это классицизм». Гийюэн считал его заслугой именно «синтез романтизма и классицизма» (GDO, 118). «Он определил новый тип равновесия между классической традицией и романтической мистикой», – сказал другой консерватор, министр просвещения Леон Берар, провожая Барреса в последний путь[86]86
Léon Bérard. Maurice Barrès. Discours prononcé aux obsèques le 8 décembre 1923. Paris, 1923. Р. 16–17.
[Закрыть]. Еще через 20 лет Фернандес назвал его «нашим последним великим романтиком», пояснив: «Романтизм умер в Барресе с самым дивным мерцанием, как прекрасная ночь, облачная и лунная, исчезает в первом свете дня»[87]87
Fernandez R. Barrès. P. 78.
[Закрыть].
Неприятие Моррасом романтизма имело принципиальный характер. «Ронсар и Малерб, Корнэль и Боссюэ в свое время защищали государство, короля, отечество, собственность, семью и религию, – напомнил он в «Будущем интеллигенции». – Романтические литераторы атаковали закон и государство, частную и общественную дисциплину, отечество, семью и собственность; вот чуть ли не единственное условие их успеха – понравиться оппозиции, работать на анархию». Моррас отвергал не только Жорж Санд, Ламартина и Гюго, но милых сердцу друга Готье и Бодлера, видя в их стихах «доказательство того, как богато одаренные таланты не реализовались из-за ложных идей и порочных систем, в чем они и невиновны, и виноваты». Баррес упрекнул Морраса, что тот «формирует мелкие и грубые умы, слишком презирающие Готье и Бодлера», заметив: «По-моему, вы рискуете отдать нашим соперникам слишком много прекрасного, чего не хотелось бы лишаться». «Продолжающееся почитание их, – ответил Моррас, осуждавший «смесь анархических восклицаний и темных криптограмм», – грозит отравить следующие поколения, что они уже начали. Посмотрите на отравленных и потерпевших крушение – на Верлена, Малларме, Рембо, Лафорга! Вы верите в вечность этих извращенных прелестей?» (ВМС, 495–497). Двумя десятилетиями ранее Пенон уговаривал его: «Будьте Моррасом, а не Барресом и, тем более, не Малларме» (СМР, 308).
Что это? Крайний догматизм, отсутствие вкуса или обида непризнанного поэта? В рецензии на собрание стихов Морраса «Внутренняя музыка» Георгий Адамович назвал его любовь к музам «безнадежной и неразделенной»: «Общие его представления о поэзии величественны. Но лишь только дело дойдет до их конкретного применения, Моррас делается жертвой своего фанатизма и прямолинейности. Он как бы забывает, что если в искусстве и нужны правила, то только для того, чтобы могли существовать исключения. Есть в искусстве один непререкаемый закон – “победителей не судят”. Во всех оценках Морраса чувствуется, что он руководится теоретическими предпосылками, но что он глух и слеп к результатам. Еще очевиднее это в его собственных стихах»[88]88
Адамович Г. Литературные беседы. Кн. 1. СПб., 1998. С. 196–197.
[Закрыть].
Критик Даниэль Галеви, которому Моррас адресовал предисловие к «Внутренней музыке», придерживался иного мнения: «Поэзия связана с самыми волнующими моментами вашей жизни, – писал он автору. – Счастлив и горд, что вы мне это доверили» (LCM, 389). Сказанное можно списать на издержки жанра, но искренним поклонником поэзии Морраса был такой далекий от него – и политически, и литературно – человек, как Гийом Аполлинер.
В отличие от теоретика Морраса, Баррес считал себя прежде всего художником и политиком, т. е. практиком. В 1908 г. Массис в эссе «Мысль Мориса Барреса» назвал его философию «философией действия», отметив ее «антиинтеллектуалистский» характер (МРВ, 14, 44). Восходя к высказываниям самого Барреса, это звучало комплиментом. В нашумевшей книге «Сегодняшняя молодежь» (1913) Массис и Альфред де Тард объявили одной из главных черт нового «поколения французского возрождения» именно антиинтеллектуализм, вкладывая в это понятие неприятие чрезмерного рационализма, сциентизма и скептицизма старших (JGA, 19).
Однако в эссе «Морис Баррес, или Поколение относительного» (1923) Массис критиковал мэтра за «неверие в ум» и «презрение» к нему – имея в виду ум философствующий, «независимый разум, существующий в каждом из нас, который позволяет нам приблизиться к истине» (HMJ, 196–197). «В основе учений Барреса и Морраса лежит агностицизм, – отметил он, – но Моррас идет дальше, поскольку никогда не обесценивает разум, а его стройная система неизменно отдает предпочтение уму. <…> Система Барреса, напротив, вся проникнута субъективными противоречиями» (HMJ, 196–197).
«Характер человека оценивается по его восприятию смерти, – считал Леон Доде. – Качество писателя оценивается по тому, как он говорит о смерти – не в том, что касается его самого, – и о мертвых. Она есть великая мера и литературы, и души, поскольку литература – не что иное, как самое непосредственное и самое полное выражение души» (LDE, 33). Темы смерти и умирания – людей, городов, культур – занимают важное место в мировосприятии и эстетике Барреса, придавая им пессимистический, декадентский колорит. «Культ мертвых – порождение индивидуалистического сознания» (MPB, 48), – утверждал Массис, противопоставив Барреса оптимисту и коллективисту Моррасу: «У первого приятие смерти как умиротворения; у второго мужественное и сознательное сопротивление всему, что грозит сущему и покушается на законы природы и жизни» (HMJ, 214).
Услышав о внезапной кончине одного из соратников, Моррас сжал кулаки и со слезами и гневом воскликнул: «Не умирают!» – а затем отказался пойти на похороны. «Не умирают, – пояснил Массис, – когда осталось дело, которое надо сделать, добро, которое надо защитить, зло, которое надо уничтожить, борьба, которой надо отдать всего себя, и труда еще на полвека!» (MNT, I). «Неприятие смерти, – говорил он, чествуя Морраса в 1937 г., – начертано на каждой странице его произведений, мобилизованных против могущества смерти, будь она в облике индивидуализма или романтизма, демократии или революции»[89]89
Hommage national rendu à Charles Maurras. Paris, 1937. P. 90.
[Закрыть]. «Все творчество Морраса посвящено защите жизни», – суммировал в 1932 г. Робер Бразийяк, в ту пору молодой моррасианец[90]90
Robert Brasillach. Portraits. Paris, 1935. P. 38.
[Закрыть].
В памяти Пьера Монье, рядового «королевского газетчика» середины 1930-х годов, сохранился характерный эпизод. «Люди короля», как обычно, охраняли типографию L'AF. Увидев вошедшего туда Морраса, один восторженный юноша бросился к нему со словами: «Я всецело предан нашему делу и готов умереть за него!». «О, нет! – застонал Моррас. – Не существует дела, за которое надо умирать! Нет! Надо жить, жить для дела, а не умирать за него!.. Это республика говорит, что “француз должен умереть за нее”! Это республика хочет, чтобы французы умирали. Но не монархия!». «Надо жить! Жить!» – продолжал повторять он[91]91
Pierre Monnier. À l'ombre des grandes têtes molles. Paris, 1987. P. 87.
[Закрыть].
Эстет и индивидуалист Баррес ценил личную свободу, но знал «инстинктивное удовольствие быть в строю» (МСВ, 19). Он влиял, но не командовал, хотя многие пошли бы за ним. Он импрессионистически рассказывал о своем личном опыте, но редко делал выводы и почти не поучал. Моррас был дидактиком, догматиком и коллективистом, но в коллективе единомышленников видел себя первым – после законного монарха. «Зная, как надо», он поучал, командовал и приказывал, не терпя возражений, не признавая несогласия – и не стесняясь в выражениях.
«Моррас провел жизнь, – писал его ученик Пьер Бутан, – в духовной и политической борьбе, утверждая, что обособленное я – не более чем жалкая иллюзия. Индивидуальность раскрывается в мы богаче, нежели в я» (PBM, 65). «Каждому свое, – заметил Баррес. – Моррасу – уроки, наставления, советы, полемика, система. А мне оставьте то, чем я могу заниматься без всяких планов, – раздумья» (HMS, 85). «Моррас создает учеников. А я?» – размышлял он в конце жизни в «Тетрадях», куда несколько ранее записал слова своего любимца Гёте: «У меня нет учеников. Я освободитель» (МСВ, 982, 967). Утешал себя? Еще в конце 1890-х годов Реми де Гурмон заметил о Барресе: «Его честолюбие не нуждается в идейных сотрудниках. В политике у него нет учеников»[92]92
Р. де Гурмон. Книга масок. С. 153.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































