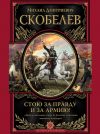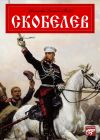Текст книги "Скобелев (сборник)"

Автор книги: Василий Верещагин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
С горстью людей он дошел до самой Плевны и крепко нажал на турок, никак не полагавших, что они имеют дело лишь с несколькими сотнями людей, никем не поддерживаемых.
Отвлекши на себя внимание неприятеля, М. Д., конечно, отступил, когда расстроенные полки корпуса Шаховского отошли.
Здесь кстати привести рыцарскую черту характера Скобелева: он призвал покойного брата моего Сергея, которому обыкновенно доверял самые опасные поручения, и сказал:
– Уберите всех раненых; я не отступлю, пока не получу от вас извещения, что все подобраны.
Уже поздно было, когда брат мой, с одной стороны, и сотник Ш. – с другой явились к Скобелеву и донесли, что «ни одного раненого не осталось на поле битвы».
– Я вам верю, – ответил Скобелев, и только тогда приказал отступать.
Брат мой, убитый потом 30 августа 1877 г., состоял при М. Д. волонтером; он был с ним во все время этой дерзкой атаки, и Скобелев рассказывал, что, когда под ним убили лошадь, юный художник соскочил с седла и расшаркнулся: «Ваше превосходительство, не угодно ли взять мою?»
– Смотрю, – говорить Скобелев, – дрянная гнедая стерва! – Не хочу, нет ли белой?
Однако пули и гранаты сыпались в таком количестве, а турки напирали так сильно, что пришлось-таки сесть и на гнедую стерву, которая, в конце концов, вынесла из огня не хуже белой.
Битва под Ловчею была первой, в которой Михаил Скобелев, 34-летний генерал, самостоятельно распоряжался отрядом в 20 000 человек. Он был под началом князя Имеретинского, благоразумного генерала, не стеснявшего Скобелева в его распоряжениях и совершенно вверившего ему все силы.
Когда форты, которые, пожалуй, никто другой из русских генералов не осилил бы, были-таки взяты после самого кровопролитного боя, князь Имеретинский в своем донесении главнокомандующему назвал Скобелева «героем дня».
Справедливо прибавить, что у М. Д., был, в свою очередь, неоценимый помощник в лице капитана Куропаткина, почти такого же неустрашимого, как он сам, с прибавкой хладнокровия.
Для меня лично, – может быть, я и ошибаюсь, – нет сомнения в том, что Скобелев взял бы Плевну 30 августа. Но что было делать? Когда с ничтожными сравнительно силами он занял после трехдневной битвы, турецкий редут, буквально висевший над городом и орудия которого до того беспокоили Плевну, что Осман-паша решил отступить, если не удастся отобрать его, когда М. Д. умолял о посылке подкреплений, – ему не дали их, а прислали лишь небольшую поддержку, из одного разбитого накануне полка! Разумеется, Осман-паша, никем не беспокоемый с других сторон, с огромными силами напал на бедного «Белого генерала», в продолжение многих дней без устали и победоносно водившего солдат на штурмы, разбил, выбил и прогнал его даже за старые позиции…
Офицеры генерального штаба говорили, что Скобелев занял не тот редут, который следовало, что его в любом случае выжили бы оттуда огнем с соседнего, более возвышенного и более сильного укрепления, но я не вижу беды в том, что Скобелев схватил покамест меньший редут, – вовремя подкрепленный, он взял бы и соседний…
…По печальной необходимости разыскать тело моего убитого брата, я проезжал 31 августа местами расположения наших войск. На другой день третьей атаки плевненских редутов, узнав от адъютанта главнокомандующего, Дерфельдена, воротившегося с левого фланга, что один брат мой ранен, другой убит, сам еще безногий, я бросился в отряд Скобелева, чтобы привезти первого и отыскать, коли возможно, тело второго.
Проезжая мимо всех наших позиций, я видел массу войска – ружья в козлы, – прислушивавшегося к трескотне на левом фланге…
Не часто случалось мне слушать такую непрерывную дробь выстрелов, приправленных отчаянными воплями: ура, ура… Алла! Алла! Алла…
Приехав на Зеленые горы, я нашел князя Имеретинского с Паренцовым, Грековым и несколькими другими офицерами, лежавшими, сидевшими и прогуливавшимися. Генерал, как раз закусывавший, предложил мне остаток бывшей перед ним вареной курицы и стакан красного вина, причем спросил: «не знаю ли я, намерены им сегодня помогать или нет?»
Я не отказался съесть курицу и выпить вино, но на вопрос мог только ответить, что в главной квартире о распоряжении помогать им не слыхал, да и по дороге, хотя совершенно готового войска видел немало, – кажется, расположения идти к ним на помощь не заметил.
– Ну, так нам будет плохо, очень плохо! – сказал генерал.
У Скобелева в это время было что-то невозможное: слышалось только р, р, р, р, р, р, р, р, р!!!
За душу щемила меня эта полная беспомощность бравого левого фланга, точно забытого, брошенного под впечатлением вчерашних неудач и потерь. Страдая сильно от раны, еще не затянувшейся, я ездил в колясочке, нанятой в Бухаресте, и поэтому двигался только по дорогам, т. е. медленно, – иначе, конечно, я бросился бы к главнокомандующему, может быть, и не знавшему об истинном положении дел…
Я настаиваю – как многим ни покажется смело и безавторитетно мое настаивание – на том, что подкрепленный Скобелев взял бы и соседний редут, после чего туркам не оставалось бы ничего иного, как очистить город, расположенный прямо под нашими выстрелами.
Три с половиною месяца спустя, когда Плевна пала, я ездил со Скобелевым на панихиду, заказанную им по защитникам несчастного «скобелевского редута». Тяжелые воспоминания передал мне тогда Михаил Дмитриевич. Чтобы легче было идти на штурм, взбираться на высоты, солдаты побросали шанцевые инструменты, так что, когда пришлось после рыть траншею, со стороны наступавших турок, они пустили в дело штыки и свои пятерни: конечно, не успели вырыть и ничтожного прикрытия, как турки набежали, навалились и кучку наших храбрых, сжавшихся для последней защиты за траверсом, в углу редута, подняли на штыки.
Указывая мне эту канавку, рытую пальцами, Скобелев буквально залился слезами и потом, во время панихиды, опять горько плакал. Признаюсь, всплакнул и я вместе с большею частью присутствовавших.
В жар, в лихорадку бросало меня, когда я смотрел на все это и когда писал потом мои картины; слезы набегают и теперь, когда вспоминаю эти сцены, а умные люди уверяют, что я «холодным умом сочиняю небылицы»… Подожду, и искренно порадуюсь, когда другой даст более правдивые картины великой несправедливости, именуемой войною.
В конце 1878 года в Петербурге брат мой как-то пришел сказать, что Скобелев очень, очень просит придти к нему – что-то нужное.
Прихожу.
– Что такое?
– Очень, очень нужно, увидите!
Затворяет двери кабинета и таинственно:
– Дайте мне дружеский совет, Василий Васильевич, вот в чем дело: князь болгарский (Батенберг), предлагает мне пойти к нему военным министром; он дает слово, что как только поставит солдат на ноги, не позже чем через два года затеет драку с турками, втянет Россию будет снова большая война, – принять или не принять?
Я расхохотался.
– Признайтесь, – говорю, – что вы неравнодушны к белому перу, что болгарские генералы носят на шапках, вам оно было бы к лицу!
– Черт знает, что вы говорите! Я у вас серьезно спрашиваю совета, а вы смеетесь, толкуете о каком-то пере, – ведь это не шутка.
– Знаю, что не шутка, – отвечал я и серьезно напал на него за безнравственную легкость, с которою они с каким-то там князем болгарским рассчитывают втянуть Россию в новую войну. – Что Батенберг это затевает, оно понятно: он авантюрист, которому нечего терять. Но что вы, Скобелев, такими страшными усилиями добившийся теперешнего вашего положения, поддаетесь на эту интригу, – это мне непонятно. Плюньте на это предложение, бросьте и думать о нем!
– Да что же делать, ведь я уже дал почти свое согласие!
– Откажитесь под каким бы то ни было предлогом, скажите, что вас не отпускает начальство…
– Он обещал говорить об этом с государем…
– Ну вот и попросите, чтобы государь отказал ему.
В конце концов Батенбергу было сказано сверху, что Скобелев нужен здесь; на этом дело кончилось. Военным министром в Болгарию был назначен другой генерал.
Что мне случалось слышать от Скобелева в дружеских беседах, то теперь, конечно, не приходится рассказывать. Довольно заметить, что он был сторонником развития России и движения ее вперед, а не назад… повторяю, что распространяться об этом неудобно.
Скобелев очень много занимался, много читал, еще более писал. Писал кудряво, не совсем кругло и складно, но весьма убедительно. Кладищев, бывший начальником наградного отделения во время турецкой кампании, говорил мне, что нет возможности отказать в награде по представлению Скобелева, – так наглядно излагал он заслуги своих подчиненных и так хорошо подгонял их под статуты орденов, которые отлично знал.
Записки, поданные Михаилом Дмитриевичем во время этой войны главнокомандующему о положении офицеров и солдат и вероятной причине наших временных неудач, полны наблюдательности, верных, метких замечаний. Живя вместе со Скобелевым в Плевне, я читал некоторые из этих записок, по словам его, очень не понравившихся…
Скобелев прекрасно владел французским, немецким и английским языками и литературу этих стран, в особенности военную, знал отлично. Иногда вдруг обратится со словами:
– А помните, Василий Васильевича выражение Наполеона I?
В середине Шейновского боя, например, он таким образом цитировал что-то из Наполеона и, не желая обескураживать его, я ответил:
– Да, помню что-то в этом роде.
Но когда он вскоре опять спросил, помню ли я, что Наполеон сказал перед такой-то атакой, я уже положительно ответил:
– Не помню, не знаю, – Бог с ним, с Наполеоном!
Надобно сказать, что он особенно высоко ценил военный талант Наполеона I, а из современных – Мольтке, который, со своей стороны, по-видимому, был неравнодушен к юному, бурному, многоталантливому собрату по оружию; по крайней мере, когда я говорил с Мольтке о Скобелеве, после смерти последнего, в голосе «великого молчальника» слышалась нежная, отеческая нота, которой я не ожидал от прусского генерала-истребителя.
О большинстве наших деятелей во время турецкой войны Скобелев отзывался неважно, по меньшей мере…
Скобелев очень любил меняться Георгиевскими крестами: это род военного братства, практикуемого обыкновенно с выбором, им же – направо и налево – со всеми. Когда он приехал к армии, в Румынии еще, то предложил мне поменяться крестиками, я согласился, но с тем, чтобы сделать это после первого дела, в котором оба будем участвовать. Много дней спустя, кажется, в Плевне, мы разменялись-таки; но так как на другой же или на третий день он уже решил опять с кем-то побрататься, то я вытеребил мой крестишко назад, под предлогом, что он мне дорог, как подаренный Кауфманом. Всученный им мне был прескверный – казенный, а мой прекрасный, хорошей эмали, чуть ли не «из французского магазина».
Последнее время, впрочем, он перестал практиковать это военное братство со всеми, стал более ценить себя.
Надобно сказать, что Скобелев положительно совершенствовал свой нравственный характер. Вот, например, образчик военной порядочности из его деятельности последних лет: на второй день после Шейновской битвы я застал его за письмом.
– Что это вы пишите?
– Извинительное послание: я при фронте распек бедного X., как вижу, совершенно напрасно, поэтому хочу, чтобы мое извинение было так же гласно и публично, как и выговор…
Начальник большого отряда, извиняющийся перед неважным офицером (майор Владимирского полка), да еще письменно – это такой факт, который, конечно, не часто встретишь в какой бы то ни было армии.
Отец Скобелева, Дмитрий Иванович, не проживал, а увеличивал свое состояние, и был скуповат, но сам М. Д. скупым никогда не был, – скорее, напротив, мог быть назван слишком тароватым. Однако в денежных делах, по славянской натуре, у него был всегда великий беспорядок, в особенности при жизни отца, когда ему никогда не хватало денег, и когда забывать отдать небольшие долги случалось ему частенько-таки. При встрече с нищим он иногда приказывал кому-либо из бывших с ним молодых людей «дать золотой», и так как эти подачки обыкновенно забывались, то выходило, что встречи с нищими для бравых ординарцев его были страшнее столкновений с неприятелем.
Встречает раз Скобелев младшего брата моего на Невском проспекте.
– Верещагин, пойдем вместе стричься.
Тот очень доволен честью проделать эту операцию вместе с генералом, который ведет его к своему знакомому парикмахеру, что ни на есть фешенебельному. Около них суетятся, ухаживают, а они сидят себе рядком, шутят, смеются. При выходе М. Д. спрашивает счет старый и новый – оказывается 30 рублей.
– Верещагин, заплатите, пожалуйста.
Тот поморщился, но заплатил, да, конечно, только и видел свои денежки.
Помню, раз в Париже, в гарготке, где мы завтракали, Скобелев разменял ассигнацию в 1000 франков и, вероятно, по этому случаю вздумал оставить девушке, нам прислуживавшей, 100 фр. Лишь после самого энергичного вмешательства моего он положил только 20 фр. За то же и целовал он руку этой молодой девушки, с наслаждением, со всех сторон!
Мне известно, что немало народу обращалось к Скобелеву за помощью и что он многим помогал. Затем говорили, что он хотел завещать капитал на устройство богадельни, но намерению этому не суждено было осуществиться – ему будто бы помешали…
Перед началом Туркменской экспедиции я застал раз Михаила Дмитриевича в беседе с полковником Гродековым; он прочил его себе тогда в начальники штаба, как хорошо изучившего местности, по которым и близ которых предстояло действовать нашим войскам. Гродеков один из хороших знатоков Средней Азии, ибо ездил даже по Афганистану и смежным с ним степям. Они обсуждали права, которые им следовало выговорить для себя у министерства иностранных дел на случай возможных переговоров с индийским правительством.
– Что такое, что такое? – сказал я Скобелеву. – О каких это переговорах с индийским правительством толкуете вы? Ничего этого вам не нужно…
– Как не нужно? А если мы дойдем…
– Ничего не нужно; вам надобно вздуть хорошенько туркмен, сломить их сопротивление и больше ничего. Хотите слышать мой совет?
– Пожалуйста, – ответил Скобелев. – Потрудись, – обратился он к Гродекову, – вынуть записную книжку, занеси то, что он будет говорить. Наверное, все будет практично.
Гродеков благополучно здравствует, сколько я знаю, и, вероятно, имеет еще в своей памятной книжке заметку эту, весьма, впрочем, недлинную.
«Во-первых, вам нужны верблюды, во-вторых – верблюды и, в-третьих, – еще верблюды. Будут у вас верблюды, т. е. перевозочные средства – вы победите; не будут – вас прогонят, несмотря на всю вашу храбрость, как гоняли прежде посылаемые отряды, – храбрость тут не поможет. Не жалейте денег на верблюдов: достаньте их, сколько нужно, во что бы то ни стало».
При этом я сообщил главную, по моему мнению, причину недоверия населения при поставке вьючных животных. В начале открывающейся кампании объявляют обыкновенно, что нужно столько-то вьючных животных за такую-то цену. По окончании войны, во время которой, разумеется, большинство верблюдов падает, уплату оттягивают до тех пор, пока не удается внушить старшинам и биям, т. е. почетным людям, что было бы актом хорошего подданничества ударить Ак-Падишаху челом – суммою в 300 или 400 тысяч рублей, причитающихся за верблюдов. Тем что? Верблюды не их, а бедных людей; они получают награды и отличия, а байгуши плачут, и уж, конечно, когда снова понадобится сгонять животных, уходят, откочевывают в степь, или, силою заставленные, разбегаются при первом же удобном случае, с первых же привалов войск.
– Не доверяйте ни подрядов, ни денег интендантским чиновникам, – говорил я Скобелеву, – распоряжайтесь и платите деньги или сами вы, или через начальника штаба, чтоб они не прилипали к пальцам.
Мне приятно было слышать потом от брата моего, которого Скобелев взял по моей просьбе в поход, что именно так и было сделано, что даже осуждали Скобелева за излишнее бросание денег на верблюдов. Поставщик вьючных животных, лихой купец Громов (бывший приказчик архи-лихого Хлудова), призвав владельцев верблюдов, объявил им, что к такому-то сроку ему нужно столько-то животных, и лишь только те начали чесать затылки, прибавил:
– Заплачено вам будет сейчас же по доставке, а покамест вот вам на чай.
При этом высыпал к их ногам мешок золота.
Через короткий срок верблюды были доставлены.
Для заказа и закупки провианта, как я слышал, ездил в Персию сам Гродеков. Встретившись с ним в самый день отъезда его из Петербурга, я, прощаясь, шепнул-таки еще на ухо:
– Не давайте воровать!
– Не дадим, будьте покойны, – ответил он.
Возможно, что настояния мои были не лишними, не бесполезными. Хвалю, во всяком случае, Скобелева и Гродекова за то, что они не отвергли бескорыстного, конечно, не лишнего совета и не отвечали:
– Из-за чего вы-то стараетесь, какая вам-то польза, – как ответила бы высокомерная бездарность.
Скобелев подарил мне на память свой боевой значок, бывший с ним в 22-х сражениях, с приложением списка этих сражений, им самим обстоятельно составленного. Значок этот висит теперь у меня в мастерской. Это большой кусок двойной красной шелковой материи с желтым шелковым же крестом, набитый на казацкую пику, порядочно истрепанный пулями и непогодами. Уехав в последний свой туркменский поход, он хватился значка и просил или отдать старый, или прислать взамен новый.
Старый я положительно отказался отдать, но и новый не решался послать, – вдруг не понравится и он отдаст его солдатам на портянки! Однако, послал-таки, наконец, и очень нарядную штуку: с одной стороны индийская шаль, купленная мною в Кашмире, в самом Шринагуре, с другой – красная, атласная китайская материя, перерезанная голубым Андреевским крестом, буквами «М. С.» и годами «1875–1878». Я сам кроил и налаживал значок; жена моя шила его.
Узнаю от брата моего, бывшего ординарцем у Скобелева, что значок очень понравился всем: и генерал, и мирные туркмены не наглядятся на него.
Но тут беда, неудача: из Геок-Тепе делают вылазку, убивают у нас много народа, захватывают много ружей, пушку, знамя!
Скобелев в отчаянии: отдай я ему старый значок, – новый приносит несчастья!.. Я не отдаю.
Новая вылазка, новый урон и потери с нашей стороны, новые требования отдать счастливый значок и взять назад несчастливый!
– Не отдам! – отвечаю.
Наконец Скобелев берет штурмом Геок-Тепе, в свою очередь убивает, крошит множество народа, берет массу оружия и всякого добра – одним словом, торжествует, и значок мой снова входит в милость; снова и генерал, и туркмены любуются нарядным подарком моим, теперь осеняющим гробницу Скобелева в селе Спасском, Рязанской губернии.
Очень интересна также, как рисующая Скобелева, присланная им мне в подарок карта, – план атаки французами Опорто, препровожденный Михаилом Дмитриевичем начальнику инженеров под Геок-Тепе для изучения и руководства. На полях им изложены мотивы, заставившие его приложить этот чертеж к руководству нашим войском, а в правом углу надпись:
«Глубокоуважаемому, сердцу русскому дорогому Василью Васильевичу к сведению, не без известной гордости моей.
Скобелев. 4 августа, 1881 г. Село Спасское».
Как человек, искренне любящий свое дело, он рассказывал мне потом о причине, побудившей прислать мне этот документ, – желание показать приятелю, что он помнит примеры и уроки истории (о чем у нас был разговор ранее).
Суеверие этого милого, симпатичного человека было очень велико. Он верил в счастливые и несчастливые дни, счастливые встречи и предзнаменования. Он ни за что не стал бы сидеть за столом в числе тринадцати человек, не допустил бы трех свечей на стол, а просыпанную соль, перебежавших дорогу кошку и зайца считал всегда за дурное предзнаменование.
Он верил, что будет более невредим на белой, чем на другой масти лошади, хотя в то же время верил, что от судьбы не уйдешь. Говорят, какая-то цыганка предсказала ему, что он будет ездить на белом коне, но я не расспрашивал его об этом.
Никогда не расспрашивал также Скобелева о его женитьбе, так как понял из некоторых замечаний, что это его больное место. Но я положительно подметил у него стремление к семейной жизни, и когда он раз горячо стал оспаривать это, я прибавил:
– Необходимо только, чтобы жена ваша была очень умна и сумела бы взять вас в руки.
– Это, пожалуй, верно, – согласился он.
Другой раз, помню, в Плевне я смеялся, что мы еще увидим маленьких Скобелят, которые будут ползать по его коленам и таскать его за бакенбарды. М. Д., хоть и проворчал: «Что за чушь вы говорите, Василий Васильевич?», однако предобродушно смеялся над моею картиной. Немало смеялись, помню, тогда Хомичевский и другие ординарцы, при этом бывшие.
Незадолго перед смертью Скобелев хотел, как я слышал, жениться на бедной, но образованной девушке, чему помешал, однако, его развод, – известно, что он разъехался со своею женою и во что бы то ни стало настоял на разводе, так что ему пришлось принять на себя грех дела со всеми его стеснительными последствиями. Я говорю об этом потому, что Скобелев считался, да и любил, чтобы считали его отчаянным противником не только женитьбы, но и всякой прочной связи с женщиною.
Я не могу распространяться о том, как Скобелев умер. Очень ему хотелось умереть на поле чести, на поле настоящей битвы! Что делать – «повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить». Не мог помириться Михаил Дмитриевич с фактом, что ему уже не 20 лет, и все порывался соперничать в любовных похождениях со своею молодежью, ординарцами.
Он был ребячески наивен в этих похождениях, на которые обыкновенно настойчиво зазывал и последствий которых крепко боялся. В Петербурге, перед самым отъездом в Туркменский поход, встречаю Скобелева на Невском проспекте. Я утаптываю тротуар, он едет на паре серых.
– Стой, стой!.. Василий Васильевич, поедем ко мне!
– Зачем?
– Поедем, сам Бог вас послал.
– Да что такое?
– Увидите; сам Бог посылает вас.
Приезжаем.
М. Д. насилу выходить из экипажа, едва переставляет ноги, брюзжит на прислугу, грозит прогнать всех, распекает адъютанта и ординарца, – как страшно попало бедному Баранку, – я должен был вступиться, – запирает двери.
– Василий Васильевич, голубчик, я болен… – посмотрите, что у меня? Если это… я пущу себе пулю в лоб.
– Показывайте!
Я взглянул и ужаснулся. Расспросил его, – он, как младенец невинный, подробно рассказал все, видимо, ничего не скрывая.
– Сколько я понимаю, это не то… – сказал я ему и потребовал, чтобы по крайней мере на три дня он лег в постель.
– Не могу, – забушевал Скобелев. – Что вы говорите?! Я каждый день должен ездить на работу с военным министром и начальником штаба. И думать об этом нечего! Не требуйте от меня невозможного.
– Знать ничего не хочу, – отвечал я, – на три дня в постель, без рассуждений! – и представил ему серьезно подумать о том, какой будет результат его деятельности на войне, если он принужден будет уехать, не выздоровевши.
Это подействовало и он, ворча и капризничая, улегся.
Я тотчас же поехал к моему приятелю, профессору Чудновскому; тот сначала не хотел ехать под предлогом, что он «не специалист», но, наконец, решился. Я почти силою схватил его и привел к герою. Тот, еще раз выслушавши, что опасного ничего нет, но что покой в несколько дней абсолютно необходим, недовольный, остался в постели и, чтобы не терять золотого времени, принялся читать «Нана», известя, разумеется, начальство о внезапном нездоровье своем.[58]58
Можно без натяжки сказать, что ближайшею причиною смерти М. Д. Скобелева была рана, полученная им на Зеленых горах. Пожалуй, это не рана, а царапина, ушиб, но пришедшийся против сердца. У меня хранится мундир покойного с маленькой заплаткой на месте ранения – как раз против самого сердца! И так как Скобелев упал от этого удара, то, конечно, удар не прошел бесследно.
[Закрыть]
Кто не был в огне со Скобелевым, тот положительно не может себе понятия составить о его спокойствии и хладнокровии среди пуль и гранат, – хладнокровии тем более замечательном, что, как он сознавался мне, равнодушия к смерти у него не было; напротив, он всегда, в каждом деле, боялся, что его прихлопнут и, следовательно, ежеминутно ждал смерти. Какова же должна была быть сила воли, какое беспрестанное напряжение нервов, чтобы побороть страх и не выказать его!
Благоразумные люди ставили в упрек Скобелеву его безоглядную храбрость; они говорили, что «он ведет себя как мальчишка», что «он рвется вперед, как прапорщик», что, наконец, рискуя «без нужды», он подвергает солдат опасности остаться без высшего командования и т. д. Надобно сказать, что это все речи людей, которые заботятся прежде всего о сбережении своей драгоценной жизни – а там что Бог даст: пойдет солдат без начальства вперед – хорошо, не пойдет – что тут поделаешь: не для того же дослужился человек до генеральских эполет, чтоб жертвовать жизнью за трусов.
– А почему бы и нет! – рассуждал Скобелев. – Понятие о трусости и храбрости относительное; тот же самый солдат в большинстве случаев может быть и трусом, и храбрым, смотря по тому, в каких он руках. Одно верно, что солдат обыкновенно не дурак: увлечь его можно, но заставить идти, не показавши примера, трудно.
Этот-то пример и солдатам, и офицерам Скобелев и считал себя обязанным показывать.
Я видел немало умников, уговаривавших солдат идти вперед, указывавших путь к славе и проч., и проч., – ничего не берет! пройдет или пробежит отряд несколько шагов, да и засядет в канаве, а в реляции напишут: «атаковали в штыки, но были отбиты, не совладели с численным превосходством», – благо численное-то превосходство неприятеля может проверить один Бог.
Никогда не рисковал Скобелев жизнью попусту, всегда он показывал примерь бесстрашия и презрения к жизни, и пример этот никогда не пропадал даром: одних приводил в совесть, других учил, увлекал, перерождал!
Всегда толковый, разумный, увлекательный на поле битвы, Скобелев в частной жизни был хотя и симпатичен, но нервен, капризен. При разговоре он редко сидел – это, видимо, стесняло его: он шагал, как зверь в клетке, как бы мала не была комната, даже тогда, когда, как в Париже, кабинет его, действительно, уподоблялся клетушке. Когда же он сидел, то непременно вертел что-нибудь в руках, что попадалось; за обедом всегда усиленно мял хлебный мякиш. Случалось, видя эту нервную, непрерывную работу пальцев, взять его за руку и остановить со словами: «Хоть теперь то успокойтесь!» Но приостановка всегда была ненадолго, через несколько секунд уже опять пальцы мнут, лепят, из сил выбиваются.
Так чертовски храбрый на поле битвы Скобелев был порядочный трус перед очень высокопоставленными лицами, – он как будто съеживался в их присутствии, принимал жалостливый вид. Всегда заново одетый и надушенный перед солдатами, под пулями, – в главной квартире он ходил каким-то отчаянным: шинель на боку, фуражка на затылке – точно он боялся, чтоб не засмеяли, не поставили ему в вину щегольство одеждою, как ставили в вину храбрость.
Когда после короткого пребывания в Париже я, снова возвращаясь на Дунай, зашел к матери Михаила Дмитриевича – мимоходом сказать, весьма милой и умной женщине – она просила доставить сыну ящичек, очень нужный. На границе вскрыли ящик и он оказался битком набитый склянками духов.
Выходки Скобелева против австрийцев и немцев не были так неосновательны, как многие думали и у нас, и особенно за границею. Никто, конечно, так крепко, как я, не журил Скобелева за эти речи, но надобно сознаться, что с его точки зрения он имел основание «кликнуть клич славянам». Я положительно не соглашался с ним, не разделял его уверенности в том, что вот-вот на носу у нас война с немцами, которые будто бы перестали уже церемониться, скрываться и прямо угрожают нам. Но Скобелев возвратился с маневров германской армии совершенно проникнутый уверенностью, что столкновение наше с немцами близко.
В Париже, в своем крошечном кабинете, он с возбуждением рассказывал мне, как отпускал его в прощальной аудиенции старый император германский. Рассказывая, М. Д., как тигр, бродил из угла в угол, останавливаясь временами, чтобы представить сидящего на лошади покойного Вильгельма или некоторых лиц свиты его.
Его германское величество сидел-де, подбоченившись, на коне и от него в обе стороны тупым углом стояла громадная, бесконечная свита из немецких офицеров всех рангов и военных агентов всех государств. Когда Скобелев выехал, чтобы откланяться, Василий Федорович (как называли русские престарелого императора) сказал ему:
– Vous venez de m’examiner jusqu’aux mes boyaux. Vous venez de voir deux corps, mais dites a` Sa Majesté, que tout les 15 sauront au besoin faire leurs devoir aussi bien, que ces deux la`… (Вы меня проэкзаменовали до моих внутренностей. Вы видели два корпуса, но скажите его величеству, что все 15 сумеют в случае надобности исполнить свой долг так же хорошо, как эти два).
Может быть, я ошибаюсь в одном или нескольких словах, но смысл речи был таков, – Скобелев тогда же занес эти слова в свою записную книжку, откуда и читал их мне. Этот смысл, признаюсь, казался мне очень простым и натуральным в устах старого монарха; но М. Д. думал иначе: по его убеждению, и сами слова, и интонация их, особенно в виду обстановки, т. е. множества иностранных, по большей части, далеко не дружественно расположенных к нам офицеров, указывали на враждебный умысел.
Еще более усилил в Скобелеве уверенность в том, что нам не избегнуть в близком будущем разрыва с немцами из-за австрийцев, покойный принц Фридрих-Карл, должно быть, на правах лихого кавалериста, считавшего возможным говорить то, о чем дипломаты помалчивали, – дружески ударив Скобелева по плечу, принц вдруг выпалил:
– Lieber Freund! macht was ihr wollt – Österreich muss nach Saloniki gehen. (Любезный друг, делайте, что хотите, – Австрия должна занять Салоники).
– Так так-то! – говорил мой Михаил Дмитриевич, бешено шагая по своей клетушке. – Так это значить уже решенное дело, что австрийцы возьмут Салоники, – они будут действовать, а мы будем смотреть? Нет, врешь, мы этого не допустим!
Интересно, что только в последние годы своей жизни Скобелев всецело отдался славянской идее, вытеснившей в его уме мысль о необходимости исключительной заботы о развитии нашего могущества в Азии, походе в Индию и проч. Мне довелось повлиять в значительной степени на эту перемену в его мыслях.
Несколько раз случалось охлаждать его «туркестанский» пыл и раз я прямо высказал, верно ли, нет ли, что в настоящую минуту среднеазиатские наши владения важны для нас политически потолику, поколику они дают возможность угрожать из них нашим европейским врагам, сеющим славянскую рознь; иначе, – прибавил я, – «игра не стоила бы свечей». Скобелев внимательно отнесся к этим доводам, хотя не вязавшимися с тем значением, которое он придавал Туркестану, но видимо поразившим его.
– Может быть, вы и правы, – сказал он мне тогда.
Впоследствии же он настолько усвоил эту мысль, что в известном письме к Каткову целиком повторил ее, только вместо слов: «игра не стоила бы свечей» сказал: «овчинка не стоила бы выделки».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.