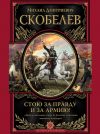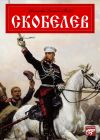Текст книги "Скобелев (сборник)"

Автор книги: Василий Верещагин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Я говорил об этом М. Н. Каткову, когда толковал с ним о Скобелеве.
В последний раз виделся я с дорогим Михаилом Дмитриевичем в Берлине, куда он приехал после своей известной речи в защиту братьев, босняков-герцеговинцев, сказанной в Петербурге. Мы стояли в одной гостинице, хозяин которой сбился с ног, доставляя ему различные газеты с отзывами. Кроме переборки газет, у Скобелева была еще другая забота: надобно было купить готовое пальто, так как он приехал в военном, а заказывать не было времени; масса этого добра была принесена из магазина и проходилось выбирать по росту, виду и цвету.
– Да посмотрите же, Василий Васильевич! – говорил он, поворачиваясь перед зеркалом. – Ну, как?.. Какая это все дрянь, черт знает!
С грехом пополам остановился он – с одобрения моего и старого приятеля его Жирарде, который с ним вместе приехал, – на каком-то гороховом облачении; признаюсь, однако после на улице, я покаялся, – до того несчастно выглядела в нем красивая и представительная фигура Скобелева: он был точно облизанный! После камешка, брошенного им вскоре в огород немцев, некоторые берлинцы, видевшие нас вместе, спрашивали меня потом:
– Так это-то и был Скобелев?!
Во время этого последнего свидания я крепко журил его за несвоевременный, по мнению моему, вызов австрийцам; он защищался так и сяк и, наконец, – как теперь помню, это было в здании Панорамы, что около главного штаба, – осмотревшись и уверившись, что кругом нет любопытных, выговорил:
– Ну, так я тебе скажу, Василий Васильевич, правду, – они меня заставили; – кто «они» – я, конечно, помолчу.
Во всяком случай он дал мне честное слово, что более таких речей не будет говорить; но вслед за тем, попавши в средину французов, M-me Adan и др., увлекся и снова заговорил…
– Бога ради, В. В., – говорили мне в нашем Берлинском посольстве, – поезжайте скорее в Париж, остановите его – нам хоть выезжать отсюда от его речей…
Я не застал уже Скобелева в Париже – его вызвали для головомойки в Петербург…
Прощай, милый, симпатичный человек, высокоталантливый воин. Прощай, до скорого свидания – там!?
Через Балканы
– Да пустите же, Василий Васильевич!
– Нет, не пущу!
– Пустите, я вам говорю! Мне крайне нужно.
– Не пущу!
– Да пустите, черт побери! Ведь меня ожидает главнокомандующий, отряд дожидается!
– Не пущу!
Это Михаил Дмитриевич Скобелев рвался к дверям своего кабинета в нашем доме в Плевне. Он заказал себе для перехода через Балканы какой-то необыкновенной длины и теплоты сюртук на черном бараньем меху; заказал его еврею, портному Владимирского полка, и тот опоздал, не доставил сюртук к сроку. Скобелев страшно сердился, кричал, звал своего денщика Курковского, грозил, что перепорет их всех, рвался в дверь, а я стоял у двери и не пускал, потому что он непременно кого-нибудь побил бы и вообще натворил бы того, о чем сам бы потом пожалел.
– Будьте уверены, – утешал я его, – что они изо всех сил теперь выбиваются докончить и принести вам сюртук, работают руками, глазами и зубами, и вы понапрасну только будете шуметь, а пожалуй, и драться.
– Где эта бестия запропастился! – кричал Скобелев через затворенную дверь. – Пустите же, наконец, Василий Васильевич, мне только этого подлеца найти, я его… – И он бегал из угла в угол, как тигр в клетке.
– Не пущу!.. Не шумите и не горячитесь понапрасну.
Я таки удержал дверь притворенною, несмотря на то, что воин несколько раз покушался прорываться.
Всему, однако, есть конец – кончилось и мученье Михаила Дмитриевича: явился денщик с сюртуком, сшитым и сидевшим просто ужасно. Скобелев страшно бранился, одеваясь; опять грозился всех перепороть, сюртук бросить в печку и проч. Но главное все-таки было достигнуто, – он никому не дал лизуна за горячее время ожидания.
– Ну, что, Василий Васильевич, как сюртук: скверно, а? Да скажите же!.. Что за подлецы, что за мерзавцы, сукины дети…
При всем моем желании успокоить и утешить его, надобно было сознаться, что сюртук сидел дурно, но делать было нечего; его превосходительство напялил его и поехал к великому князю.
Я остался ожидать моих лошадей из Орхании, из отряда генерала Гурко, куда отправил за ними казака. Я написал с ним прощальное послание членам «Английского клуба», который составляли все мы, бывшие в штабе Гурко: Георгий Скалон, Коссиковский, Суханов, Оболенский, Цертелев, Петлин, Шаховской, Казнаков, – просил возвратить с лошадьми оставшиеся вещи, которые и получил при прелестнейшем письме от милых товарищей по походу, укорявших дружески за измену им, за переход из отряда Гурко в отряд Скобелева. Злодеи оставили только у себя мои консервы, шоколад, кофе, сладкие сухари и прочую съедобность, добытую незадолго перед тем с немалым трудом от маркитанта, и, вместо извинения, велели сказать, что, вероятно, мне это теперь не нужно, так как «у Скобелева все есть». А Скобелев, как назло, объявил, что «во время похода пусть всякий промышляет, как знает, – он будет заботиться только о своем желудке».
При выезде моем оказался сюрприз: хозяин дома, в котором я жил со Скобелевым, представил счет разным разностям, у него забранным… За такие вещи, как дрова, собиравшиеся из разбитых турецких домов, разумеется, дорого не пришлось платить, но оказалось, что не отдано, например, за двое саней… Нечего делать, пришлось поплатиться немалым количеством золотых.
Я рассчитывал догнать выступивший отряд в тот же день, но в Боготе, в главной квартире, замешкался. Великий князь был по обыкновению очень любезен. Когда приятель мой Дмитрий Скалон доложил и я вошел в юрту, его высочество был в сильном волнении, так как с минуты на минуту ожидал известия от Гурко, начавшего накануне свой знаменитый переход через Балканы по глубокому снегу.
– Ах, кабы ему удалось, кабы удалось благополучно спуститься, – говорил главнокомандующий, видимо весьма озабоченный.
Я говорил, что, по мнению моему, и сомневаться нельзя в успехе, и так как прибыл недавно оттуда, то рассказал и начертил ему наши и турецкие позиции около Шандорника, против Араб-Конака.
– Так до свидания там! – сказал мне главнокомандующий на прощание, протягивая руку по направлению к Балканам.
Лошадь моя, которую я теперь первый раз обновил, оказалась никуда не годною; я купил ее у ***, для рекомендации передавшего мне, что это – бывший конь Скобелева, очень уставший под генералом и теперь поправившийся. Оказалось, что либо конь был вовсе загнан, либо Скобелев и бросил его за негодность: ни шагу, ни рыси, ни галопа. Чистое наказание езда на таком высоком меланхолическом одре.
К вечеру не успел добраться до Ловчи, пришлось заночевать в турецкой деревне. Только было я начал стучаться в первый попавшийся дом, бежит солдат:
– Ваше высокоблагородие, не извольте стучать, мы отведем квартиру, для этого здесь приставлены.
* * *
Подъезжая на другой день к городу Ловче, я мог разобрать в общих чертах план бывшей здесь битвы, штурма высот Скобелевым. По рассказу последнего и многих других, я знал, что битва была очень кровопролитная и что в редутах мертвые лежали буквально один на другом, грудами. Правда, что перевес русских сил перед турецкими был значителен, 20 000 против 8 000, но зато же и высоты приходилось занимать страшно крутые, да еще с земляными укреплениями, в постройке которых турки заявили себя такими мастерами.
Один из рассказывавших мне об этом сражении прехладнокровно говорил и о грудах тел, и о позах заколотых, и о зловонии, которое стояло кругом, но не вытерпел, вздрогнул всем телом, когда вспомнил, что на третий или четвертый день из-под кучи мертвых еще вытаскивали живых. Я искренно думаю, что кабы не доверили совершенно штурма укреплений Скобелеву, то они не были бы взяты.
Приехавши в город Сельви, я пошел прямо к Михаилу Дмитриевичу, который был в это время в совете с начальником штаба, полковником Куропаткиным, и начальниками частей. Я передал ему поклон главнокомандующего и не мог не заметить, что приятель мой был что-то очень нервен.
– Представьте, – сказал он мне, – Радецкий не хочет двигаться с места; говорит, что он не намерен пробивать лбом стену; пророчит, что нас занесет снегом и проч. Ну, да мы и одни пойдем, и, если нужно, умрем…
Немало беспокоило его и то, что прошедший на днях городом отряд князя Святослава Мирского, назначенный также к переходу через Балканы по другую сторону Шипки, реквизировал часть вьючных животных, сёдел и всего, что предусмотрительный Скобелев заготовил давно уже для своего отряда (Скобелев и Куропаткин заготовили все для перехода через Балканы еще в октябре, когда они бедствовали под Плевной). Нечего было делать, пришлось снова все заготовлять, не теряя ни часа времени. Куропаткин бросился в Тырново, где с помощью губернатора, нашего общего туркестанского приятеля Щербинского, в три дня опять все достал и раздобыл.
В Габрове, куда мы затем перешли, стояло столпотворение вавилонское. Что сталось с этим миленьким, чистеньким городком: все было наполнено больными, преимущественно обмороженными на Шипке. По улицам и дворам валялись дохлые лошади, бродили женщины и дети, вдовы и сироты забалканских болгар, перерезанных турками… Зато торговля шла бойко: чаю, сахару, вина и проч. навезено было множество; сено же и ячмень продавались на вес серебра.
По улицам движение, суета, давка невообразимые. Удивительно, что в такой массе всякого сброда не нашлось шпионов, чтобы дать знать туркам о готовившемся обходе, – те и не думали о грозившей им опасности с флангов, так что оказались захваченными совершенно врасплох.
Скобелев хлопотал о лошади, так как его, уж и не знаю которая счетом, была замучена; хвалил очень моего иноходца.
– Возьмите, говорю.
– Нет, благодарю, мне нужно белую, – нет ли белой?
– Есть, но вас не сдержит, – мала.
Где-то, – кажется, у драгун, – он достал, наконец, хорошего, высокого белого коня. Когда я поехал на Шипку, чтобы повидать там старых знакомых, Петрушевского, Дмитровского и других, то встретил по дороге оттуда Скобелева, несущегося марш-маршем по глубокому снегу и грязи. Ну, думаю, не надолго хватит новой лошади! Он еще раз видел Радецкого на Шипке, принял от него приказания и выслушал опять твердо высказанное намерение не двигаться с занятых позиций. То же самое слышал я и от бравого генерала Дмитровского, старого же туркестанца, начальника штаба Радецкаго, когда навестил его вечером в тот день. Он был сильно возбужден, зимний поход через горы осуждал и пророчил нам смерть в снегу – ни более, ни менее[59]59
Генерал Дмитровский теперь отрицает свою ошибку строгого осуждения зимнего похода, но я подтверждаю сказанное.
[Закрыть].
План перехода Балкан в обход турецкой армии, расположенной под Шипкою, принадлежал Радецкому и его начальнику штаба Дмитровскому, но они предлагали сделать это осенью, так что когда главнокомандующий по взятии Плевны дал приказ исполнить этот план, Радецкий пришел в ужас, объявил, что это движение было задумано в расчете на осень, а не на зиму, и теперь за глубоким снегом неисполнимо.
Скобелев, однако, был совершенно уверен в успехе дела, и 26-го декабря 1877 года выступил к деревне Топлиш, что в предгорьях, куда уже раньше двинулись войска его отряда.
Казак мой, кубанец Курбатов, несмотря на строгий наказ поспевать за мною, так-таки и не поспел; он уверял, что за ночь «беспременно справится» в Габрове, но, конечно, за ночь просто кутнул с приятелями, так что за мою доверчивость я был наказан и не видел его и моих вещей в продолжение нескольких дней, во все время перехода через горы, где как раз не хватило мне для этюдов полотен и красок и пришлось написать этюды снежной траншеи и др. на дощечке сигарного ящика.
Я приехал в Топлиш ночью и, решительно не зная, куда приткнуться в этой деревеньке, битком набитой войсками, сунулся к Скобелеву, но оказалось, что он уже улегся и храпел тем богатырским сном, который всегда так подкреплял его перед серьезным делом. Зная его за очень нервного человека, я, признаюсь, никогда не мог понять этой способности засыпать именно тогда, когда нужно. Уж и не знаю, как я попал в хату главного доктора отряда, очень милого человека, которого встречал на перевязочном пункте, но не знал лично. Он напоил меня чаем, а в соседней избе вповалку с неизвестными мне господами я переспал. Из насекомых тут была одна кавалерия, что еще хорошо, – кабы пришлось спать между солдатами, то не миновать бы и серенькой пехоты.
На другой день ранним утром войска уже длинною, кривою линией тянулись к подъему, по подъему и по самому хребту. Скобелев был впереди, и догонять его было трудно по узкому проходу в снегу – того и смотри, наткнешься на солдатский штык. Саперы прошли здесь накануне, разгребли снег, но его все-таки осталось столько, что лошадь оступалась и проваливалась, а главное, неудобно было то, что из разгребенного снега образовались по обеим сторонам дороги целые стены в рост человека, коли не выше; уступая место всаднику, солдаты не могли податься в сторону, они припадали к товарищу, конечно, не без смеха и шуток:
– Штык подними, прими! Смотри, сейчас глаз вон верховому выколешь!
Приходилось постоянно проделывать гимнастические упражнения на седле, чтобы кого-нибудь не ушибить, да и самому не наткнуться на штык или не удариться коленом о вьюк с зарядами. Со штыками-то я разделался благополучно, но колена свои отколотил в лучшем виде.
Труднее всего, конечно, было проходить сотне уральских казаков, шедшей впереди саперов с проводниками; они протаптывали путь по совершенно занесенным снегом горам, ведя лошадей под уздцы, и часто совершенно проваливаясь, увязая в снегу. Командовал уральцами тоже туркестанец, сотник Кирилин. За казаками рота саперов под командою Ласковского, адъютанта главнокомандующего, уже правильно расчищала намеченный путь.
В одном месте прежалкую картину представляли кучкою приютившиеся на бугре около дороги музыканты: в своих холодных шинелишках они сидели, тесно сжавшись от холода; музыкальные инструменты их в чехлах, некоторые огромных размеров, лежали около них; бедные артисты, – им было далеко не до музыки тут.
Еще было довольно рано, когда мы остановились для привала на высокой равнине, против скалы «Марковы столбы». Под деревьями разрыли в снегу место для палатки Скобелева и Куропаткина; невдалеке расположились мы. Полукругом по всей опушке леса, окружавшего равнину, раскинулись войска.
Я написал этюд этого места и успел-таки согреться у Скобелева стаканом чаю; затем, однако, пришлось прибегнуть к небольшому запасу консервов, кофе и шоколада, бывшего только у меня и, конечно, сейчас же уничтоженного нашею проголодавшеюся молодежью. Лошадей мы пробовали кормить конскими консервами, но они что-то отворачивали морды, – не очень охотно жевали этот корм. Как я сказал, под деревьями, кругом снежной площади, расположились войска и везде запалили костры, благо весь лес был к услугам отряда. Хотя по зареву этих огней турки и могли открыть нас, но Скобелев разумно решил, что лучше иметь неприятелем людей, чем мороз, который был порядочный. Великое было счастье для отряда, что не только вьюги, но и просто ветра не было, в противном случае зловещие предсказания Дмитровского хоть частью оправдались бы, пожалуй. К тому же надобно сказать, что заботливостью Скобелева и Куропаткина все было предусмотрено: у всех солдат были набрюшники и на ногах просаленные портянки; у каждого был запас вареной говядины, сухарей и чаю. Кроме того, во избежание замораживания и отмораживания солдатам приказано было наблюдать друг за другом в эту ночь.
Я укрылся всем, что у меня было: полушубком, буркою и одеялом; лег около самого огня и все-таки чувствовал, что медленно замерзаю; как ни корчился, ни свертывался кренделем, ничего не помогало – пришлось оставить надежду на сон и, закурив сигару, ждать у костра рассвета, болтая с товарищами. Часть отряда поднялась и прошла вперед еще ночью, а под утро двинулись и мы.
Было уже замечено, что интендантство не успело заготовить солдатам полушубков, подоспевших лишь к тому времени, когда армия перешла Балканы и настала жара. Когда заботливый Панютин выпросил позволение раздать своему полку тулупы, оставшиеся от замерзшей дивизии Гершельмана, – оказалось, что, несмотря на долгое лежание на складе, полушубки были полны насекомыми и солдаты предпочли идти через горы в холодных шинелях.
Я писал этюд траншеи, вырытой в снегу, к стороне турецких позиций (после была исполнена картина этой траншеи), когда Скобелев проехал вперед и тут, даже и по этой дороге, галопом; солдаты бодро и весело отвечали на его привет.
Надобно было видеть, как удивились турки, когда мы вышли из лесов на открытый склон горы, к ним обращенный. Они попробовали сделать несколько выстрелов из орудий, но без вреда нам – где попасть в растянутую линию! Пули же их вовсе не долетали до нас.
Все позиции турецкие, а за ними и наши, были отсюда как на ладони, и в бинокли мы хорошо видели все подробности их житья-бытья в землянках.
Вон гора св. Николая, где наши солдатики с нетерпением следили теперь за нами, ждали результата нашего обхода, который должен был, наконец, освободить их от долгого мучительного сиденья в засыпанных снегом, совершенно обовшивевших землянках Шипки.
Вон турецкие батареи на так называемой Лысой горе: турки большими группами рассуждают о том, что готовит им впереди «кизмет», т. е. судьба. Помешать нашему движению они теперь уже не в силах, надобно было подумать об этом раньше. Нападение на нас с фланга, с места теперешнего их расположения по глубокому снегу было очень трудно, – близок локоть, да не укусишь. Оставалось помешать нам спускаться, но мы уже и спускаться начали, – совсем опоздали наши враги!
У самого начала спуска две высокие горы, два пика, расположенные по обе стороны дороги. Как старый военный, я сейчас же заметил Куропаткину, что эти две возвышенности необходимо немедленно же и крепко занять.
– Что, что вы говорите, Василий Васильевич? – спросил ехавший впереди нас Скобелев, всегда чутко прислушивающийся к тому, что говорили около него.
Я повторил, что эти высоты, как командующие спуском, необходимо на всякий случай занять…
– Да, Алексей Николаевич, – обратился он к Куропаткину, – это совершенно верно, прикажите сейчас же занять их и окопаться.
– Слушаю-с, – ответил Куропаткин неохотно. Беда, как не любят военные, даже развитые, советов статских, хотя, собственно говоря, я имел право считать себя более военным, чем большинство офицеров отряда.
Скобелев, впрочем, был выше этого и всегда был не прочь принять совет, если находил его разумным, откуда бы он ни шел.
Полковник Куропаткин, начальник штаба Скобелева, был, бесспорно, одним из самых лучших офицеров нашей армии. Невысокого роста, не особенно представительной красоты, но храбрый, разумный и хладнокровный, он был многими чертами характера противоположен Скобелеву, который давно уже был с ним дружен, уважал и ценил его, хотя часто с ним спорил; и надобно сказать, что в спорах этих рассудительный начальник штаба оказывался по большей части более правым, чем блистательный, увлекавшийся генерал. Нельзя, однако, сказать, чтобы кругозор Куропаткина был шире, чем Скобелева, – часто бывало наоборот: например, в вопросе возможности зимнего перехода через Балканы, вопросе громадной важности для исхода всей кампании, Куропаткин держался мнения Радецкого и Дмитровского, т. е. был абсолютно против этого перехода… Скобелев же, напротив, был душою и телом за поход и совершенно уверен в счастливом исходе его. «Перейдем! а не перейдем, так умрем со славою», – повторял он мне свою любимую фразу.
– Он только и знает, что умрем да умрем, – говорил со мной об этом Куропаткин еще в Плевне. – Умереть-то куда как не трудно, надобно знать, стоит ли умирать…
Куропаткин не был так щегольски и в то же время так дерзко храбр, как Скобелев, но и он тоже был замечательной храбрости; и лошадей-то под ним убивало, и зарядные-то ящики у него перед носом взрывало, и самого-то его много раз ранило, а он все жив да жив, и теперь так же неисправим по части измышления всякой пагубы на неприятелей России, как и прежде – коли не больше.
Скоро пришло из передового отряда саперов донесение о том, что турки наступают. Я видел, что краска бросилась в лицо Скобелеву при этом известии; он тотчас же обратился к солдатам:
– Поздравляю вас, братцы, с началом дела, турки наступают!
Солдаты дружно ответили обычное: «Рады стараться, ваше превосходительство!»
Послан был ординарец Дукмасов с двумя ротами на помощь саперам. Скобелев, знавший статут Георгиевского креста наизусть, заранее сказал ему, что он получит Георгия за это дело: «Выбить их! молодцом у меня, смотрите!»
Спуск был едва ли не труднее подъема; местами лошадь уходила в снег по шею и я был искренне благодарен моему рыжему иноходцу за отчаянные усилия, с которыми он выносил из сугробов, ни разу не ткнувши меня носом в них. Местами, однако, ехать верхом не было никакой возможности, надобно было скользить вниз. Солдаты устроили праздничные игры и скатывались кто благополучно, кто кувырком, со смехом и шутками. Самому-то, впрочем, съехать было не трудно – куда ни шло, но заставить съехать на том же инструменте лошадь было не так удобно. Уж не помню, как свел я своего коня с одного крутого места, настоящего обрыва – кажется, мы вместе скатились!
Разработка этого места, конечно, потребовала бы очень много времени, почему, вероятно, наши саперы и отступились от него, но, с другой стороны, и оставлять такие места для спуска по ним кавалерии и особенно артиллерии – очень и очень рискованно, считая, что невозможного на свете нет.
Мы были уже на южном склоне Балкан. Скобелев остановился на одной из крайних возвышенностей и долго, подробно осматривал в бинокль долину Тунджи и турецкие позиции, расстилавшиеся перед нами.
Налево гора св. Николая с Шипкою. Расположение наших полков резко обозначалось черными, грязными линиями по белой массе снега. В бинокли мы видели все подробности: вон, на самой скале св. Николая батарея Мещерского.
Помню, в мой первый приезд на Шипку я рисовал эту батарею, но огонь был так силен, что, каюсь, я поминутно кивал и отклонялся головою от свистевших пуль, гранат, а временами и бомб, летавших с турецких батарей из-за горы. Пули на этом пункте летели буквально дождем и оберегаться от них было, впрочем, просто ребячество.
Бомбы назывались на Шипке «воронами», – эти вороны даже землянки прошибали! В одной, рассказывали мне, офицеры играли в карты, когда ударила такая ворона и всех поубивала, поранила.
Вон развалина турецкого блокгауза, в окне которого я было расположился раз писать долину Тунджи, видневшуюся тогда в каком-то чудесном фиолетовом тумане. Хоть у меня и был складной стул, но, чтоб не сидеть на открытом месте, я свернул под закрытие этого домика и расположился на подоконнике – авось под крышею не заденет пуля! Не тут-то было: турки, хорошо наблюдавшие все, что делалось у нас, с их очень близких позиций, конечно, сейчас же заметили хромого любителя видов – это было в сентябре, когда рана моя еще только слегка затянулась – и угостили меня раз за разом тремя гранатами: первая ударила в стену без большого вреда, вторая – в крышу, хотя и не в то место, где я сидел, но, однако, забросала весь блокгауз обломками и засыпала пылью мои краски; третья, наконец, с адским шумом и треском пробила крышу совсем рядом с моим подоконником, взрыла и набросала на меня и мое писание такую массу земли, камней и всякой дряни, что я решился уйти, не кончивши этюда, – от греха!
Еще далее по горе «центральная» и «круглая» батареи и между ними землянки Минского полка, в одной из которых у приятеля моего Насветевича я провел несколько дней.
Далее тоже все знакомые места: вон, по ту сторону св. Николая, турецкие батареи – «Девятиглазка», «Воронье гнездо», «Сахарная голова». Вон та часть дороги, по которой в последнее время никто уже не ездил – пробирались объездом, по-за-горою, потому что она вся была на виду у турок, – и с которой, несмотря на то, что ее обыкновенно проскакивали марш-маршем, и всадники, и телеги с лошадьми часто сбрасывались в кручу гранатами и бомбами, – недаром она называлась «Райскою долиной».
Вниз от русских позиций турецкие землянки и батареи, а совсем внизу, в долине, от развалин деревни Шипки до деревни Шейново – укрепленные курганы, центр турецкой позиции, за которыми начинается густая дубовая Шейновская роща. Вдали, прямо под нашим спуском, кряж Малых Балкан, направо – деревня Иметли, по имени которой назывался и наш перевал; туда, и далее направо, в Тунджинскую долину, Скобелев и Куропаткин смотрели особенно пытливо, так как, по слухам, оттуда двигались турецкие войска Сулеймана-паши на помощь шипкинской армии.
Передовые войска остановились на привал в ущелье, а Скобелев пошел по обыкновению рекогносцировать дорогу. Он поехал было верхом, но турки, засевшие внизу за скалами, открыли такую пальбу, что пришлось сойти с лошади. С ним был начальник штаба Куропаткин, помощник его граф Келлер, я и несколько казаков; не помню, был ли кто еще из офицеров, кажется, был ординарец Марков. Турки буквально осыпали нас свинцом и выжить их оттуда не было возможности, так как ружья Крынка не доносили наших пуль до них.
Я начал набрасывать в альбом открывшуюся перед нами часть долины, а Скобелев прошел еще вперед. Смотрю, уж тащат назад под руки Куропаткина, бледного как полотно. Он остановился перевести дух за тем же обломком скалы, за которым я рисовал, – пуля ударила его в левую лопатку, скользнула по кости и вышла через спину.
Бедняга страшно осунулся и все просил посмотреть рану и сказать ему по правде, не смертельна ли она. Скоро пришел Скобелев, и мы все двинулись назад. Куропаткина, разумеется, тащили под руки, так как он с трудом передвигал ноги.
Мне случалось быть в очень сильном огне, но в таком дьявольском, признаюсь, еще не доводилось. Даже на Дунае при нашей минной атаке, когда нас осыпали и с берега, и с турецкого судна, кажется, огонь не был так силен.
Здесь турки стреляли на самом близком расстоянии и лепили пуля в пулю, мимо самых наших ног, рук, голов. Так и свистел свинец, то с писком, то с припевом и, шлепнувшись в скалу, либо падал к ногам, либо рикошетировал. Не то, чтобы следовал выстрел за выстрелом, – нет, то была сплошная барабанная дробь выстрелов, направленных на нашу группу, – свист назойливый, надоедливый, хуже комариного.
Моя лошадь и лошадь Скобелева, которых вели за нами в поводу, остались целы, но у болгарина моего убили коня, да и вообще убили немало людей и животных. Я шел с левой стороны Скобелева, и, признаюсь, не совсем хладнокровно слушал эту трескотню.
«Вот, – думалось, – сейчас тебя, брат, прихлопнут, откроют тебе секрет того, что ты так хотел знать: что такое война!»
Помню, однако, что я наблюдал еще Скобелева. Смотрю на него и замечаю, не наклоняется ли он, хоть немного, хоть невольно, под впечатлением свиста пуль? – Нет, не наклоняется нисколько! Нет ли какого-нибудь невольного движения мускулов на лице или руках? – Нет, лицо спокойно и руки, как всегда, засунуты в карманы пальто. Нет ли выражения беспокойства в глазах, – я разглядел бы его, даже если бы оно было хорошо, глубоко скрыто, – кажется, нет, разве только бесстрастность взгляда указывала на внутреннюю тревогу, далеко-далеко запрятанную от посторонних. Идет себе мой Михаил Дмитриевич своею обыкновенною походкой с развальцем, склонивши голову немного набок.
«Черт побери, – думал я, – да он все тише и тише идет, нарочно, что ли?»
Пальба просто безобразная, то и дело валятся с дороги в кручу люди и лошади. Бравый многоопытный Куропаткин, влекомый сзади под руки, кричит оттуда:
– Бегите, кто цел – всех перебьют!
Граф Келлер и еще некоторые вприпрыжку бросились вперед; я, как более обстрелянный, остался со Скобелевым.
– Ну, Василий Васильевич, – говорил он мне после, когда поворот дороги закрыл нас, наконец, от турецких пуль, – мы сегодня прошли сквозь строй!..
Мне интересно было узнать внутреннее чувство Скобелева во время сильной опасности, и я спрашивал его потом:
– Скажите мне откровенно, неужели это правда, что вы приучили себя к опасности и уже не боитесь ничего?
– Что за вздор? – ответил он. – Меня считают храбрецом и думают, что я ничего не боюсь, но я признаюсь, что я трус. Каждый раз, что начинается перестрелка и я иду в огонь, я говорю себе, что в этот раз, верно, худо кончится… Когда на Зеленых горах меня задела пуля и я упал, моя первая мысль была: «ну, брат, твоя песня спета!..»
Признаюсь, мне приятно было слышать это от Скобелева, потому что после того моя собственная личность казалась мне менее трусливою. Не то, чтобы я особенно преклонялся перед храбростью, но трусость-то, нервность, с которой так часто приходилось встречаться, была уж очень противна. Сознавая, что под сильным огнем я чувствовал себя не совсем спокойным и боялся, что вот-вот меня прихлопнет, и начатые картины останутся не оконченными, я доволен был, что Скобелев смотрел в глаза смерти далеко не хладнокровно, только хорошо скрывал свои чувства, – значит и я не вполне трус!
– Я взял себе за правило никогда не кланяться под огнем, – говорил он мне, – раз позволишь себе делать это – зайдешь дальше, чем следует…
Теперь, после этого ответа, я искренно думаю, что нет такого человека, который был бы спокоен под огнем, как бы ни старался он казаться им.
* * *
Куропаткину наскоро перевязали рану и потащили на носилках под надзором ординарца Скобелева в Габровский госпиталь, назад через Балканы. Он сказал перед уходом:
– Вот вам мой последний совет: выбейте поскорее этих турок во что бы то ни стало, иначе они перегубят много народа.
Мы попрощались с Алексеем Николаевичем. Скобелев чуть-чуть всплакнул даже, но, впрочем, быстро отерши слезы, оправился.
– Полковник, граф Келлер! Вы вступите в должность начальника штаба.
– Слушаю, ваше превосходительство!
– Вот и производство вышло, – сострил удалявшийся Куропаткин.
Крепко чувствовали все в отряде его потерю; Скобелев сказал мне, что он был ему незаменим.
Генерал приказал штурмовать турок, но полковник Панютин, которому дано было это приказание, просил дозволения сначала попробовать выжить их огнем.
У него был один батальон, вооруженный ружьями Пибоди, взятыми при сдаче Плевны, и две роты с этими ружьями буквально засыпали турок свинцом, так что не далее, как через несколько минут ни одного выстрела не было более оттуда, ни одного неприятеля там не осталось, все утекли. Более поразительный пример того, что значит хорошее вооружение, мне редко случалось видеть…
Конечно, Панютин спас тут много солдатских жизней, потому что штурм засевших за камнями турок не обошелся бы без потерь. Сколько же всего наших жизней было бы спасено, если бы ружьями, взятыми при сдаче Плевны, вооружили часть отряда; ружей этих было несколько десятков тысяч с миллионами зарядов. Все эти десятки тысяч ружей Пибоди, взятые у турок, пролежали грудами под снегом за все время, что я пробыл в Плевне, т. е. около двух недель, так же, как и ящики с зарядами; эти последние валялись в великом множестве и по самой дороге, и по сторонам ее на нескольких верстах расстояния, а так как никто не прибирал их, то проходившие повозки давили и взрывали их сотнями, тысячами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.