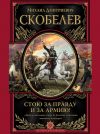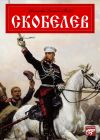Текст книги "Скобелев (сборник)"

Автор книги: Василий Верещагин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Скобелев как будто был выбит из своей колеи раною Куропаткина. Более обыкновенного он был нервен и беспокоен, и все отводил меня в сторону.
– Василий Васильевич, как вы думаете, ладно у меня идет? Как на ваш взгляд: нет беспорядка? Граф Келлер хороший офицер, но он неопытен, – боюсь, не вышло бы путаницы!
Я успокаивал его, говорил, что покамест, как мне кажется, все идет как следует.
– Заняли вы высоты, командующие перевалом?
– Да, люди уже посланы туда!
– Приказали им окопаться?
– Приказал.
– Удостоверьтесь, исполнено ли приказание!
Удостовериться послан был Харанов, и мне смешно вспомнить, как этот бравый офицер, увидя на упомянутых высотах людей, принял их за турок.
Скобелев не унимался, все беспокоился:
– Василий Васильевич, вы были у Гурко, скажите по правде, больше у него порядка, чем у меня?
– Порядка не больше, но он меньше вашего горячится.
– Да разве я горячусь?
– Есть немножко, вон в одно и то же место послали третьего ординарца…
Помнится, в Плевне, когда я только что воротился из гвардейского отряда, мне случалось в приятельской беседе с обоими Скобелевыми и еще одним генералом защищать Гурко от некоторых несправедливых нападок, россказней, повторяемых обыкновенно из двадцатых уст. Михаил Дмитриевич, неравнодушно относившийся к положению Гурко как начальника стотысячной армии, заподозрил меня в пристрастии и рассердился…
Дали знать, что ранен адъютант главнокомандующего Ласковский; хотя рану его называли легкою, жаль было отряду потерять этого хорошего, хладнокровного офицера.
Генерал приказал между тем полковнику Панютину выбить турок из траншей под самым спуском, откуда они портили опять немало нашего народа.
Генерал Столетов, один из моих стариннейших знакомых еще по Кавказу, послан был занять деревню Иметли. Надобно заметить, что Столетов был уже полковником, когда М. Д. Скобелев надевал еще только эполеты. Теперь первый, в чине генерал-майорa, был под командою у второго, генерал-лейтенанта и командира отдельного отряда, и в оправдание свое говорил:
– За такими рысаками, как Скобелев, не угоняешься.
Мы провели эту ночь на снегу, в нашем ущелье, кругом костра, который с трудом поддерживали сырыми прутьями, да и те-то раздобывали с трудом: казаки и вообще нижние чины кругом Скобелева были такая вольница, что нимало не заботились о нем, так что только когда, теряя терпение, он пускал в ход брань и угрозы, они бросались исполнять требуемое. «Черт вас побери, я вас всех перепорю», – кричал он обыкновенно в таких случаях, и только после этого денщик его вяло, громко ворча, а другие, как будто и всерьез боясь угрозы, исполняли, что нужно. Угрозы, впрочем, не всегда оставались только угрозами, случалось, переходили и в дело; Скобелев давал иногда страшные затрещины, а денщику Курковскому за грубость ординарцу Харанову было в Плевне всыпано столько горячих, что несколько дней он буквально едва бродил. Это не помешало Скобелеву сейчас же вслед за экзекуцией начать снова заигрывать со своим драбантом, принимавшим, однако, тогда шутки патрона очень мрачно, сдержанно.
Кругом костра, кроме Скобелева, было несколько человек офицеров, но Немировича-Данченко, нашего бравого и всюду поспевавшего корреспондента, что-то не было видно, верно, он находился в Иметли. Не знаю, спал ли Скобелев, пожалуй, он и тут сумел заснуть, но я только забывался. Голова была тяжела, в желудке пусто – мы ничего не ели и выпили лишь по стакану чая. Особенно тяжело должно было быть раненому Ласковскому, тут же валявшемуся на снегу в коротеньком полушубке. Рана его была, что называется, очень счастливая: пуля ударила в подмышку, не попортив груди; он отправился было даже на утро с нами осматривать неприятельскую позицию, не слушая советов беречься, но я силою воротил его, заставил уехать назад в Габрово, в госпиталь, к великому удовольствию и счастью его преданного денщика.
Утро было прекрасное. Небольшой турецкий отряд стоял у нас под горою, как будто с намерением помешать спуску, но вскоре отошел – кажется, неприятель не блистал ни распорядительностью, ни решительностью.
С Шейновских батарей открыли орудийный огонь, а с нашей стороны нечем было отвечать, поэтому, когда Скобелеву дали знать, что по такой дороге невозможно провезти артиллерию, я настоял, чтобы хоть несколько орудий было протащено. Генерал так и приказал. Покамест пробовали отвечать с дороги из наших горных пушченок: снаряды далеко не долетали, но шум выстрелов производил известный эффект, давая знать неприятелю, что и мы с артиллерией, и ободряя своих солдатиков, с удовольствием замечавших:
– Вона! наша пошла на ответ, – вали!
Скобелев просил меня сделать набросок местности с расположением турецких войск, чтобы приобщить его к своему донесению. Так как сверху, с дороги, многое было не видно, то я спустился пониже, да и не рад был: пуль летало там такое множество, что, признаюсь, только стыд не позволил задать сейчас же тягу, и я лишь наскоро, с грехом пополам, набросил план; при этом случае я хватился моего альбома с рисунками – его не было! А альбом-то был с заметками от Плевны и Горного Дубняка до самых последних дней. Перебирая в памяти, где бы я мог потерять эту дорогую для меня вещь, я вспомнил, что последний раз держал ее в руках, когда бросился обнимать раненого Куропаткина – выходило, что так нежничать вдвойне не следовало; во-первых, потому что Куропаткин проворчал: «Что вы целуете-то меня, посмотрите лучше рану», во-вторых, потому что за этою нежностью я выпустил из рук и оставил на снегу альбом свой. Скорей бросился я туда искать, но ничего не нашел, – оно было и понятно, потому что множество народа конного и пешего прошло уже по этому пути и коли не сбили, не сбросили, то, конечно, замяли мою бедную книжку.
При поисках моих увидал я, какое множество солдат, казаков и лошадей было вчера перебито, главным образом, во время памятной рекогносцировки Скобелева. У одного вышиблены были буквально целиком вся грудь и живот – хоть бы что в середине осталось!
Нет как нет моего альбома; плакал он вместе со всеми заметками, так мне нужными для будущих работ, решил я мысленно, – и в это время встретил знакомого офицера Владимирского полка.
– Знаете ли, говорит он, – ведь нашли альбом вашего покойного брата; должно быть, турки вынули у него, у мертвого, и занесли сюда, в Иметли.
– Да это, должно быть, мой альбом, который я разыскиваю; у кого вы его видели?
Он назвал фамилию офицера Донского казачьего полка и я поскакал его искать. Полк этот спустился в полном составе, и Скобелев лично расставлял его в долине.
Наконец-то я добрался до моей дорогой тетради, оказалось, что солдатик поднял ее на дороге, на том месте, где я рисовал и где отдыхал раненый Куропаткин, взял ее с собою и в Иметли, в тесноте около колодца, снова обронил; поднял казак, передал офицеру, а офицер передал мне!
Я воротился на место нашего бивуака; снег везде таял, было очень жарко, меня томила жажда. Остановившиеся на отдых солдаты пили чай; я присоединился к одному, любезно предложившему мне не чашку, а крышку походного котелка с чем-то похожим на чай, но крепко отдававшим похлебкою.
В разговоре с солдатом я узнал, что их скупо наделяли чаем, а особенно сахаром; этого последнего выдавали, правда, положенное число кусочков, но до того микроскопических, что чай приходилось пить буквально в наглядку…
Хотя у Скобелева, вообще говоря, все, касающееся продовольствия солдат, велось порядочно, ибо он строго смотрел за этим и взыскивал, но тем не менее я сожалею, что забыл сказать ему об этих кусочках сахара, – я уверен, что за все остальное время кампании они были бы тогда не так микроскопичны в его отряде.
Я нашел Скобелева на спуске, разговаривающим с князем Вяземским, начальником бригады болгарского ополчения, если не ошибаюсь, приехавшим донести о том, что невозможно протащить по этой адской дороге даже и одного орудия. Скобелев не настаивал более, но я пожалел; будь это у Гурко, тот приказал бы провезти, «во что бы то ни стало», и наверное были бы протащены хоть два орудия.
Князь Вяземский в беседе со Скобелевым доложил также, что с перевала давно уже были на виду, а теперь стали видны и со спуска передовые части отряда князя Мирского, спустившегося в долину с другой стороны Шейнова. Действительно, хотя с трудом, но можно было рассмотреть вдали, на белой массе снега, небольшие темные черточки – полки, двигавшиеся по направление к Шейнову, т. е. уже наступавшие на турок; даже слышна была трескотня выстрелов. Скобелев расспрашивал Вяземского о том, какие части он встретил на пути: спустились из 16 пехотной дивизии два полка и спускался третий; кавалерия еще вся была на пути, кроме одного полка казаков, – очевидно, отряду никак было не собраться за сегодняшний день.
– Как вы думаете, Василий Васильевич, – спросил меня Скобелев, указывая на тот отряд, – скоро ли они дойдут до Шейнова?
– Коли турки не задержат, часа через два – два с половиной.
– Так пожалуйста, скажите Панютину, чтобы выступал в траншеи!
Я поскакал так, что мой бедный рыжий иноходец подумал, вероятно, что я с ума сошел – скакать, да еще по такой дороге, когда он заведомо уморился и насилу волочил ноги! Приказание было слишком давно ожидавшееся, так что, еще не доскакав до Панютина, я крикнул ему сверху:
– Полковник Панютин, извольте выступать!
Тот, в свою очередь, обрадовался, не заставил повторять себе это два раза, а ответив только: «Слава Богу!», сняв фуражку, перекрестился и двинулся вперед так быстро, что когда, обогнув большую извилину дороги, я поскакал к нему – он уже миновал траншеи.
– Генерал велел выступить покамест только до траншеи, – говорю.
– Мы миновали их уже, что же вы раньше не сказали!
– Кто же знал, что вы так зашагаете…
Смотрю, марш-маршем несется Скобелев прямо к нам.
– Василий Васильевич. Вы двинули войска за траншеи?
– Я!
– Прикажете остановиться, ваше превосходительство? – спросил Панютин.
– Нет, нет, я только что хотел двинуть вас дальше; ступайте вперед, остановлю вас после, когда будет нужно.
У меня как гора с плеч свалилась!
Выстрелы со стороны отряда Мирского учащались, стреляли уже залпами, слышалось «ура! ура!» наших и «Аллах» турок. Очевидно, с той стороны разгорался уже бой и нам следовало идти им на помощь, но с чем? Спустившиеся силы были совсем ничтожны, а остальная часть двигалась по перевалу очень медленно, на что Скобелев страшно бесился. Несмотря на то, что он посылал ординарца за ординарцем торопить, кавалерия шла убийственно тихо и совсем загородила путь остальной пехоте.
Предполагая, что хотя что-нибудь надобно было бы оставить в резерве на случай встречи со слишком неравными силами турок, у которых, по сведениям, войска было немало, пришлось бы начинать бой с одним полком, что, очевидно, было просто неразумно. Чтобы тем не менее отвлечь часть сил неприятеля на себя, генерал демонстрировал, построил батальоны к атаке и выдвинул вперед горную артиллерию. Так как пушченки наши продолжали «не хватать», то подрыли им передки, еще и еще, и добились, наконец, того, что он стали махать прямо в середку неприятеля. Там крепко зашевелились, очевидно, стали готовиться к встрече нас, особенно когда я уговорил Панютина дать два залпа и прокричать полком «ура!»
Три турецких орудия отвечали нам; вдоль всей деревни выдвинулась сплошною линией конная цепь, по-видимому, черкесов.
Мы стояли совсем близко к неприятелю и, конечно, не только заставили его отвлечь часть сил на нас, но и удержали в бездействии немало их резервов.
Скобелев решил, собравши за ночь все свои силы, нанести завтра туркам решительный удар. Он несколько раз говорил об этом, и я лично крепко одобрял это решение… Когда Михаил Дмитриевич подошел к Панютину, стоявшему с полком в передней линии, и сказал, что атакует завтра, бравый полковник ответил:
– Что, ваше превосходительство, теперь Алексея Николаевича (Куропаткина) нет – и толку, кажется, у нас не будет.
Несмотря на то, что это было сказано громко, милейший Михаил Дмитриевич только ответил:
– Каково он мне льстит! Подождите, успеете еще!
У Панютина очевидно, руки неудержимо чесались; что касается меня, как ни ничтожно и мало авторитетно могло быть мое мнение, я так-таки полагал, что следовало воздержаться от атаки с нашими ничтожными силами. Конечно, все мы чувствовали, что следовало «идти на выстрелы» и Скобелев мучился более, чем кто-нибудь другой, но невозможно было сделать это теперь с расчетом на успех – войска не успели сойти с гор.
Уже темнело. Генерал велел с наступлением ночи отвести войска назад; я посоветовал ему приказать разложить огни по всей линии прежнего расположения войск, с тем, чтобы продолжать отвлекать в нашу сторону внимание турок. Скобелев так и сделал.
Со стороны другого отряда давно уже стало затихать и теперь все смолкло. После мы узнали, что он имел тут жаркое дело.
Чего стоило чуткой, нервной, подвижной натуре Скобелева удержаться от атаки в этот день – я это знаю, так как все время был с ним. По большей части мы были одни, потому что он постоянно отходил в сторону с желанием высказать то, что у него было на душе, то, что его, видимо, беспокоило, душило:
– Как вы думаете, Василий Васильевич, хорошо я сделал, что не штурмовал сегодня? Я знаю, скажут, что я сделал это нарочно, будут упрекать меня в том, что я с умыслом не атаковал, что не хотел помочь; ну, что ж! я подам в отставку!!
– О какой отставка вы говорите? – успокаивал я его. – Вы сделали то, что должны были сделать, то, что могли. Вы отвлекли на себя часть турецких сил, но штурмовать с одним полком было немыслимо…
К нам подошел тут Столетов; я взял его в свидетели, просил его сказать свое откровенное мнение. Он без обиняков высказался, что с такими ничтожными силами идти на крепкую позицию было крайне рискованно, если не невозможно.
Скобелев как будто немного успокоился, но он был вполне военный человек и его чутье подсказывало ему, что вышло что-то неладное… что он опоздал спустится с гор и не поспел на подмогу своим.
Он много раз еще возвращался к тому же:
– Василий Васильевич, подите сюда на минуточку; ведь я не мог иначе сделать? ну, что же, ну, оставлю службу, ну, подам в отставку, коли будут упрекать!..
Душевно было жаль слушать его оправдания, этот плач воина, не поспевшего на выручку своих!
Он обошел войска, везде велел окопаться, и окопаться так, как если бы предстояло серьезное нападение неприятеля, причем беседовал с солдатами, воспоминая случаи, где они пренебрегали окапываться и страдали через это.
Признаюсь, я до сих пор не знаю – была назначена Радецким общая атака обоих отрядов на этот день или нет? Если да, то, конечно, на Михаиле Дмитриевиче лежала известная доля ответственности за то, что он не спустил с гор весь отряд к назначенному времени, хотя это и оказалось материально невозможным; коли же нет, то, напротив, ответственность на том отряде, который атаковал, не будучи уверенным в том, что Скобелев в состоянии поддержать их, что он уже успел спуститься.
Видя крайнюю нервность Скобелева, я предложил ему послать сейчас же одного из ординарцев к Радецкому с донесением о том, что сделано и что предстояло сделать завтра, а также для испрошения инструкций, если бы таковые имелись, – это должно было хоть занять, успокоить его.
– Да невозможно съездить теперь к Радецкому и воротиться до утра, – ответил он.
– Напротив, я уверен, что возможно; пошлите Дукмасова, он бравый малый; скажите ему, что к утру завтрашнего дня он должен воротиться. Исполнит – дайте ему крест; не исполнит – под арест.
Скобелев согласился.
Я отыскал Дукмасова, сказал ему, чтобы он приготовился немедленно ехать через горы, и этот донец-молодец, не сморгнувши, пошел «справляться». Сказать правду, в 16–17 часов два раза переехать через Балканы, да еще подняться на Шипку к Радецкому и спуститься оттуда, и все это по ужасной дороге, сплошь запруженной войсками – была штука нелегкая, однако, Дукмасов исполнил это.
Ночевать мы воротились в Иметли. Вдоль линии неприятельских позиций, на местах бывшего расположения наших войск, ярко горели костры, держа в беспокойств турок.
В деревне оказалось много сена, но жилыми помещениями она была не богата, так как большая часть домов была разрушена. На беду мою, конный болгарин, которого мне дали и у которого убили на рекогносцировке лошадь, наскучив, вероятно, таскать мои вещи, либо продал, либо бросил их, и пропал сам. У него были мой бинокль, револьвер и другие нужные походные принадлежности. Особенно жалко мне было револьвера, как одной из немногих вещей, доставшихся мне после убитого под Плевной брата моего Сергея.
Долго бродил я по деревне между кострами в поисках болгарина – аж измучился. Усталый и голодный пошел в избу, отведенную для Скобелева.
– Нет дома.
Побродивши еще, снова зашел.
– Все еще не приходил.
Ну, думаю, дождусь, иначе совсем плохо, есть нечего.
– Теперь должно быть скоро будет, – говорил казак его, – ужин готов.
У меня слюнки текли..
Вот должно быть и он; слышны у калитки шаги; в страшной темноте Скобелев наткнулся на казака и, должно быть, под влиянием недовольства сегодняшним днем, ударил его так сильно, что тот с ног слетел.
– Что ты мне под ноги лезешь, скотина.
Потом, разглядевши меня:
– Это кто тут такой? Ах, это вы, Василий Васильевич. – Ну, извини, голубчик, – продолжал Михаил Дмитриевич, обращаясь к казаку, – поцелуй меня, не сердись!.. Пойдемте, Василий Васильевич, поболтаем за ужином. Эй! дайте бутылку шампанского.
Пьяницей Скобелев никогда не был, но шампанское очень любил, пожалуй, даже слишком, и дядя его, всесильный тогда граф Адлерберг, снабжал его иногда ящиками такого хорошего вина, о каком мы могли только мечтать и грезить. В Плевне, помню, он уверял, что уже допиваем последние бутылки, что через горы он не потащит ни одной, но, очевидно, это была только военная хитрость – так как нашлась еще заветная бутылочка, а завтра, если турки будут основательно побиты, найдется, вероятно, и еще одна. Собеседник мой был, однако, смущен, во-первых, думаю, неотвязною мыслью о том, что он не успел атаковать сегодня турок и что его обвинят в намерении провалить Мирского, а во-вторых, и тем отчасти, что я был невольным свидетелем того, как ни за что, ни про что полетел с ног бедный казак. Так разговор наш и вертелся опять более на неразумности атаки с малыми силами, на предположениях о том, что было сегодня в другом отряде и проч.
Я не знал, где приютиться в эту ночь и очень обрадовался, когда нечаянно набрел на избушку, занятую ординарцами Скобелева. У них был разведен огромный огонь в камине; на полу, вповалку, мы отлично выспались.
Вся молодежь, окружавшая Скобелева, была далеко не модная, но она была хорошо обстреляна, невзыскательна и ежедневно порхала и летала через всевозможные опасности – истинно боевая молодежь.
На следующий день я встал до света и сейчас же поехал на передовую линию в сопровождении казака, которого, по распоряжению Скобелева, дали мне из Донского полка, так как мой кубанец все еще «справлялся» и не являлся. Было сыро, стоял туман, кругом догорали солдатские костры. Скобелев что-то не торопился начинать дела, может быть, дожидался Дукмасова с Шипки от Радецкого. Уже совсем рассветало, когда я въехал на один из курганов вместе с Харановым, ординарцем Скобелева, для наблюдения за неприятелем. Бравый товарищ мой, осетинский офицер, не был расположен к писанию, почему я доносил генералу время от времени на лоскутках записной книжки о том, что мы перед собою замечали в движениях неприятеля.
Снизу мгла поднялась уже, и деревня Шейнова с турецкими редутами и траншеями ясно открылась, но Шипка и все горы были все еще наполовину в облаках. В это время, как и всю ночь, у нас в долине и наверху на Шипке то и дело раздавались одиночные выстрелы, когда чаще, когда реже, но вяло, нехотя, без увлечения, – очевидно, с обеих сторон ждали, готовились.
Скоро с другой стороны деревни Шейнова перестрелка стала усиливаться, – у того отряда, должно быть, снова завязывалось дело; у нас все еще было смирно.
Немало посмеялись мы с Харановым над нашим страхом быть отрезанными от отряда, а пожалуй, и захваченными в плен. Нас было только 3–4 человека и мы были очень далеко впереди своих. Когда туман еще не поднялся, мы заметили 10 или 12 черных предметов, выделившихся из линии турецкой кавалерии и приблизившихся к нам; вот они остановились, по-видимому, осмотрелись и затем дружно, шеренгою направились далее наперерез нашему сообщению с отрядом. Мы уже приготовились отступать, чтобы не дать себя отрезать, когда туман рассеялся и оказалось, что предполагаемые враги, казавшиеся во мгле внушительными, большущими, были здоровенные собаки, рыскавшие за остатками солдатских ужинов. Хорошо, что я не приписал Скобелеву в записке: «партия черкесов отделилась от цепи и направилась…» и проч. Вот бы засмеял он нас после; а смеялся он звонко, громко, с каким-то прихрипом: кхе-кхе-кхе-кхе!
В том отряде перестрелка очень усилилась – очевидно, опять разгоралась сильная битва. Я только что написал и послал генералу предложение сделать поиск к стороне Шейнова для отвлечения сил неприятеля, как показался вдали генеральский значок, а вскоре прискакал казак от Скобелева: он приказал нам отойти, – и начал бой.
Из больших орудий так-таки и не притащили ни одного. Говорят, болгарское ополчение, перетаскивавшее их, выбилось из сил, но ничего не могло поделать. Я продолжаю думать, однако, что оно боялось за этою неблагодарною для него работою опоздать к решительному бою, почему и не довершило начатого дела, и что у Гурко ногтями ли, зубами ли, орудия были бы доставлены. Пришлось опять ограничиться горными пушченками. Зато кавалерия спустилась вся, т. е. полк московских драгун, полк петербургских уланов и 2 полка донцов; из пехоты – стрелковая бригада, болгарское ополчение и все полки 16 дивизии: Углицкий, Казанский, Суздальский, Владимирский – хорошие полки, знакомые Скобелеву по Плевненским битвам.
Два последних, как особенно пострадавшие под Плевною, отдыхали, стояли в резерве.
Теперь отряд был в сборе; сегодня была уверенность в силе, а следовательно и в успехе – сегодня разговор начался иной.
Первыми пошли в атаку стрелковая бригада и болгарское ополчение – на правое крыло турок. Поднялась страшная трескотня: ура! ура! ура! Аллах! Аллах!..
В это время подъехал Дукмасов, подбоченясь, с улыбочкою, но с сильно подбитою, почерневшею физиономией, – это он с размаха треснулся на перевале о дерево.
– Радецкий совершенно одобряет все, что я сделал, – сказал мне Скобелев, показывая только что полученную записку.
Лицо его при этом сияло искренним удовольствием.
– Вот видите! – ответил я ему.
…Пока шла атака правого фланга турок, кавалерия наша была отправлена в обход левого, наперерез их сообщению с Казанлыком. Тут прежде всего сказалась выгода того, что в дело были пущены все силы отряда; даже в лучшем случае накануне турки только отступили бы, так как не было кавалерии, чтобы отрезать им путь. Сегодня же им предстояло или разбить, отогнать нас, или сдаться, потому что идти назад было нельзя: там были наши драгуны, уланы и казаки. Тем временем масса раненых тянулась от нашего левого крыла, пошедшего в атаку; число их делалось все больше и больше; вот уже отходят целыми кучками… Что это? Смотрю и глазам своим не верю: вон десятки, сотни, сначала пятятся, потом поворачиваются… отступают… Весь отряд отступает – нет сомнения, наши отбиты!
– Михаил Дмитриевич! – говорю, – ведь наши отбиты начисто!
Не отводя глаз от бинокля, Скобелев так и впился в место битвы.
– Это бывает, – ответил он как-то странно шутливо.
Он вызвал немедленно Панютина с Углицким полком.
– С Богом, проходите вперед, я дам знать, когда начинать.
– Слушаюсь-с, – ответил тот, молча снял шапку, перекрестился; молча снял шапки и перекрестился следом за командиром весь полк.
Как я заметил уже раньше, у Панютина давно чесались руки, поэтому он не заставил два раза повторять приказание – так и зашагал.
– Жидов сюда, – скомандовал Скобелев – это значило: «музыку сюда», так как большинство музыкантов обыкновенно из евреев.
Под музыку, равняясь как на ученье, с развернутыми знаменами прошли вперед углицкие батальоны, весело отвечая на приветствие генерала.
– Если отобьют Панютина, я сам поведу войска, – сказал Скобелев, снова занявшийся биноклем.
Мне приходилось быть во многих сражениях, но, признаюсь, никогда еще не доводилось видеть такой стройной, правильной атаки: «Долина Роз» приняла вид «Царицына луга» в день смотра: наступавшие шли под звуки маршей, в резервных полках играли «Боже Царя Храни» и «Коль славен». Только один батальон из резервов, шедших занять место атаковавших, нес знамя в чехле, – я подъехал и приказал развернуть знамя.
– По чьему приказанию? – спросил адъютант.
– Генерала Скобелева.
Михаил Дмитриевич уверял потом, что он был умница в этот день, держался вне огня, но, очевидно, это надобно было понимать относительно: нас просто обсыпало гранатами. Турки стреляли сначала по резервам, но потом заметили нашу группу, и с полдюжины гранат ударилось так близко от Скобелева, что он потерял терпение и сердито закричал на столпившихся около него казаков с лошадьми:
– Да разойдитесь вы, черт бы вас побрал, перебьют вас всех, дураков!
Неутомимый граф Келлер, уехавший куда-то распоряжаться, долго не возвращался и мне пришлось написать несколько приказаний Скобелева, – чистое наказание. Помню, что он велел переменить заключительную фразу записки, посланной начальнику кавалерии, генералу Дохтурову, написанную в смысле совета действовать решительнее. Побудило меня написать эту фразу то, что на наших глазах одна из кавалерийских колонн от удара в середину ее гранаты шарахнулась в сторону и затем приуменьшила шаг.
– Это старый генерал, – сказал мне Скобелев, – я не могу так писать ему.
Еще помню, что в записке к генералу Мирскому я забыл выставить число и час, за что хозяин рассердился на меня. Кстати подъехал граф Келлер.
– Что это вас никогда нет, – обрушился на него Скобелев, – пишите скорее…
Я рад был, что дешево отделался, и принялся рисовать – это было мне сподручнее.
Панютин был уже впереди, но еще не начинал решительной атаки и Скобелев послал ординарца с приказанием начать штурм. Стоя в это время близко, я прибавил: «Да скажите, чтобы резервы держал недалеко!» Генерал опять осерчал:
– Да, Василий Васильевич, ведь не учить же людей, когда они идут в огонь!
«А почему бы и нет? – думалось мне. – Учить не учить, а посоветовать…»
Много позже, год спустя, когда я ездил снова в Болгарию, встретился мне в Шейнове стрелковый офицер, капитан Кашталинский, имевший репутацию очень храброго и распорядительного. Я спросил его, почему они были отбиты, – он отвечал буквально: «потому что резервы были далеко; солдаты пошли очень хорошо, но, встретивши сильный отпор, оглянулись, видят: поддержка далеко – и пошатнулись».
Панютин пошел храбро; сохраняя порядок, подошел он к турецким траншеям на близкое расстояние, не стреляя, только временами приказывая своим людям ложиться.
– Смотрите на Панютина! Михаил Дмитриевич, – говорю Скобелеву, – как славно он идет, он совсем молодцом!
– Я вам скажу, – ответил Скобелев, отнявши на минуту бинокль от глаз и поворачиваясь, – «Панютин – это бурная душа!»
Так и вижу милого Скобелева в сюртуке и пальто нараспашку, как он, широко расставив ноги, – сабля, отброшенная наотмах, – следит в бинокль за ходом битвы. Временами, не переменяя позы, отдает приказания или, когда делается очень жарко, т. е. по нем начинают крепко стрелять, снова посылает «к черту» жмущихся в кучку казаков с лошадьми; значок его крепко привлекает выстрелы – и значок послан «к черту».
Перед нами синею полосою рисовалась дубовая роща, в которой расположена деревня Шейнова; оттуда поминутно показывались отдельные дымки орудийных выстрелов и стлался сплошной дым ружейных. Налево тяжелые белесоватые тучи застилали верхнюю половину всех гор, в том числе и Шипки; с той стороны тоже слышался теперь гул орудий и трескотня ружей: очевидно, Радецкий решился-таки атаковать с фронта.
Я сделал набросок поля битвы, наметил места турецких орудий, место штаба Скобелева и проч. Пока я писал, помню, осколок гранаты, уже потерявши отчасти силу, но еще способный перебить ногу, катился по направлению к моему стулу; я смотрел на него и загадывал, докатится или не докатится? Докатился и остановился у самых ног – любезно! Осколок этот хранится у меня.
В поддержку угличанам Скобелев послал казанцев, которые должны были ударить левее Панютина в центр турок.
– С Богом, братцы, да пленных не брать!
– Рады стараться, ваше превосходительство.
«Пленных не брать» в переводе на обыкновенный язык значит: «колоть всех без пощады».
Я напомнил Скобелеву эту фразу на другой день.
– Зачем вы это сказали?
– Да будто я это сказал? – спросил он с удивлением. Очевидно, фраза эта просто сорвалась у него с языка, но туркам от нее не поздоровилось.
Угличане, а за ними казанцы совершенно выбили неприятеля из траншей и редутов, – казанцы довершили работу первых. Панютин, взявши в руки знамя, сам вел солдат и, конечно, он своей отвагой в значительной мере решил участь сражения.
Замечательно, что тот же самый полк, здесь ни на минуту не замявшийся, шедший вперед, ложившийся, снова шедший вперед, снова ложившийся, как на учении, – под Плевною, предводительствуемый N. N., как засел в виноградниках, так и не вышел из них – до такой степени храбрость солдат зависит от храбрости командира.
Было очевидно, что битва выиграна. Скобелев сделался менее нервен, смеялся, шутил. Когда подошел Столетов, я шепнул Скобелеву, чтобы он помирился с ним, и Михаил Дмитриевич протянул руку: «ну, помиримся, ну, не сердитесь»… Хотя старик и упирался сначала, но в конце концов «превосходительства» обнялись и поцеловались.
Дело в том, что еще во время атаки болгар Столетов, подошедший к Скобелеву с каким-то замечанием, услышал от него вместо ответа: «подите прочь от меня!» Я совсем поражен был такою необычайною резкостью и спросил, что это значить; за что это?
– А за то, – отвечал Скобелев, – что он не на месте: коли его часть идет в атаку, так его место там, а не здесь, около меня; я этого не люблю…
Но более всего попало за время этого сражения от скобелевского сердца приятелю моему Немировичу-Данченко. Воротившись от атакующих, не успел он обратиться с чем-то к генералу, как тот освирепел:
– Василий Иванович, пожалуйста, уйдите прочь!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.