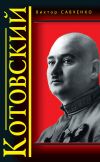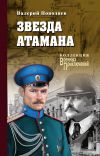Текст книги "Казачья старина"

Автор книги: Вениамин Апраксин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В хуторе Ольховка была кузница, владельцем ее был сын Якова Петровича Багреева Михаил Яковлевич. Обстоятельства появления этой кузницы таковы. В 1928 году в восточном конце хутора – Митрошачьем углу Михаил Яковлевич у кубанки Маши купил себе сделанную по кубанскому образцу камышовую хатку. Владея кузнечным ремеслом, Михаил Яковлевич выше хаты через хуторскую дорогу сложил каменную кузню и с 1929 года стал ковать в ней сперва для населения, а с началом коллективизации – и для колхоза. Но так как в колхозе в то время платили мало, а детей у него было много, то Михаил Яковлевич в 1931 году бросил кузницу, продал хату Акимцевым, себе купил в Поповке дом у Котлярова-Богачка и перешел с семьей туда. Колхозу в его Ольховскую кузницу ездить было несподручно – далеко, и в середине хутора он сделал свою. А Багреева кузня со временем развалилась, камень разобрали жители, и доныне на ее месте видны ямы и камни-голыши.
В хуторе Грушевом из иногородних жили Расщепины (их дразнили Расщерепины, у нас они стали Рощины) – по окрестным хуторам нанимались пасти скотину, жили в землянке; Лихобабины – из этой семьи Яков Семенович Лихобабин работал в хуторе Поповке в Савичевом магазине; и братья Кузьмины: Иван Тарасович и Николай Тарасович – сапожники и красильщики.
В хуторе Глухове Федосеевской станицы жили: Павел Бахмутов и трое его сыновей – плотники и столяры; чеботарь Дмитрий Никифорович Прокопов и Коновалов. Он ездил по хуторам и собирал кошек, тряпки, мослы…
В хуторах Кузнечинском и Блинковском жили Ковалевы, Токаревы, Андрей Максимов, владелец хуторского ветряка. Уроженка и жительница хутора Кузнечинского Анна Андреевна Гришина рассказала, что «кирпичи и горшки в Кузнецах в Першовой балке делали приезжие воронежские хохлы Войтенковы. У них был верблюд, на нем они глину и песок возили». У Анны Андреевны сохранился пятнадцатилитровый горшок, где хранили яйца.
В хуторе Лутковском жил брат Андрея Максимова Яков, по прозвищу Яшка-рушаль, человек-богатырь, завзятый кулачник. Прозвище имел за то, что был владельцем просорушки, кроме нее на Белой горке имел свой ветряк.
В хуторе Кривском Зоткинской станицы жило две семьи иногородних, родственных ныне живущим в хуторе Блинковом Токаревым.
И тем не менее, несмотря на рукомесленность до революции жизнь проживавших в хуторах и станицах иногородних была тяжелой. Казаки их не жаловали, смотрели свысока, при каждом удобном случае старались унизить, оскорбить, а то и избить. Все это являлось следствием того, что у казаков, из поколения в поколение ходили слухи, будто бы хохлы рано или поздно отнимут у них землю. Казаки этого боялись, вот почему, если хохлы стояли на квартире и не смогли заплатить, то хозяин-казак выгонял их или заставлял отрабатывать. Те, кто изъявлял желание поселиться, чаще всего покупали себе жилье с рук, готовое. Правда, строиться им разрешали, но деловой древесины на постройки сход не давал и они вынуждены были покупать ее за наличные деньги в Займище и Дубраве. Земли иногородним не только под посевы зерновых, но даже под огороды (под грядку огурцов!) не давали; а если загородят хату – два саженя вокруг – то налог с квадратного саженя, так что землю они также покупали, точнее, арендовали. Топили иногородние большей частью кизяками, так как топки им тоже не давали, а если кто хотел запастись к зиме дровами, то опять-таки надобно было покупать их за деньги в государственных лесах. На хуторские сходки иногородних не приглашали; если заводили скот (чаще всего одну корову), хуторской сход облагал их денежным налогом. «До сих пор, – вспоминает об этом Е. Я. Багреев, – не забыл притеснений, чинимых к иногородним. Каждый год наше подворье измеряла группа понятых, возможно, полицейских, чтобы узнать, не прибавил ли мой отец Яков Петрович Багреев территорию подворья на сажень-два, и дополнительно обложить его налогом. Каждый год отец платил три рубля за выпас коровы на казачьей траве за хутором. И хоть работали в нашей семье все от мала до велика, хоть отец и был хороший коваль, но все равно с деньгами было всегда туго. Хорошо помню: отец в течение ряда лет не мог погасить тринадцать рублей кредитного долга хуторскому купцу Савичеву».
Зачастую некоторые иногородние, жившие в нашем крае, чтобы свести концы с концами, нанимались сами или отдавали детей в батраки к кулакам и зажиточным хозяевам или священнослужителям. Например, священник поповской Вознесенской церкви Николай Капитонович Попов кроме работников Баранова и Кулюшкина постоянно держал нанятых горничную и кухарку.
С весны некоторая часть иногородних, чтобы прокормиться, шли или посылали своих детей в пастухи. Тот же Е. Я. Багреев вспоминает: «Я начал свою трудовую деятельность у ростовщика Савватея Егоровича Филина – пас индюшек, за что он насыпал мне в картуз куски сахара. И еще. На хуторе Поповом евсеевский житель Баксаров имел двухэтажный дом, позади дома Скорикова, под крышей белой жести. Здесь он и члены его семьи бывали периодически – на праздновании престольного дня Вознесения, Пасхи, Рождества Христова, Троицы. В их хозяйстве были волы, кони, коровы и отара овец. В одно лето я пас их овец и простудился. Старик Баксаров заплатил мне три рубля. Когда я принес деньги отцу, он сказал: «Мне не надобно, купи себе балалайку». Я купил очень хорошую балалайку, впоследствии узнал, что она ходила по хутору пятьдесят лет».
Читатель, наверное, заметил, что в ходе повествования я писал о смешанных браках. Я. П. Багреев из Дударевки взял в жены казачку Машу, у них было одиннадцать детей, дед и отец Чекменевы также женились на казачках, ольховский казак Василий Селиверстович Попов взял в жены хохлушку, имел с ней 13 детей, иногородние Баранов и Кулюшкин женились на казачках и т. д. Замечу, что сочетаться браком с иногородними в нашем крае считалось позором – «Позор головушке» – как говорила моя теща Л. Н. Зоткина, но такие бракосочетания случались. Интересно, что если хохол женился на казачке, то она становилась хохлушкой; если казак женился на хохлушке, то она делалась «казачкой». Если муж-казак умирал, то она, если имела с ним детей, пользовалась всем паем, а если детей не было, то полпаем.
Иногородние юноши, подлежавшие призыву в царскую армию, уходили на службу раньше казаков на год: по исполнении двадцати лет, наступлении двадцати одного года. В отличие от казаков иногородние ничего к службе не готовили: ни коня, ни обмундирования, ни шашки. Их провожали пешими, все снаряжение, что на нем, и все. Попадали они в основном в пехоту, там им давали все казенное обмундирование. Служили они, как и казаки, по три года, после службы им оставляли обмундирование, в нем они и возвращались домой.
Рассказывая об иногородних, нельзя обойти и такой факт, что они в хуторах и станицах, невзирая на возраст и рукомесло, всегда жили не только в постоянной борьбе за честно заработанный кусок хлеба, но и в постоянном страхе за свою жизнь. Тревога их была обоснована. Ведь казаки, пуская иногородних на жительство, опасались, что те только и ждут часа, чтобы забрать казачью землю, лишить их всех прав, а самих казаков изгнать, поэтому и относились к иногородним враждебно, унижали, травили, насмехались, издевались, а при случае даже применяли и рукоприкладство; более того, многие казаки иногородних не считали даже и за людей. «Как мне хотелось играть с казачатами, – вздыхает и ныне Е. И. Чекменев, – но только подойдешь, начинают дразниться, лупить и кидаться чем попало». Редко кого из иногородних казаки звали по имени-отчеству: в глаза и за глаза погоняли прозвищами: Багреевы – Ковалевы, Глуховы – Бечевниковы, Иван Кондратов – Ванька-кот, или Ванька-Немченков, Яков Максимов – Яшка-Рушаль, Андрей Набатников – Андрюха-большак, а многих просто звали «хохлами». Если иногородний наденет казачью фуражку с кокардой, штаны с лампасами и попадается на улице на глаза атаману, тот не преминет сказать своим: «Ну-ка дайте ему!» Казаки тут же изорвут одежду в клочья, вдобавок и «фонарей» наставят; зачастую казаки чинили самосудмордобойство и без указки атамана. Яркой картиной всему этому служат воспоминания старожилов.
Грушевский житель Петро Андреевич нанял человек пять-шесть иногородних класть стену. Через некоторое время подошел и глядит, опершись на чекмарь (палка с утолщением на конце, если кинешь, далеко летит, поэтому ее так и называли «летунок»). Хохлы дюже не стараются подгонять камень к камню: кладут глину толсто, а на такой слой ведь любой камень ляжет – зато потом дожди враз вымоют глину и камень начнет вываливаться. Вдобавок к этому и сама стена у них кособокая получается. Пронаблюдал Петро Андреевич, что хохлы кладут стену абы как, подходит к старшему и молчком – хлоп его чекмарем по лбу. Тот и вытянулся. Тем же чекмарем Петро Андреевич и остальных загнал в угол и давай охаживать. Вдосталь намял им бока и, сказав, чтобы и духа не было, ушел. А хохлы – какой лежит, какой сидит, стонут от побоев. Отошел один и говорит другому: «Пойди к атаману, пожалься». Тот кряхтя, поднялся, пошел. Атаманом в это время был свояк Петра Андреевича Федор Григорьевич Апраксин. После визита хохла приходит он к Петру Андреевичу и говорит: «Ну че ж ты людей отлупил?» – «Каких людей?» – не понял Петро Андреевич. «Ну какие тебе стену ложили». – «А, хохлов! – Петро Андреевич аж поперхнулся и, считая этот разговор никчемным, потряс волосатым пальцем перед атаманом и сквозь зубы произнес: – Запомни, Федор Григорьевич, что я тебе скажу. Бей их, пока наша. Я-то уж не доживу, но придет время, и вы пропали: сядут хохлы вам на шею, ноги свесят да еще и погонять будут. Вот так». Сказал это Петро Андреевич, повернулся и, опираясь на чекмарь, пошел. Долго глядел ему во след Федор Григорьевич, но так ничего и не сказал.
Или еще старики припоминают такой случай. Едет по ольховской хуторской дороге казак верхом, а навстречу над подворьем В. С. Попова хохол идет. Поздоровался последний, а шапку, как в обычае тогда было, не снял. Казак сразу за плетку и давай пороть его. На крик выскочил за ворота В. С. Попов и хотел отбить. «Ты че делаешь?» – закричал верховому. Тот: «А это же хохол. Ишь, поганец, идет и шапку не ломает». С помощью Попова еле хохол вырвался и бежал по дороге, пока не скрылся.
Пренебрежительное, я бы даже сказал презрительное, отношение к иногородним породило в среде казаков немало пословиц, унижающих по своей сути человеческое достоинство: «хохол взад умен», «мужик и свинья – одна семья», «живет, как хохол на квартире», «упрямый, как хохол», «при деле и хохол пляшет», «хохол без лычки, что бумага без печати», «еврей долго плакал, когда хохол народился», «казак хохлу не товарищ» и другие.
Несмотря на чинимые притеснения, а от этого и некоторую замкнутость, иногородние не озлобились, с непостижимым упорством боролись за свое существование на земле, чутко реагируя на все события страны. Неудивительно, что победа Октябрьской революции явилась для иногородних переломным этапом и они восприняли ее всей душой. Тревога за судьбу молодого советского государства не оставила их равнодушными и в дальнейшем. Особенно это наглядно проявилось в годы Гражданской войны, когда белые оккупировали наше Захоперье. Мобилизовывая казаков в свои ряды, белые офицеры предъявили жесткие требования к иногородним. «Те из вас, кто вступит в нашу армию, – ораторствовали белые на хуторских митингам, – будут приняты в «казачество», и в дальнейшем станут пользоваться всеми правами казаков. В противном случае вас будут выселять с донской земли».
Посулам белых поддались единицы (среди них З. А. Кулюшкин, Феофан Котляров и др.), подавляющее же большинство иногородних перешли в ряды Красной Армии и беззаветно служили делу революции. Среди них: Е. Я. Багреев, Г. Н. Кащенко, братья Котляровы – Аристарх и Феофан, братья Прокоповы – Дмитрий, Федор и Петро, И. Я. Баранов (х. Попов); из станицы Федосеевской Александр Аксенов и другие. Некоторые из иногородних отдали за советскую власть свои жизни, например, братья Лазаренко.
Советская власть в нашем крае твердо установилась только к началу 1920 года. Но сразу же с 1920 по 1922 год повсюду в стране, в том числе и в нашем крае, разразился страшный голод. Если раньше иногородние всегда или почти всегда работали за деньги, то в голодовку – в основном за продукты.
Многие из иногородних, жившие до этого в Саломатиной, Федоровой и ее ражке Апраксиной балках, чтобы прокормиться, начинают переходить на постоянное местожительство в хутора, в том числе и наши. У читателя сложится мнение, что иногородние в голодные годы, казалось бы, были на более привилегированном положении, чем казачество, то такое понятие будет ошибочным: и среди иногородних известно немало случаев со смертельным исходом от истощения. Для примера можно назвать семью Кулюшкина. Предоставляю слово Ивану Викторовичу Апраксину.
«С революции у Зота Арефьевича было уже много детей. Надо сказать, что воспитанием их хозяин занимался мало: они больше жили и батрачили по людям. С начала 20-х, особенно в 1921–1922 голодных годах, чтобы не пропасть с голоду, батрачить начала вся семья Кулюшкина. В это время на них обрушились одна беда за другой. От голода умер их первый сын Федор (точнее, девичий сын жены). Их второй сын – Семен (1906 г. р.) пристроился молотобойцем в кузню Я. П. Багреева или В. И. Левицкого, отличался сноровкой и понятливостью в кузнечном деле. Ко всему прочему приспособился разряжать артиллерийские снаряды, оставшиеся у нас со времен Гражданской войны. Это была не его прихоть, баловство или простое любопытство. В гильзах-стаканах люди приспособились толочь, точнее, шелушить толкачом (шворень из повозки) просо, пшеницу, ячмень, тыквенные и подсолнечные семечки. С разрядкой удачно шло до поры до времени. Но однажды в Ольховке у Храповых во время свадьбы или поминок Семен стал разряжать подвернувшийся артиллерийский снаряд, и тот неожиданно взорвался у него в руках. Неподалеку было много детворы, но никто сильно не пострадал. Семену же оторвало руку, выбило глаза, всю грудь изрешетило картечью. Смертельно раненный, истекающий кровью, Семен ползал и валялся там с обеда и до вечера. Больниц и врачей тогда не было. К месту происшествия собрались люди, еле ходившие от голода. Большинство горевали и соболезновали случившемуся, а некоторые так и говорили: «А, хохол, туда и дорога». Подойти, чтобы оказать какую-нибудь помощь Семену, люди боялись: рядом с ним валялась половина стакана – гильзы, и все опасались очередного взрыва. Только к вечеру Парфен Львович Кондрашов из-за угла хлева выкатил палкой остаток гильзы, и тут все убедились, что он пустой и, стало быть, неопасный. Когда сообщили родителям, мать упала в обморок, а сам Зот Арефьевич, придя к Храповым, нашел Семена уже мертвым.
Пожил Кулюшкин недолго. Весной 1922 года кому-то он что-то сделал, за работу ему дали немного пшеницы или проса. Дома ее сварили, Зот Арефьевич с голодухи поел и, помучившись нутром, тут же умер. Его жена с оставшимися детьми куда-то разбрелись с сумой по миру, и ныне из этой семьи никто в хуторе не живет».
Но, несмотря на царившие повсюду голод, хаос и разруху, советская власть именно в этот период сделала иногородних полноправными гражданами страны – это сразу круто изменило их былое существование. В чем это заключалось? Всем иногородним без исключения стали выделять лес для постройки, дрова для отопления и, главное, они получили наконец землю. Дележ земли на душу всему населению начали производить у нас сразу с весны 1920 года, но в связи с голодом, отсутствием тягла и семян, это мероприятие длилось несколько лет.
Вот как происходил передел земли, по воспоминанию уроженца хутора Блинковского Георгия Ивановича Кузнечикова (1909 г. р.) в хуторах Блинковском и Кузнецах.
«В 1922 году, в связи с нормальными условиями, год выдался более благоприятный. Но на посев зерновых семян не было, сеяли в большинстве просо. Просо уродилось очень хорошее. Голод отступил, люди повеселели. Начали вновь делить землю. Делили не по паям, как раньше, а на душу.
На передел земли пришли иногородние, которые до революции не имели права посадить на казачьей земле даже лунку огурцов. И вот на переделе начался спор. Кто говорит «дать хохлам земли», а кто, в основном кулачье, говорят «не давать». Стали персонально обсуждать Ковалевых. Тут кулаки говорят: «Ковалевым надо дать земли, так как они приняты в «казаки», а Токаревым не давать земли, так как они не защищали Дон».
Мне в то время было двенадцать лет, но, по-видимому, в политике уже разбирался. И меня заело, почему Токаревым не хотят дать земли? Я и высказал вслух свою мысль: «Почему вы говорите, что Ковалевым дать земли? Потому что они перебегли на сторону вешенцев и вешенцы их приняли в «казаки»? Так пусть им вешенцы и дают земли за Черным морем! А Токаревым земли дать!»
В это время ко мне сзади подбежал зажиточный казак, кулак Степан Ларионович Ульянов и ударил меня лопатой по горбу с такой силой, что я не устоял на ногах. Но y меня нашлись защитники, молодые ребята Платон Иванович Кузьмин и Тимофей Константинович Карев, между прочим, последний происходил из кулацкой семьи. Карев так засветил Ульянову, что тот раза три перевернулся. Тут между кулаками, середняками и бедняками началась драка. Вся молодежь во главе с Каревым пошла против кулаков. На этом закончился дележ земли.
Землю делили спустя неделю. Но меня мать не пустила на дележ, а пошла сама. На дележе присутствовал председатель хуторского совета Евсеев Федор Иванович. В этот раз дележ прошел в мирной обстановке. Землю дали и иногородним, в том числе и Токаревым, в этом, я считал, есть и моя победа».
Но все равно классовое расслоение, складывавшееся веками, трудно было переделать сразу, поэтому отношение к иногородним оставалось на уровне дореволюционного периода еще долгое время. Иногородних продолжали унижать даже перед коллективизацией не только взрослые, но и дети. Вот что по этому случаю рассказал мне И. Т. Саломатин.
«Примерно в 1928 году мы, ребятишки, часто ходили из Ольховки играть в Поповку. Перейдем луг с полкилометра – и там. Однажды со своим сверстником Федором Ульяновым я пришел туда опять. Собралась там нас в этот раз орда – человек десять, если не больше. Заводилой у нас был горбатый инвалид Федька Сиволобов, его сверстники не принимали играть, так он, несмотря на то, что был лет на пять-шесть старше нас, водился с нами. На этот раз Федька и говорит: «Вон к Березневым приехали хохлы-горшечники, пойдем их бить».
А как мы, восьми-десятилетние ребятишки, их будем бить, я и представления не имел. Но все же пошли, по дороге каждый запасся палкой. Помню, стемнело. Подходим к огромному круглому с низами дому (этот дом сгорел в 1933 г.). Видим, за воротами лошади хохлацкие, огромные толстоногие тяжеловозы, спутанные ходят. Во дворе повозки с горшками стоят. В доме наверху – свет от лампы, и из раскрытого окна несется песня.
Мы с робостью подошли к дому. Федька, как летучая мышь, – прыг! на завалинку, пригнулся и прилепился к раскрытому окну. Его не видать было из комнаты, потому что на подоконнике стояли цветы: герань и липка. Сквозь них Федька разглядел: неподалеку от окна стоял стол, заставленный бутылками и снедью, а вокруг него сидели загулявшие хохлы и орали какую-то песню, без лада, склада, кто кого резче. До сих пор помню слова: «Шогель, шогель, плащ да одеялице…» (Шинель, шинель, плащ да одеяло…).
От песни аж стекла в окнах дрожали, задрожали от страха и мы. Но Федька, кажется, на это и внимания не обращал. Поманил нас рукой и шепотом велел нам приготовиться. Потом недолго думая он сунул руку сквозь цветы, схватил самого ближнего сидящего к нам спиной хохла за бороду и начал поворачивать к окну. Хохол опешил, бросил петь и захотел вырваться. Федька видит, что одной рукой не в силах удержать, вцепился и другой, а коленками уперся в подоконник. Тянул с такой силой, что приподнял хохла со стула, уже и голову начал вытягивать в окно. Тут уж все хохлы бросили петь, не поймут в чем дело, что такое с их земляком случилось. А тот уперся руками в оконные нагонки и дурняком заорал: «Ратуйте, люди, ратуйте! (т. е. «спасите»).
Мы оробели вконец, не знаем, что делать. А Федька уже не коленками, а прямо ступнями уперся в белую стену, изогнулся дугой и, вцепившись в бороду, продолжал тянуть что есть мочи хохла наружу. Хохол орет без перерыва, его дружки что-то балабонят в хате, а Федька, пыхтя, уже начал переваливать его через подоконник. Загремели вниз цветочные горшки. По всему хутору забрехали собаки, зафыркали лошади. Вот-вот жмякнулся бы хохол наземь и мы должны лупить его, но в этот момент хозяйка догадалась потушить лампу. Вмиг в хате стало темно, окно без цветов оголилось и, побоявшись, что его опознают, Федька разжал пальцы и кубарем слетел с завалинки. Еще быстрее, кажется, исчезла в окне борода орущего хохла. В хате поднялся невообразимый галдеж, крик, тут же захлопали двери в доме. Ждать хохлов мы не стали: кто через ворота, кто через плетень ахнули со двора и стремглав бросились прочь. Отбежали порядочно и остановились. Сзади ни разговору, ни тем более песен не слыхать. И света не видать в доме, и погони никакой не слышно. Лишь всполошенные собаки долго еще перекликались по хутору.
На другой день мы все боялись, что нас, и в особенности Федьку, хохлы запомнили, но минул день-другой, и никто нас не тронул. А вскоре мы узнали, что хохлы-горшечники и совсем уехали из хутора».
И подобных унижений не счесть. Но иногородние, чувствуя, что советская власть за них, всячески отстаивали свои права; порой их действия приобретали смешной оттенок, но за всем этим крылась подспудная расплата за многолетние обиды и притеснения. Для наглядности приведу один эпизод, который – случись в старые времена – мог окончиться трудно предсказуемыми последствиями. Вспоминает Е. И. Чекменев.
«Завзятый кулачник, вышеупомянутый Яков Максимов – Яшка-рушаль и еще несколько иногородних, бывало, пропьются на рябовском базаре и, чтобы разжиться деньжатами, проделывают такую «комедию». Из двух-трех ряднов делают балаган – они называли его «театр» – за какую-то плату зазывают на «представление». Люди выстраиваются в очередь, ведь всем интересно посмотреть интересный номер. Заходят в «театр» по одному, а там – впотьмах – ждет их Яшка и сразу как заедет кулачищем по шее, с другого бока напарник добавит. «Зритель» моментом вылетает из балагана в противоположную дверь. «Ну как, интересно?» – спрашивают его столпившиеся люди. «Очень интересно, заходи» – отвечает, а сам за шею держится. Этот еще не успел отойти, а там уж следующий посетитель из «театра» выскакивает, иные – кубарем. Старается Яшка со своими друзьями, аж пот пробил. А очереди желающих посмотреть «представление», «спектаклю» и конца не видать. Одного выпроводят, а там уж другой лезет. Так, бывало, чуть не весь базар эти «артисты» пропустят через свой «театр», и никто от стыда не скажет, что за свои деньги еще и по шее получил».
Остались в памяти иногородних и последствия голодных 30-х годов. Рассказывает И. Т. Саломатин:
«Два года ходил я в колхоз на разные работы. Тут уж колхоз платить понемногу стал, мы вроде наедаться начали, по крайней мере, голодовать перестали. А в соседней Воронежской области голод еще продолжался. На памяти от той поры мне особенно запомнился случай, происшедший весной 1936 года.
Уж откуда в наш колхоз завезли семена клещевины, не знаю, но привезли и заставили меня на пару с Андреяном Ивановичем Кузнечиковым сеять ее. До этого мы клещевину сроду не видали, нас лишь предупредили, что это масличная культура идет на технические масла и в пищу она не годится. Сеяли клещевину выше курника – на быках – я ходил за сеялкой, а Андреян Иванович водил быков и следил за тем, чтобы не оставлять огрехов и была прямолинейность.
В обедах, глядим, идут два хохла – они, как и по старинке, все еще бродили и при колхозах. Подходят.
– Ну че ж, казаки, сеем? – спрашивают.
– Сеем, – говорит Кузнечиков как старший.
– А это че ж такое, бобы, что ли?
– Не видите разве – бобы, – отвечает Андреян Иванович.
– А слушай, казак, можно горстки две взять?
– Фу, да что нам их жалко, что ли, хучь карман, сумку возьмите.
Насыпали, пошли, Кузнечиков только усмехнулся им вслед. Уж сколько они отошли, а голодные были, не вытерпели – сырьем кусанули клещевину. До тракторного отряда четыре километра было, только к вечеру туда приползли. Кто там был рассказывали: лежат пластом, стонут.
– Дайте водички? – просят.
– А че такое? – спрашивают трактористы.
– Да вот шли мы, а казак с парнем сеют. Мы спросили: «Че сеете?» Они говорят: «Бобы». Мы у них попросили немного, они дали нам. Мы съели по десятку, и начались то рвота, то понос. То у верх – то у низ, то у верх – то у низ. Зеленью прет, аж желудки повывернуло, и штаны уж не застегаем – в руках несем. Теперь вот выгорает все внутри, дайте водички?
Трактористы догадались:
– А, это Андреян подшутил над вами: ведь это не бобы, а клещевина. Вы отравились.
А подвозчица харчей говорит:
– Вы молочка им дайте, молочка.
Нашлось молоко. Хохлы только выпьют, а их вновь тошнит, аж молоко сворачивается. Опять пьют и опять блюют. Всю ночь болели, с утра еще целый день отлеживались – еле оклемались.
Когда Андреяну кое-кто стал говорить, что, мол, людей чуть не потравил, он удивленно спросил:
– Каких людей?
– Да хохлов.
– Хм! Хохлы и… люди. Придумают же, фу! – плюнул и пошел.
А та клещевина, что мы с ним сеяли, не вызрела и больше ее колхоз сеять не стал».
Иногородние, наверное, так бы и остались, мастеровыми, владельцами кустарных предприятий и лавок, если бы не коллективизация. Владельцев кустарных предприятий и лавочников выселили, их имущество перешло в колхозы, в потребкооперации. Подавляющая масса иногородних без колебаний сразу же вступили в сельхозартели – они поняли, что только коллективный труд позволит им выкарабкаться из вековечной нужды. Для многих из них без боязни за национальность открылись широкие возможности проявить свой талант на ответственных и руководящих должностях, так нужных в то время молодой стране Советов. Наглядный пример тому – биография Е. И. Чекменева. До 1930 года, как я писал выше, он работал в хозяйстве своего отца, портняжил, считался по его выражению «кустарем-одиночкой». Но начиная со службы жизнь его стала круто меняться. В 1932 году, в армии, он вступил в члены ВКП(б). В 1933 году, после демобилизации, работал в станице Букановской весовщиком и парторгом. В 1935 году при организации Подтелковского района, перешел работать продавцом слащевского книготорга, а потом до 1939 года заведующим. Перед войной работал счетоводом в Слащевской средней школе, инструктором РК ВКП(б) в районе и инструктором орготдела. В период Великой Отечественной войны – трудовая оборона, начиная от донского Калача и до Вешек. В 1943 году был мобилизован в совхоз им. Молотова Краснодарского края, там заболел туберкулезом и по состоянию здоровья был комиссован. С 1953 года – пенсионер местного значения. Сам Емельян Иосифович был активным участником михайловского казачьего хора. Жили супруги Чекменевы обеспеченно, ладно, дорожили друг другом.
Или взять биографию И. Я. Баранова. Тоже неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы не советская власть. В 1920-х годах он вступил в Коммунистическую партию. В годы коллективизации считался одним из главных активистов по раскулачиванию. До самой Великой Отечественной войны работал в колхозе им. 1 Мая бригадным поваром, в Поповке. До 50-х годов был бессменным заседателем нарсуда. Характеризуя его в целом, Е. Я. Багреев пишет: «В Гражданскую войну и последующее время Баранов своими убеждениями и поступками показал себя преданным большевистской партии и советской власти. Такие труженики, как он, составляют гордость социалистического общества».
Евгений Яковлевич Багреев (копия из биографии): «После Гражданской войны я выполнял разную работу. Формировал с товарищами первые Советы на хуторах станицы Федосеевской, инспектировал по поручению окружного отдела народного образования (Верхнедонской округ, центр – станица Вешенская) школы ликбезов. С 1921 по 1925 год был на руководящей комсомольской работе в станицах Вешенской и Морозовской, в городах Пятигорске и Нальчике. С 1924 года стал членом РКП(б). С 1925 по 1955 год работал в газетах в качестве заместителя и редактора (города Нальчик, Майкоп, Новороссийск, Баталпашинск, Сочи, Таганрог, Свердловск). С 1939 по 1955 год работал заместителем главного редактора газеты «Уральский рабочий». Неоднократно избирался в партийные комитеты, в городские и областной Советы депутатов трудящихся. После годичной учебы в Академии общественных наук при ЦК КПСС перешел на преподавательскую работу в Уральский государственный университет (факультет журналистики), где преподавал теорию журналистики в качестве исполняющего обязанности доцента. С 1958 года персональный пенсионер республиканского, а с 1968 года союзного значения. В Отечественной войне не участвовал (был оставлен в редакции «Уральский рабочий» по правительственной брони). Имею награды: орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета» и восемь медалей, одна из них за участие в Гражданской войне». (Умер в 1987 г. в городе Свердловске, где и жил.)
Дмитрий Никифорович Прокопов. Е. Л. Багреев писал: «Хуторской сапожник Д. Н. Прокопов был безупречным в работе, в исполнении долга перед революцией. Я хорошо знал его характер, так как учился у него сапожному ремеслу до поступления в Кумылженское двуклассное училище. Этот человек обладал умом, твердой волей. Бедняцкая жизнь подсказала ему единственно верный путь – идти за большевиками. Всю Гражданскую воину воевал в рядах Красной Армии. После возвращения был избран первым председателем ревкома на хуторе Глуховом». В 1929–1930 годах был заведующим Филинской мельницей, затем несколько раз избирался председателем Поповского сельсовета, а также несколько раз избирался председателем колхоза им. 1 Мая. В 1935 году был избран председателем сельсовета, некоторое время был бригадиром того же колхоза им. 1 Мая. Перед Великой Отечественной войной от сельпо был кольцевым сборщиком и отправщиком яиц от магазинов, понемногу занимался сапожничеством и заготовкой кожсырья (тоже от сельпо).
Григорий Никитич Кащенко в 1922 году после демобилизации из Красной Армии попал в город Ростов. Там его назначили заведующим детской колонией, неподалеку от станицы Морозовской. Но по состоянию здоровья был вскоре освобожден и Верхнедонским наробразом назначен заведующим школой в хуторе Базки (возле Вешек). В 1928 году Кащенко переехал в хутор Попов и стал работать учителем, с 1930 по 1934 год заведующий этой школой. Но здоровье ухудшалось, и он оставил эту должность и до 1936 года работал учителем математики. Кроме этого, выполнял общественную работу: распространял облигации госзаймов, делал доклады на антирелигиозные и другие темы. В 1936 году умер от туберкулеза, похоронен в центре хутора Попова, у школы, в братской могиле, над которой ныне возвышается обелиск.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?