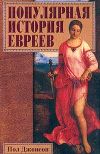Текст книги "Когда поёт жаворонок"

Автор книги: Виктор Бычков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
– Ой, как интересно! – девушка даже забыла, где находится и что привело её на это ржаное поле. – Расскажи, Ванечка.
– Папа мой Назар Назарович Прошкин работал на руднике кузнецом, а мама работала в колхозе.
Ваня покусывал травинку, рассказывал. Девушка с интересом слушала.
– Поля были небольшими, клочками, лоскутками на пологих склонах сопок и у подножий гор. Однако и рожь, и пшеница родили. Вот мы и помогали взрослым с детства.
За разговорами время летело незаметно, и не таким жарким казалось солнце.
– Папа был очень хорошим кузнецом, его все ценили, на каждый революционный праздник дарили подарки, – с гордостью рассказывал Иван. – Но он сам не был доволен собой. Ему хотелось большего, а не только ковать подковы для лошадей да чинить кирки для рудокопов. Прослышал, что в Барнауле на заводы требуются кузнецы. Сначала уехал один, а потом и нас с мамой через полгода забрал к себе. Вот так я стал городским жителем, хотя поселились в бараках на окраине Барнаула. Есть там улица Сельскохозяйственная. А это почти что та же самая деревня. Потом у нас появился свой домик-насыпушка, свой огородишко.
Однажды папа возвращался с ночной смены под утро домой, но до дома так и не дошел: остановилось сердце в двух шагах от калитки, – Прошкин замолчал, лёг на спину, положив руки под голову, смотрел в небо.
Гиля лежала рядом, не смея нарушить тишину, ждала продолжения рассказа, но не торопила.
– Знаешь, я с детства мечтал стать лётчиком. Таким, как Чкалов, – Ваня повернул голову к девушке. Мягкая застенчивая улыбка коснулась губ, сделала лицо по-детски трогательным, чистым.
– Помнишь предвоенные занятия, лозунги, призывы?
– Да, – кивнула головой Гиля.
– «Комсомольцы – на самолёт!». Мне больше всего хотелось в авиацию, быть как Чкалов или как Водопьянов, спасать челюскинцев, – рассказчик опять застенчиво улыбнулся. – Записался в аэроклуб, прыгал с парашютом. А вот в лётное училище не приняли.
– Почему? – искренне удивилась девушка.
– Не прошел комиссию. Что-то нашли в моём вестибулярном аппарате. В голове, то есть, – пояснил Ваня. – В авиацию нельзя, а в пехоту – можно. Вот я и подал документы в пехотное училище. В любом случае хотел связать свою судьбу с Красной армией.
– Ну-у её, эту авиацию, – Гиля то ли успокаивала парня, то ли на самом деле говорила искренне. – И высоко, и страшно. Я так и не смогла прыгнуть даже с парашютной вышки, хотя вся наша группа в медицинском институте прыгала не только с вышки, но и с самолёта. А я страсть как боялась. Так и не смогла прыгнуть. Все смеялись надо мной. А я ничего поделать с собой не могла. Видно, я трусиха, – подвела итог девчонка.
– Ага, трусиха, я и поверил, – Иван в очередной раз посмотрел на Гилю, вдруг вспомнив её появление изо рва. – Никакая ты не трусиха, ты – молодец!
– Скажешь тоже, – застеснялась девушка.
– Зато меня до армии наградили значком «Ворошиловский стрелок», вот! – вдруг похвастался Ваня. – Я очень серьёзно занимался в стрелковом клубе. И в военном училище всегда завоёвывал призовые места по стрельбе.
Оба замолчали, каждый погруженный в свои мысли.
Где-то по дороге протарахтела телега, проехали обратно с хутора немецкие машины и мотоциклы.
Вся мокрая и красная от жары проснулась Хая. Из-за леса долетел приглушенный взрыв, и опять всё затихло. Лишь в небе пролетели в сторону Москвы немецкие самолёты.
Глава 4
Бобруйск оставался в стороне. Желание зайти в город к дяде Давиду отпало само собой.
Вышли к реке Березина.
В пути к этому времени находились около двух недель.
Поизносились. И чувство голода не покидало, было болезненным, навязчивым, постоянным. Всегда в первую очередь старались кормить Хаю, а уж сами – как придётся.
Несколько раз Прошкин делал вылазки в деревни в поисках продуктов. После случая на Находкином хуторе вместе заходить не решались: Гиля с девочкой оставались где-нибудь в укромном месте, ждали Ивана, а он шел на свой страх и риск. Чаще хоть что-то давали, но были случаи, когда отказывали в грубой форме.
– Самим есть нечего, а тут ходят разные, попрошайничают. Читай, что про таких, как ты пишут, – и тыкали в лицо немецкие листовки, где было указано, что за помощь красноармейцам – смерть.
Но Прошкин в таких случаях не обижался. Понять людей можно. Иван и сам не раз находил такие листовки, чего уж.
Однако, кушать что-то надо было.
В последнее время лейтенант приспособился воровать с огородов то картошку, то лук с молодыми огурцами. А ещё было много колхозных полей. Они выручали чаще всего. И помогал лес, который не только укрывал их, но и изобиловал грибами, ягодой.
Уходили в чащу, разводили небольшой костерок из сухих веток, запекали картошку в углях, а грибы насаживали на прутики, тоже ели жареными. При первой возможности старались варить похлебку в котелке. Использовали в таком случае сворованную картошку, лук, укроп, впускали щепотку соли, добавляли собранные в лесу грибы. Ели сами, кормили горячим ребёнка. Все сало, что дала на хуторах хозяйка, оставили Хае, выдавали ей по небольшому кусочку. Она зажимала в кулачок, долго жевала беззубым ртом, но зато в такие моменты не плакала, была полностью увлечена этим занятием, утоляла голод. Сухари тоже хранили для неё. Постоянно наготове была соска с размоченными сухарями. Она всегда выручала, когда надо было соблюдать полную тишину, не выдать себя неосторожным звуком.
Несколько раз встречали одиночек и группы красноармейцев, которые пробирались за линию фронта. Оборванные, голодные и злые, они ни в какую не соглашались брать в свою компанию лейтенанта Прошкина с Гилей и маленькой Хаей.
Вот и сегодня ранним утром наткнулись на боевое охранение очередной организованной группы красноармейцев.
– Ты извини, лейтенант, – старший группы раненный в руку капитан-артиллерист отвел Прошкина в сторону, говорил, стараясь не глядеть в глаза. – У тебя это получается, вот и действуй. Тебя возьмем с удовольствием. Сам знаешь, что активный штык в нашем деле не помешает. А вот девчонку с ребенком – уволь. Я все прекрасно понимаю, но…
– Но… – Прошкин сделал попытку убедить капитан, однако тот прервал его:
– И не спорь, лейтенант. Да, знаю, что стыдно. Только ты уж сам, сам. А нам надо быстрее к своим, за линию фронта, чтобы вместе… так сказать. Не обессудь, не обижайся, но такова жестокая реальность. Не до жалости.
Гиля и раньше догадывалась о таких разговорах, но не расспрашивала Ваню, надеялась, если посчитает нужным, то расскажет. Однако тревога опять поселилась в сердце: вдруг сманят красноармейцы, заберут с собой, и он ее бросит, оставит. В такие минуты с тревогой заглядывала в глаза Ивану, стараясь по ним определить, узнать его мысли, решения.
– В случае чего, Ваня, ты помоги мне только добраться до Борков, что на той стороне Березины, а там я найду Павла Петровича Дрогунова, папиного сокурсника по институту, и все уладится, – она на всякий случай пыталась подстраховать себя.
– Ты опять за старое, родная моя? – Ваня прижимал Гилю, гладил, целовал доверчивые, полные надежды глаза девчонки. – Как ты такое можешь думать после того, что между нами произошло? Как я вас после этого брошу? Я же люблю тебя, Гилячка! Я же вас люблю!
Она в такие минуты была благодарна этому… этому… и не находила других слов, кроме «милому-премилому» Ванечке! Ведь, по большому счёту, он если и не заменил расстрелянных родных людей, то уж, во всяком случае, стал таковым: родным, любимым, надёжным. Спасителем, наконец. А иметь рядом такого человека, как Ваня в это страшное время – чего ещё желать можно? Сам Господь послал его ей и маленькой Хае. Не окажись в ту минуту в овраге лейтенанта Прошкина – что сталось бы с ребёнком, с Гилей? Даже страшно подумать.
Иногда корила себя, ругала последними словами, что вдруг поддалась эмоциям, вверила, отдала всю себя малознакомому человеку. И это в то время, когда погибли все ее родные, когда сама чудом спаслась, вылезла из могилы, когда вокруг столько смертей, крови, горя и страданий. Какая может быть в таких условиях любовь? Кровь, смерть и любовь – разве могут они соседствовать, идти рядом? Хотя понимала, что время, которое она провела вместе с Ваней, те мытарства, что выпали на их долю, заменят многие годы знакомства. И неизвестно, что ждёт их в будущем. И есть ли оно у них, то будущее.
– А и пусть! – в отчаяние махала рукой девушка. – Я люблю! И будь, что будет!
…На день остановились на лугу в небольших зарослях кустарника. Березина была рядом, уже была видна излучина реки.
– Жди меня здесь, – Иван собирался на разведку местности.
Надо было отыскать место переправы, да и подумать, на чем переправляться. Лейтенант для себя уже решил, что лучше всего подойдет камыш. Это растение показал Ивану помощник командира взвода Анатолий Иванович Сизов ещё на второй день отступления, когда впервые пришлось переправляться через узкую, но очень глубокую речушку.
Пористый, словно пробковое дерево, камыш-ситник в связке великолепно держал на воде груз. Присутствовал он почти на всех водоёмах, которые приходилось преодолевать лейтенанту. Наверняка такой камыш будет и на берегу Березины. Вот только потребуется его для этой цели достаточно много. Гиля-то плавать не умеет. Если бы только для ребенка, так и проблем бы не было. Небольшой поплавок из камыша сделать несложно, а сами бы толкали его перед собой и все. Поэтому надо хороший плотик. Надежный.
Вдоль берега реки, повторяя все изгибы и повороты, бежит, извивается грунтовая дорога. По хорошо накатанным колеям Иван понял, что она достаточно загруженная, что ей пользуются часто.
Мысленно корил себя, что поторопился, не понаблюдал, не разведал обстановку, а сразу притащился к берегу реки.
– Лучше поздно, чем… – ироничная улыбка застыла на обветренном лице лейтенанта.
На всякий случай сместился к подлеску, что огибал луг и подходил почти к самой реке. Пожалел, что ночью вышли не на него, а на луг с кустарниками. Все-таки надежней было бы укрыться на день там, в лесу. Но уже поздно.
Солнце пригревало, легкий ветерок колыхал прибрежный аир. Береговые ласточки носились над водой, стрекозы нехотя перелетали с одного стебелька на другой.
После непродолжительного поиска обнаружил чуть впереди у заводи камыш, тот самый камыш-ситник густой стеной отгородил речку от обрывистого берега. Вот только подступиться к нему будет трудно – спуск к воде очень крутой. Надо искать другое место.
Уже привстал на колени, чтобы оглядеться, как звуки машин насторожили Прошкина. Переметнувшись через дорогу, залег за развесистый, заросший густой высокой травой куст лозы, внимательно наблюдал, как медленно, поднимая густые серые клубы пыли, со стороны города ехали три автомашины с солдатами в кузовах. Пыльные облака сносило ветром через реку в сторону заливных лугов.
Иван решил уйти ещё дальше от дороги в заросли кустарника, но было уже поздно: машины остановились, и из них на землю высыпали солдаты, громко хохоча и разговаривая, разбрелись по кустам, по берегу реки. Видно было, что остановились «до ветру».
Лейтенант в спешке залез под куст, затих, боясь неосторожным движением или звуком выдать себя. И вдруг увидел, как в его сторону направился немецкий солдат.
Иван притянул к себе винтовку, сам весь сжался, затаился, почти не дышал.
Немец остановился на той стороне куста, осмотрелся, снял автомат, ремень с подсумком и саперной лопаткой, ранец. Аккуратно сложил на землю амуницию, спустил штаны и расположился надолго, выставив зад почти в лицо Прошкину. Уже сидя, солдат чиркнул зажигалкой, прикурил сигарету.
Что толкнуло лейтенанта на этот поступок, он и впоследствии не мог точно сказать. Это было непродуманное, спонтанное, в высшей степени эмоциональное действо.
Но в тот момент, совершенно забыв об опасности, приподнялся, удобней ухватив винтовку, с силой вогнал штык в согбенную спину врага. Целил под левую лопатку.
Тяжело, с сипением выдохнув, немец сразу обмяк, завалился набок.
Привстав на колени, Прошкин внимательно огляделся, оценивая обстановку. Только после этого закинул на спину рюкзак, автомат повесил на шею, подпоясался ремнем с подсумком, не забыл и про зажигалку
Ухватив противника за воротник, пятясь, поволок труп подальше в кусты. Уже там снял сапоги с убитого, обулся сам.
Немцы хватились своего товарища, когда лейтенант был на полпути к лесу.
Оглянувшись, Прошкин увидел, как, растянувшись цепью, солдаты шли в направлении луга, кустов, туда, где дожидаются Гиля с ребенком. Прочёсывали местность.
Решение созрело мгновенно: поднялся во весь рост, выстрелил в сторону врага и уже открыто, беспрестанно петляя, пустился к лесу, уводя его подальше от луга, от кустов.
Противник сразу же кинулся в погоню за ним, стреляя на ходу.
На опушке леса Иван почувствовал себя в относительной безопасности. Встав за дерево, укрепил винтовку в рогатине сука, успокоил дыхание, выбрал цель, тщательно прицелился, плавно нажал на курок.
Сделав несколько выстрелов, кинулся дальше в лес. Ещё пропетляв в нём какое-то время, убедившись, что немцы уехали, вернулся к своим.
Гилю с ребёнком застал на том же месте, где и расстались.
Растрепанные волосы, этот взгляд отчаявшихся, напуганных глаз больно ранили Ивана. Только теперь стал осознавать, что довелось перенести, выдержать ей пока он бегал по лесу. Ведь все это было у нее на глазах. Волнение и тревога девушки передались малышке, она плакала, и даже соска не могла успокоить.
– Я как увидела, что немцы в нашу сторону идут, чуть сознание не потеряла. А потом эта погоня за тобой… Как на зло, Хая раскапризничалась. Хорошо, что не услышали, а то бы…
– Не поверишь, – оправдывался Прошкин. – Сам не знаю, как получилось. Эта задница у моего лица. Толстая, жирная… не стерпел. Ну-у, нельзя же так. Извини, пожалуйста, моя хорошая. Зато посмотри, что принес! – Иван принялся доставать трофеи из ранца, выкладывать на траве.
– Во! Давно мечтал завладеть такой штуковиной, – лейтенант с гордостью тряс отнятым у немецкого солдата оружием. – С первых дней войны нам попадались отдельные немецкие части, которые были вооружены автоматами. Хотя все остальные воюют винтовками. А автомат… в ближнем бою цены ему нет. Теперь нам сам чёрт не страшен.
Однако спутница не оценила достоинства оружия, обратив больше внимания на продукты.
Мыло, галеты, две банки тушенки, две банки консервированных сосисок, флакон мужского одеколона, чистые полотенца пополнили скудные запасы странников.
– А ты у нас герой, лейтенант Прошкин, – довольная улыбка блуждала по лицу девушки. – Только больше не рискуй, хорошо? – она уже забыла те страхи, которые только что претерпела, наблюдая из кустов за Иваном.
Успокоилась сама и, успокоив ребенка, принялась по-хозяйски раскладывать продукты, мысленно определяя кому, когда и сколько перепадет в следующий раз. Решила, что им с Ваней достаточно будет и печеной картошки, что приготовили еще прошлой ночью в лесу. Если с солью, то вообще ничего. Ну, а малышка сегодня обойдется салом, можно еще дать пару галет. Пускай точит зубки, тем более, уже начали расти. Обожает, когда ее освободят от пеленок, гулять на солнышке голенькой. Пытается сама сесть, смешно болтать ручками-ножками. Но, к сожалению, таких мгновений было очень мало, все больше запеленатая, с тряпичной соской во рту. И как будто понимает, что от нее требуется: плачет нечасто, а только кряхтит, выдавая свое недовольство. Глазки испуганные, взгляд тревожный. Старушка, а не ребенок.
Любит, когда в редкие минуты Ваня держит на руках. Тогда вся так и светится, так и тянется к нему. Гиля даже ревнует.
Березину преодолели вместе с группой красноармейцев во главе с майором. На них натолкнулись в тот же вечер, когда Прошкин отправился искать место переправы.
– Нет, лейтенант, и не упрашивай, – майор был непреклонен. – Переправиться поможем, а дальше – уволь. У нас боевое подразделение, а ты – с дитем. Хочешь – идем с нами. А девчонку с ребенком пристрой где-нибудь в деревне. Не пропадут.
– Пропадут, товарищ майор, я знаю. Они же евреи.
– Вон оно что! Нам попадались листовки, где предлагалось выдавать комиссаров, коммунистов, красноармейцев и евреев. Видишь, они в одном списке с нами проходят как враги фашистов. И всё равно ничем тебе помочь не можем.
– Вы листовки находили, а я был свидетелем, как расстреливали толпу евреев, около сотни человек. Потому и оставить не могу, совесть не позволит, – Прошкин уже перестал обижаться на служивых и где-то глубоко в душе даже понимал их.
– Не дави на мозоль, лейтенант! Не хуже тебя совесть мучает. Только сейчас война идёт. Страшная, да ты и сам знаешь. И смертью ты никого не удивишь и не разжалобишь. Жестоко? Да. А для нас девчонка с ребёнком будут обузой. Знаешь, скольких мы уже видели? И все к своим пробираются. Жалко, до слёз жалко. Вот только что мы можем сделать? А так доберёмся до своих, кровь и сопли утрём, перегруппируемся, погоним немца обратно в Германию. Вот это будет самая настоящая и нужная помощь для таких, как твои спутницы. Так что, лейтенант, не взыщи.
Говорил точь-в-точь как капитан прошлой ночью.
– Может, всё-таки… – не сдавался Прошкин.
– Считай, что получил приказ командования сопроводить данную еврейскую семью за линию фронта. Самостоятельно, лейтенант. Вот и выполняй приказ!
– Я и без приказа это сделаю, чего уж там.
– Вот и хорошо. Где так вооружился? – заметив немецкий автомат и ранец за плечами Прошкина, поинтересовался майор. – Нашел, что ли?
– Нет, немцы подарили, – с обидой в голосе произнёс Иван. – Потом всей ротой бежали следом, все предлагали еще взять. Пришлось уложить четверых из винтовки, чтобы отвязались, да чтобы вам завидно не было.
– Отчаянный ты парень, лейтенант, да жаль, что не хочешь с нами.
– Это вы не хотите. Может, передумаете? Мы обузой не будем, – все еще надеялся Прошкин.
– Все! Разговор окончен.
Следующую ночь после переправы шли вместе с красноармейцами. Только перед рассветом те свернули на другую просеку, попрощались. Тогда же у майора на карте нашел деревню Борки и потом пробирались к ней, особо не плутая по лесам, а зная точное направление и расстояние.
Если днем было тепло, солнечно, то по ночам становилось прохладно, росно. Особенно под утро.
У Ивана долго не было обуви, шёл босиком, пока не снял сапоги с убитого немца. А Гиле еще на той стороне Березины в какой-то лесной деревеньке увел лейтенант с забора резиновые боты. Правда, размер большой, но зато ногам тепло, сухо. Вот только тёплой одежды не было.
Для ребенка насобирали тряпок, вроде не мёрзнет. На ночь кладут Хаю между собой, греют с двух сторон. А Гиле холодно. Да и Прошкину тоже не очень комфортно. Греются в движении или когда в лесной чаще разжигают костерок. Но это бывает редко, все больше ночами идут, днем отдыхают, намечают направление на очередной переход.
То, чего девушка боялась больше всего, случилось: заболела Хая. Высокая температура не проходила вот уже вторые сутки. В придачу ко всему сильно болел животик. Ребенок корчился, сжимаясь в комок в редкие минуты отдыха, когда лежал распеленатым. И плакал. Плакал, не переставая, с надрывом, до сипоты. И начал таять на глазах. Из подвижной, шустрой, крепенькой девочка превращалась в худенькое болезненное существо, на которое и смотреть-то было больно.
Если для Ивана детские болячки были тайною за семью печатями, то для его спутницы – привычным делом. Выросшая в семье потомственных врачей и окончившая один курс медицинского института, она понимала, что помочь ребенку, спасти его может только дипломированный специалист, и то при наличии медикаментов и соответствующих условий.
Но это лес. И они в лесу.
– Ваня! Ванечка! – умоляла Гиля, глядя на угасающую племянницу. – Прошу тебя, ну придумай же что-нибудь! Я не переживу, я не выдержу, Ванечка! Спаси ее, заклинаю! Это единственный человечек, который связывает меня с прошлым. Это моя родная кровь.
Прошкин сидел на стволе поваленного дерева, обхватив голову руками, думал. Думал о том, что ему надо спасать в первую очередь Гилю. Как только заболел ребенок, девушку будто подменили: куда подевались ее рассудительность, практичность, оптимизм, мужество, наконец, что не покидали все это время. Отчаяние перерастало в панику. Кажется, еще чуть-чуть, и она потеряет контроль над собой.
Понимал, что потерять самообладание, трезвый рассудок что в бою, что в иной трудной ситуации равносильно поражению или даже смерти.
Само собой, приди в чувства Гиля, она сразу же займётся ребёнком, вспомнит всё, что делали её родители-врачи, чему её учили в медицинском институте. И пусть она пока ещё не знает глубоко медицину, но уж первичные знания у неё есть. И она бы смогла их применить.
Но вот только как привести в чувство девушку, Иван не понимал. Будь здесь солдаты, он знал бы, что делать, какую команду и каким тоном отдать, чтобы был выполнен приказ.
Не повышать же на девчонку голос?! Но как, как заставить её вспомнить, сосредоточиться? Может, лаской?
– Ты только не отчаивайся, девочка моя, – Иван присел рядом, прижал к себе Гилю. – Самое главное – не терять рассудок. Тебе это должно быть известно не хуже, чем мне. Напрягись, сосредоточься, вспомни, наверное, можно лечить еще каким-нибудь способом, без лекарств? Там отвары какие-то, примочки?
– Нет, не могу вспомнить. Ничего не идет на ум, – жалобно произнесла Гиля. – Умом понимаю, а ничего поделать с собой не могу. Вся надежда на тебя, Ванечка.
– Вот что, – лейтенант решительно встал, накинул на плечи ранец, повесил автомат на шею, закинул за спину винтовку. – Хватит лить слезы и петь заупокойную! Идем к людям! Пошли! – приказал девушке. – На людях это… красна, а не то что…
Она безропотно подчинилась, полностью доверившись Ивану.
– У нас в деревне не всегда был врач, однако как-то рожался народ, лечился, – уже на ходу лейтенант излагал план по лечению Хаи. – Найдем людей, спасем ребенка, ты только не расстраивайся. И ещё я слышал или читал где-то, что настроение матери передаётся ребёнку. Ты хотя и не мать, но заменяешь её для Хаи. Так что, держи себя в руках ради ребёнка.
Бережно прижимая больную Хаю, Гиля почти бежала за Иваном.
Лесная просека обогнула болотце, вывела путников на большую, наезженную дорогу. Секунду-другую Прошкин размышлял, определял в какую сторону идти, и направился влево, туда, где сквозь вершины сосен просматривался просвет.
Довольно большая деревня подковообразно, одной улицей примыкала к лесу.
Крайним оказался низенький домишко под соломенной крышей, с огородом, кое-как огороженный плетнем, с копной сена у плетня. А ещё коза, привязанная к столбику, мирно паслась на облоге. Ничего не говорило, что вокруг идет война, гибнут люди.
– Будьте здесь, – лейтенант усадил своих спутниц под густой вишней, что росла на краю огорода. – Если что – уходите. Ждите меня не больше часа у развилки дорог в лесу. Потом сама добирайся до Борков. По моим подсчетам, твоя деревня где-то рядом, недалеко. Уходи строго на восток, не ошибёшься.
– Ваня! Ты так страшно говоришь, что я уже боюсь. Мы будем ждать здесь!
Оставив Гилю с девочкой под вишней, сам направился к хате.
– Мир вашему дому! – поздоровался Прошкин, стоя на пороге. – Есть кто живой?
– Есть, есть, что кричишь? – вслед за ним вошла пожилая женщина, грубо отодвинула в сторону, окинула недоверчивым взглядом незваного гостя. – Есть люди, только вот ты кто будешь?
– Я это… – лейтенант немножко опешил от такого приема. – Я это… к своим пробираюсь, – наконец смог внятно ответить.
– Вижу, что к своим. А вот мы тогда чьи? Может, чужие для вас? Нас на кого покидаете, бегунки? Почитай, каждую ночь бегут, вояки. Не могли, что ли, собраться вместе да поднатужиться, выстоять против врага? – женщина сложила руки на животе, скорбно поджала губы.
Прошкину расхотелось говорить про больного ребенка. Собрался, было, уходить и уже взялся за дверную ручку, но его остановила хозяйка.
– Ну и куда же ты, обидчивый? Надо было обижаться на немцев, а не на нас, сестер да матерей ваших. Вишь, обиделся! Сколько вас? Может, еще что-нибудь соберу на дорогу? – произнесла примирительно. – Почти все раздала таким как ты.
– Спасибо, спасибо вам, только речь не обо мне, – замялся Ваня. – Я не один, вы правы, мать. Только это не солдаты, а женщина с больным ребенком. Нам бы доктора, если можно, – закончил жалобно.
– Выходит, семьями убегаете?
– Нет, вы не так поняли. Я их это… они случайно спаслись от расстрела, а я встретил. И вот сейчас помогаю им, вместе идём. А девочка заболела. Ей пять месяцев всего, а она по лесам с нами….– волнуясь, сказал Иван. – Ей бы доктора, чтобы посмотрел, лекарства там, то, сё…
– О-хо-хо, – горестно вздохнула женщина. – Что делается, что делается на свете, прости Господи.
– Так я не понял, – робко начал лейтенант, – нам бы доктора…
– Тю-у, заморочил голову совсем! Веди своих беглянок. Врача не обещаю, но бабку Надежду Марковну Никулину вам доставлю. Подруга это моя.
– Она доктор?
– Дожидайтесь меня в хате. Я быстро, – не ответив гостю, бабушка вышла из дома и направилась вглубь деревни.
Прошкин вернулся к своим, но в дом не повел, а остались сидеть под вишней в высокой траве на всякий случай. После хутора Находкин стали осмотрительнее.
Хая даже не могла плакать, а лишь тяжело, со свистом дышала. Ввалившиеся глаза, посиневшее лицо, безвольное, обмякшее тельце. И Гиля, и Иван боялись смотреть в ее глаза: боль, страдание, обреченность, мольба о помощи – все это застыло в недетском взгляде ребенка. Видеть все это не было сил, сердца взрослых разрывались от этого взгляда. А всего сильней глушила обида, злость на самих себя за свою беспомощность, за неспособность хоть капельку, хоть чуть-чуть унять, уменьшить, взять на себя ее боль.
Девушка не спускала ребенка с рук, влажной тряпочкой протирала губы, шептала что-то на незнакомом Ване языке. По тону, по интонации он понимал, что это самые ласковые, самые хорошие слова.
И Гиля угасала вместе с ребенком.
Лейтенант искренне переживал за ставших родными людей и не знал, что предпринять, чем помочь. Все, что было в его силах, он сделал, осталось ждать и надеяться на везение, на счастливый случай.
– Эй, бегунки! – раздалось совсем близко. – Вы куда подевались?
– Здесь мы, здесь, мать, – откликнулся лейтенант.
– Идите за мной.
В избе обе женщины склонились над больным ребёнком.
– Ну, что, Марковна? – хозяйка то и дело заглядывала в глаза подруге. – Скажи что делать, так я мигом сделаю.
– Ставь воду кипятить в чугунке на загнёток, – распорядилась Надежда Марковна. – А сама беги до Власьевны. Там Дрогунов раненого солдатика лечить должон. Направь его сюда, ко мне. Скажи, Марковна просит. Срочно. Мол, ребятёнок очень плох. Скажи, мол, малютка. Он не откажет, – а сама тем временем продолжала ощупывать и осматривать больного ребенка.
– Как вы сказали, бабушка? – Гиля подалась вперед. – Вы сказали Дрогунов, бабушка?
– Дрогунов, Дрогунов, милочка! Павел Петрович Дрогунов. Это доктор наш, если что.
– Я его знаю, – девушка села на лавку у стенки, и счастливая улыбка впервые за последнее время озарила ее лицо. – Это друг моего папы! Лет десять назад мы гостили у него всей семьёй.
– Его все знают, – просто ответила старушка. – Такой он человек хороший, что его все знают, и всем он друг, и все его в гости приглашают, – добавила, немного помолчав.
Лейтенант, уронив голову на грудь, спал в углу избы под иконой. Первый раз за всё время странствия по лесам Белоруссии он выпустил оружие из рук. И автомат, и винтовка лежали на полу у ног офицера.
Женщины переговаривались шёпотом, боясь нарушить сон Ивана Прошкина.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.