Текст книги "Ностальжи. О времени, о жизни, о судьбе. Том I"
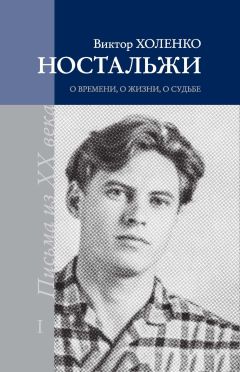
Автор книги: Виктор Холенко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
С давних пор я был убеждён, что помню себя примерно с двухлетнего возраста. Правда, должен оговориться, что в памяти моей ярко запечатлелись только два эпизода из той поры. Первый, это когда мама купала меня в ванной, завёрнутого в мягкую пелёнку, и нечаянно плеснула на грудь из ковша крутого кипятка. Как сейчас стоит перед глазами: глубокое оцинкованное корыто, в котором я сижу, притулёно на лавке к печке, и мама, напевая мне какую-то свою песенку, поливает меня из ковша тёплой водичкой. И вдруг меня пронзила острая горячая боль, и я закричал с перепугу: мама по ошибке зачерпнула из другой кастрюли, в которой был кипяток. Больше я ничего не помню из этого эпизода.
Может быть, эта картинка ожила в моём сознании лишь тогда, когда мама мне сама рассказала об этом случае позже, когда я уже в полной мере осознавал себя почти взрослым человеком: этот злополучный эпизод тоже отпечатался в её памяти, поскольку в тот самый вечер она, по её же словам, перепугалась страшно, не меньше меня самого. А у меня на груди возле солнечного сплетения почти до самой старости оставалось красноватое яйцевидное пятно. Только на восьмом десятке моих лет оно перестало угадываться чётко: был ли это след от того ожога или, как убеждала меня мама, родимое пятно от рождения, я так до сих пор и не уверен в этом. Я никак не мог вспомнить, например, другой эпизод из моей жизни, о котором любили с улыбкой напоминать мне родители: мол, в двухлетнем возрасте и в самый разгар январской или февральской камчатской пурги я через форточку вылез чуть ли не голышом прямо в наметённый за окном сугроб, поскольку летом там на грядке росла сладкая морковка, а мне вроде бы очень захотелось её в тот момент отведать. В то же время я очень хорошо помню, как такой же точно «подвиг» через несколько лет совершил мой братишка Борька, и ему тоже в ту пору было не больше двух лет. Впрочем, это неоспоримая истина: даже в таком почти пелёночном возрасте детишек нельзя ни на минуту оставлять без присмотра взрослых.
Примерно с семи-восьми лет, а, может быть, и с более раннего возраста, меня озадачивала одна и та же картинка, всплывающая в памяти не единожды и оставляющая уютное ощущение тепла солнечного света и радости открывающегося нового и ещё непонятного бытия. Видимо, это мне однажды приснилось: я не видел самого себя, но осознавал, что нахожусь в этом маленьком светлом помещении, пронизанном длинными солнечными лучами через большое и почему-то подрагивающее окно. Причём подрагивали и стены этого загадочного помещения, сделанные из желтоватых деревянных реек, покрытых каким-то блескучим янтарным глянцем. А потом вдруг в этой радостной солнечной идиллии пролились две или три мелодичные трели звонка, и видение оборвалось. Оно повторялось во сне ещё несколько раз в те ранние мои годы, пока не закрепилось в памяти окончательно и навсегда. Тогда я не мог найти объяснения этим странным видениям ни в прочитанных к тому времени ещё немногочисленных книжках, ни в кинофильмах, которые привозили в наше село всего два-три раза в год, ни на уроках в школе. А родителям я просто стеснялся рассказывать об этих своих повторяющихся время от времени сновидениях.
А ларчик, как говорится, открывался довольно просто: морозным утром в ноябре 1948 года на привокзальной площади Владивостока я впервые, как мне тогда ещё казалось, увидел трамвай и услышал его короткие трели звонков. Где и как я мог всё это видеть и запомнить, если на Камчатке, где я жил с рождения, никогда не ходили трамваи? Да и сейчас, кстати, в середине второго десятилетия их пока ещё нет, и вряд ли они там скоро появятся вообще. Ошарашенный этим событием, я рассказал тогда родителям, что ещё много лет тому назад, правда, во сне, уже ездил на таком трамвае. Папа с мамой переглянулись и, улыбаясь моему неведению, рассказали, что когда мне ещё не было и двух лет и тоже такой же осенью, они ездили со мной в отпуск в город Омск. Тогда с Камчатки на Большую землю или, как там говорили в те годы, на материк, самолёты с пассажирами ещё не летали, и надо было добираться до Владивостока пароходом (причём грузопассажирским и преимущественно в твиндеке трюма; на этих линиях чисто пассажирские пароходы, как, например, «Азия» и «Советский Союз», довоенной немецкой постройки, здесь появились только во второй половине XX века), а потом по железной дороге уже до Омска, сибирского города. А трамваи не только во Владивостоке, но и в Омске есть, и мы, как оказалось, втроём на трамвае не один раз ездили. Вот и вся разгадка: одна такая поездка, может быть, даже первая, всего-навсего, ярко впечатлила двухлетнего малыша и осталась в памяти навсегда.
А вот приближённо к пяти годам моей жизни память сохранила уже гораздо больше ярких эпизодов. И первый из них – наш переезд из Новой Тарьи, которая находилась в самой глубине акватории Авачинской губы – прямо напротив Петропавловска, в село Вилюй, расположенное к югу, за воротами этой губы, в подкове из причудливой гряды высоких сопок уже непосредственно на океанском берегу. В трёх милях от него из океанских вод поднимается там грутобокий горб острова Старичков с высоким острорёбрым кекуром с западной стороны, который местные жители называли Чаячьим камнем. По форме он напоминал огромный каменный наконечник, обломившегося с потерянного где-то древка копья и воткнутого каким-то древним воином-великаном за ненадобностью своим узким основанием в прибрежную полоску галечной косы недалеко от острова, нацелив остроконечное жало прямо в синее небо над морем. Таким я увидел его спустя несколько лет, когда впервые мой отец привёз меня ранним летом на этот остров, где работала в то время его рыбацкая бригада. С восторгом, задрав голову, я смотрел на этот гигантский каменный наконечник копья, над которым белокрылым облаком кружились плачущие чайки, и удивлялся, как же эта каменная громадина умудряется держаться на таком узком основании. Казалось, толкни его только чуток рукой, и исполин тут же рухнет в прозрачную воду, разогнав неугомонную стаю чаек над ним. Я даже прикоснулся ладонями к его шершавому боку и даванул ими, что было сил. Но замшелый кекур был незыблем.
– Напрасный труд, – рассмеялся отец. А потом предостерёг: – Ты под ноги лучше смотри!
Я тут же с опаской глянул под ноги, но ничего, кроме разноцветных галечных камней, там не увидел. А отец поднял один такой камушек, потом ещё и ещё. Снял кепку и стал их складывать в неё. Я тоже наклонился и поднял такой округлый бледно-зелёный и с чёрными пятнышками камень.
– Тут кругом чаячьи гнёзда, – развеял моё недоумение отец. – И не сразу их отличишь от настоящей гальки…
Так вот почему так плаксиво кричали над нами чайки, – вдруг осенило меня, – так вот почему этот камень-копьё называют здесь Чаячьим!
В этот день у рыбаков отцовской бригады было на ужин дополнительное блюдо – варёные чаячьи яйца. Но больше я на ту галечную косу у подножия Чаячьего камня уже не ходил…
Но всё это было потом, когда я уже стал настоящим старожилом в этом отдалённом от других жилых мест селе, когда уже знал наверняка, что южнее Вилюя и находящегося в шести километрах от него небольшого посёлка рыбообработчиков в бухте Малая Саранная, на всём восточном побережье Камчатки, до самого первого за мысом Лопатка курильского острова Сюмусю, как тогда ещё называли на японский лад этот известный с давних времён русский остров Шумшу, кроме редких военных наблюдательных постов и небольших палаточных городков промысловиков в период летней рыбацкой путины, не было других постоянных поселений. Однако вернёмся к 1940 году, когда мои родители и я собственной персоной почти пятилетнего возраста переехали на постоянное жительство в это уникальное в своём роде село Вилюй.
Ещё за несколько дней до этого памятного в нашей семейной жизни события ничего подобного даже и не предполагалось. Наступил сентябрь 1940 года, как раз закончился второй трёхлетний договорный срок работы родителей на камчатских рыбных промыслах, и они, получив на рыбокомбинате расчёт, собрались снова на материк – второй раз после первой поездки в 1937 году. Но в этом случае, по настоянию отца, окончательно и безвозвратно. Мама, по причине своего мягкого характера, только робко возражала мужу: мол, куда ехать-то? Её отец уже давно умер, а вся большая родительская семья разъехалась по всему Союзу – от кавказских гор до Дальнего Востока. И на родине, в Сибири, ни кола ни двора, да и родных и знакомых почти никого не осталось – ещё в первую поездку убедились в этом. А тут, на Камчатке, только-только жизнь наладилась: и работа, и жильё, и снабжение за пределами мечтаний, и уважение со стороны руководителей предприятия, заслуженное трудом и приобретённым опытом. Да и с людьми, с которыми приехали сюда ещё в 1934 году, уже давно сроднились крепче, чем с кровными родственниками.
И ещё её мучили какие-то смутные предчувствия чего-то очень страшного, непременно ожидающего их на материке. Конечно, оживали в памяти мамы и жуткие годы Первой мировой, когда вернулся с фронта её отец, обмороженный и травленный газом, а потом наступил настоящий апокалипсис – ещё более жуткая Гражданская война, когда русский на русского яростно пошёл в штыки. Завершилось это бедствие глобальной разрухой и хаосом в экономике и людских умах. Всё это выпало на её детство и юность, прошедших рядом с большим сибирским городом, оказавшемся на пути обезумевших противоборствующих орд и белых, и красных, забывших о национальном и семейном родстве друг друга. А следом началась, по сути, репрессивная коллективизация всех крестьян, и, как следствие этой эпохальной акции, последовал за нею ужасный Голодомор. И ударил он прежде всего по тем самым крестьянам, которых власти загнали в колхозы, отобрав у селян практически весь хлеб для нужд индустриализации всей страны. Да и призрак новой большой войны всё явственнее надвигался на страну: уже год прошёл, как заполыхала вся Европа, и всего полгода тому назад закончилась непонятная финская война, длившаяся, к счастью, лишь несколько месяцев.
И все эти аргументы свои мама, вытирая слезы, продолжала высказывать отцу, пока мы сидели на чемоданах и узлах под навесом в порту, а наш пароход, на который уже были куплены билеты, в это время на рейде принимал в свои трюмы с кунгасов бочки с солёной рыбой. Но отец привычно отшучивался:
– Всё и там устроится. Руки есть, и работа будет…
– Да как ты не понимаешь! – говорила сквозь горячие слёзы мама. – Война начнётся – тебя заберут. Кому мы с ребёнком нужны будем там, среди чужих людей? А здесь тебя хоть все знают и ценят. Друзья и знакомые всегда помогут, коль нужда настанет…
– Да не плачь ты, – мрачнея, успокаивал отец маму. – Здесь что ли спокойнее? Вон японских войск на Курилах сколько, наверное, больше чем жителей на Камчатке. Зараз нас всех схапают, если что. Недаром меня каждую осень на месяц в мангруппу призывают…
– Значит, доверяют, коль призывают, – сердито отвечала мама, промокая кончиком платка остатки слезинок на щеках. – А ты и этого не ценишь…
Ожидание посадки на пароход затягивалось, и этакая перебранка родителей не прекращалась, а только обострялась. Мама уже не плакала, отец же всё больше мрачнел.
А вот непонятное мне тогда слово «мангруппа» я снова услышал на следующий день, но уже от других людей…
4Ближе к обеду к нам пришли двое незнакомых мне мужчин. Один из них оказался уже довольно пожилым, на нём был тяжёлый брезентовый дождевик и потёртая суконная кепка на голове с залысинами. Другой, одетый в полувоенный костюм и брюки галифе, по возрасту был схож с моим отцом. И знакомы хорошо они оказались с ним оба. Позже я узнал от родителей, кто были эти люди. Пожилым был Лазаревич Сергей Устинович – он создал в 1935 году рыболовецкий колхоз «Вилюй» и с той поры стал его председателем. Вторым был Добрычев Иван Иванович, который был в то время или работником АКО (Акционерного Камчатского общества, созданного ещё в 1927 году), или, возможно, инструктором Камчатского обкома партии, в чём я, однако, не совсем уверен.
Тема разговора, который они сразу же начали с моим отцом, оказалась совершенно неожиданной для моих родителей: они попросили отца не уезжать на материк, а переселиться в Вилюй и стать рыбаком-колхозником. Оказывается, когда минувшим летом отец работал бригадиром на ставном неводе в бухте Малая Саранная, на него положил глаз председатель колхоза «Вилюй», давно вынашивающий идею установки на океанской стороне острова Старичков большого ставного невода. Но для этого был нужен надёжный специалист на должность бригадира, какового в колхозе тогда ещё не было. Палатка, в которой жили там рыбаки, стояла недалеко от пирса на галечном берегу под отвесным скалистым боком высокой сопки, из-под которого струился родничок с прозрачной и всегда холодной водой. В непогоду, когда из-за большой волны у вилюйских скал нельзя было высадиться на шлюпке, катер с пассажирами обычно заходил в Малую Саранную и высаживал людей непосредственно на пирсе засолочного цеха здешнего филиала Авачинского рыбокомбината, в котором и работал мой отец.
Отсюда до села Вилюй было всего каких-то шесть километров по лесной тропе, но для местных жителей это было не расстояние. Однако Сергей Устинович, возвращаясь из поездок в город по разным своим председательским делам, непременно заглядывал в палатку к рыбакам, вроде бы просто так, а на самом деле, чтобы получше приглядеться к понравившемуся ему 35-летнему толковому бригадиру рыбаков. Видно, он и в других местах наводил о нём справки, в том числе и у Добрычева, с которым отец работал ещё в 1934 году на острове Карагинский.
Всё это, без обиняков, и выложил Сергей Устинович отцу напрямую. А Добрычев, со своей стороны, вдруг напомнил о практически ежегодном призыве отца на кратковременные сборы в мангруппе. И добавил: мол, село находится прямо на океанской береговой черте, а это уже граница с довольно воинственным нашим соседом – Японией. И надо быть там всегда начеку. В колхозе же народ сборный, есть люди и случайные, можно сказать, даже не совсем надёжные. А само ядро коллектива, на людей которого можно положиться во всех отношениях, если, не дай Бог, что случится, как на Хасане или Халкин-Голе, совсем малочисленное.
– Вот ты, Фёдор Корнеевич, и мог бы заметно укрепить это ядро личным присутствием, – подвёл черту Иван Иванович. – Да и к окружению присмотрелся бы повнимательнее: снизу ведь виднее, кто есть кто, да и в совместных делах люди проявляются быстрее. Я тебя знаю уже не первый год, видел не раз, как ты умеешь сколачивать из незнакомых людей надёжную бригаду. Ну, а на материк можно съездить и следующей осенью…
– Ну, ты прямо в большевики меня записал, – усмехнулся отец. – А я ведь беспартийный…
Они с Добрычевым давно уже были на «ты» – ещё с острова Карагинского, а потом ещё пару раз были вместе на осенних сборах мангруппы.
– Вопрос этот решаемый, – уверенно обнадёжил Иван Иванович. – Всё в твоих руках. Тем более, что ты и сам, что ни на есть, из самой трудовой части здешнего населения – рыбак, истинный представитель рабочего класса, опоры партии. И я тебе с чистой совестью дал бы рекомендацию. Кстати, сейчас там пока всего лишь два коммуниста на всё село, а для полноценной первичной парторганизации этого явно недостаточно. Так что думай…
Уже мне взрослому отец признавался, что тогда у него просто на языке вертелся язвительный ответ на этот счёт о том, что он уже побывал членом партии – десять лет тому назад. Однако, как сказал он, уже наученный прежним горьким опытом, тут же прикусил язык: кто знает, как отнесутся эти вроде бы хорошо знакомые ему люди к таким его откровениям? Всегда так было: несдержанный язык – опасней пистолета…
Кстати, только через много лет, став уже достаточно взрослым человеком, я смог и сам уже в полной мере осмыслить эту старую истину. А также разгадать и смысл непонятного мне в ту пора слова «мангруппа». Оказалось, что так называлась маневренная группа, имевшаяся при каждом советском погранотряде с двадцатых годов прошлого столетия и формировавшаяся по необходимости из специально подготовленных резервистов, проживающих преимущественно среди местного населения приграничной территории. В семейном архиве была одна небольшая фотография моего отца в боевой форме члена такой пограничной мангруппы, заметно отличающейся от армейской формы той поры. На нём была мягкая широкая фуражка с обшитым материей козырьком и гимнастёрка, обтягивающая широкую грудь, перекрещенную двумя кожаными портупеями. Попутно прояснилась для меня и другая разгадка моей детской поры. Все годы, когда мы жили в Вилюе, у отца, кроме хорошего дробовика 16-го калибра, были ещё и два винчестера: 7-зарядный и 16-зарядный. И хороший запас патронов к ним. Конечно, отец очень любил оружие, оно сопровождало его с детства. Но в годы войны и практически в пограничной полосе лишь немногие люди имели право обладать таким многозарядным и скорострельным нарезным оружием. Даже охотники-промысловики, проживавшие в нашем селе (а их было совсем немного), имели на вооружении или старые однозарядные берданы, или переделанные из кавалерийских карабинов охотничьи пятизарядные винтовки. Отец занимался только любительской охотой, ходил и на медведя иногда, добывал для пропитания семьи и нерпу, и сивуча. Но такого оружия, которое было у него, я больше ни у кого в селе не видел. И это, наверное, тоже было совсем не случайно…
Но вернёмся к тому памятному разговору на портовом причале. Отец позже говорил, что его очень заинтересовало предложение о сооружении большого ставного невода на океанской стороне острова Старичков. Но в кармане уже были билеты на последний, может быть, в эти погожие осенние дни пароход, а всё имущество, кроме самого необходимого и упакованного в узлы и чемоданы, было распродано. Даже крыши своей над головой уже не было: в Новой Тарье, в нашей бывшей квартире, теперь жили другие люди.
Однако тут снова заговорил Сергей Устинович.
– Эти проблемы мы попробуем сейчас же решить, – сказал он и призывно махнул рукой стоящему в стороне пожилому мужчине.
К маминой радости и, действительно, всё тут же уладилось: всё предусмотрел хитрец председатель. Оказалось, что у этого пожилого колхозника из села Вилюй серьёзно заболела жена, и врачи предписали ей сменить климат. Но билетов на пароход уже не было, и никто не знал, когда будет следующий. А уехать надо было срочно. И этот бедолага готов был уступить за билеты и небольшую доплату со стороны моего отца собственную избу в селе, причём со всем хозяйством и огородными припасами на зиму. Не глядя, уладили эту сделку и на этом ударили по рукам. А отец, как он рассказывал мне уже взрослому об этом знаменательном для нашей семьи разговоре на причальной стенке Петропавловского порта, тогда даже вздохнул с облегчением, увидев, как повеселела сразу моя мама. Её, выросшую в большой крестьянской семье, особенно обрадовало в этой нежданной сделке обретение собственного жилья и привычного с детских лет деревенского домашнего хозяйства, которого она уже много лет, по сути, с самого замужества, была лишена. А тут сразу и своя крыша над головой, и дойная корова с запасом сена на зиму, и прочая мелкая живность. Чего ещё нужно, казалось бы, для полного счастья истосковавшейся по привычному от рождения крестьянскому быту молодой ещё женщине?
Вот так эти два человека, Лазаревич и Добрычев, изменили нашу судьбу, отсрочив почти на десять долгих лет наш переезд на материк. Много разных событий случилось за эти годы. Так, в 1941 году, если я не ошибаюсь, на посту председателя колхоза «Вилюй» Сергея Устиновича Лазаревича сменил Иван Иванович Добрычев. В самый разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году, снова был принят в партию мой отец. А в 1946 году, когда уволился Добрычев и уехал со своей семьёй в киргизский город Фрунзе (ныне Бишкек), должность председателя колхоза почти год исполнял и мой отец.
И в самом деле, неисповедимы пути Господни…
5А в тот памятный день события разворачивались своим чередом. Сергей Устинович, видно, не привык откладывать задуманное в долгий ящик, потому что сразу же нашёл транспорт, способный доставить нас к новому месту жительства. Им оказался широкогрудый деревянный катерок со смолёными бортами и с окрашенной какой-то жёлто-коричневой краской несоразмерно огромной рубкой рулевого. К слову, за все последующие годы моей жизни в Вилюе, в который летом можно было добраться только каким-либо попутным катером или рыбацким кавасаки, я больше не встречал этой, наверное, достаточно допотопной водоплавающей посудины. Но, как бы там ни было, погода стояла хорошая, и этот убогий катерок довольно благополучно доковылял к вечеру до Малой Саранной, оставил нас с вещами на широком деревянном пирсе и пошлёпал обратно в город.
Северо-западная дуга береговой полосы бухты представляла из себя этакий крутопадающий к урезу воды каменистый вал из крупного, обточенного волнами галечника, без какого-либо намёка на присутствие здесь даже мизерного песчаного пляжа. С обратной стороны этой узкой каменистой полосы, чуть ли не переливаясь через её верхнюю кромку, в огромной чаше среди высоких сопок лежало глубокое пресноводное озеро. Его тёмная зеркальная гладь, наверное, чуть ли не на десять метров была выше уровня бухты: отсюда всё лето насосом качали чистейшую воду для нужд рыбообработчиков, работающих под крышей длинного засолочного цеха, расположенного тут же на берегу бухты, рядом с деревянным пирсом.
Сам же посёлок «аборигенов», если можно так назвать относительно постоянных местных жителей, находился довольно высоко над уровнем моря – на склоне сопки, южная часть которой резко обрывалась отвесной каменной стеной к береговой полосе бухты. В посёлке было всего несколько деревянных домиков и длинный барак, в одной части которого летом жили семейные сезонные рабочие (для одиноких сезонников на лето устанавливались обычно две-три многоместные палатки). В другой части барака размещался небольшой магазинчик и столовая для рабочих. Действовали эти общественные заведения только летом. Кстати, когда сюда приезжала кинопередвижка, будь то летом или зимой, столовая временно превращалась на пару вечеров в кинозал, где зрители рассаживались на длинные деревянные скамьи или на собственные табуретки, принесённые с собой из дому. В дальнем конце столовой к тому же было устроено небольшое, вроде клубной эстрады, возвышение, предусмотренное для проведения собраний и концертов местных или приезжих коллективов так называемой в ту пору художественной самодеятельности. Говорю так подробно, потому и сам через несколько лет смотрел здесь не раз кинофильмы, в том числе и удивительно классно сделанный по тем временам «Пятнадцатилетний капитан», ставший любимым в моём детстве. (Совсем недавно, в январе 2013 года, я нашёл этот фильм с помощью «всемирной паутины» – ИНТЕРНЕТ и снова с огромным волнением и удовольствием пересмотрел его.) А в середине сороковых годов, когда я вместе с мамой уже был членом сельского драматического кружка, мы разыгрывали на этой маленькой сцене несколько одноактных пьес на героико-патриотические темы. Случилось это, как сейчас помню, в январе 1945 года, во время зимних школьных каникул: победно заканчивалась многолетняя (а для меня, девятилетнего ещё в ту пору, практически длившаяся почти всю мою сознательную жизнь) Великая Отечественная война, и эмоциональный настрой всего населения был фактически безгранично высок.
Но вернёмся в начало сентября 1940 года, когда вся наша небольшая семья в полном составе из трёх человек впервые ступила на северный берег бухты Малая Саранная, что в шести километрах от тогдашнего села Вилюй, в котором нам предстояло жить долгих восемь лет. Был вечер, и родители, чтобы не оставлять на пирсе упакованные в ящики и чемоданы вещи без присмотра, не стали искать ночлега в удалённых от берега домиках посёлка. Недалеко от пирса, на галечном берегу у подножья высокой каменной стены, лежал расстеленный для просушки средней величины ставной невод. Дель объёмной ловушки и длинного центрального крыла уже просохла под нежарким сентябрьским солнцем, высохла и стала ломкой тина, набившаяся в ячеи дели, и всё это ставшее бесформенным рыбацкое сооружение терпко пахло йодом и какими-то другими особо острыми ароматами моря. Место это было хорошо знакомо отцу: летом его бригада здесь ловила лосося именно этим ставным неводом. Тут же у скалы, где бил небольшой родничок, тогда стояла палатка, в которой и жили рыбаки. Но сейчас палатки уже не было, и отец соорудил нечто похожее на шалаш из просохшей ловушки, из неё же устроил ложе наподобие толстой, но очень колкой, перины. И вот на этой жёсткой постели и практически под открытым сентябрьским небом я провёл ту запомнившуюся мне ночь в шести километрах от нового места моего жительства. Не знаю, как было моим родителям, но мне, уютно устроившемуся, как в гнёздышке, между ними, было достаточно тепло, и я уснул, как говорится, без задних ног после первого в моей жизни такого длинного путешествия.
Председатель колхоза Лазаревич, приехавший накануне из города на катере вместе с нами, ещё вечером ушёл в Вилюй пешком, пообещав прислать за нами подводу с утра. Но подвода в одну гнедую лошадку прибыла только в полдень, управлял ею средних лет не знакомый родителям мужичок. Вещи были скоро погружены на телегу и хорошо увязаны прочным канатом. Отец решил отправиться с нами в Вилюй налегке пешком, взяв с собой только документы и деньги, поэтому он подробно расспросил возчика о дороге. Тот подробно рассказал о ней, предупредив, что сама дорога у Персатинского ключа, единственного на этом пути, свернёт налево в обход крутой сопки и по заболоченной тундре приведёт в село. Но пешком по той дороге идти практически невозможно из-за сплошной хляби, поэтому для пешеходов единственный сухой путь – это узкая извилистая тропинка от ключа через сплошной лес к седловинке между двух сопок, за которой и откроется само село: путь короткий, но на телеге по той тропе не проехать. А дальше, мол, язык до Киева доведёт. После таких подробных разъяснений возчик взялся за вожжи, и наши вещи уехали, а мы отправились пешком за ними вслед.
Правда, как потом рассказывали родители, они вначале хотели отправить меня на телеге на пару с возчиком, но я наотрез отказался ехать с незнакомым дяденькой и даже расплакался, чего я совсем уже и не помню. Закончилось это тем, что отец на полном серьёзе провозгласил:
– Раз ты уже большой, то, конечно, пойдём пешком…
И слёзы у меня вмиг просохли, потому что он, произнеся такую важную для меня, наверное, в тот момент фразу, тут же приладил мне через плечо свой бинокль в кожаном футляре с блестящей металлической защёлкой на крышке. Потом отец и мама не раз с улыбкой вспоминали этот исторический акт посвящения меня в взрослую жизнь, непременно упоминая, с каким уморительно серьёзным видом я воспринял это эпохальное для меня событие. А рассказываю я сейчас об этом так подробно по той лишь причине, что на этой первой в моей жизни такой длинной дороге произошёл один небольшой случай, который мне с тех малых лет постоянно напоминал: в этом мире надо быть всегда готовым защитить себя в любых неожиданных и, может быть, даже смертельно опасных ситуациях. Делать же это надо только быстро, но предельно спокойно, без паники, используя любые подручные средства и конкретные в такие моменты положения. Такой наглядный урок впервые преподал мне тогда мой отец, причём, я в этом особенно уверен по прошествии лет, даже не осознавая, что именно меня он хотел в тот момент чему-то полезному научить: просто интуитивно он сделал именно то, что надо было сделать в той конкретной ситуации. А я вот нечаянно увидел и запомнил – в раннем детстве глаза особенно памятливы.
Шестикилометровое гористое пространство между Малой Саранной и Вилюем в ту пору было покрыто густым лесом белой и каменной берёзы, с подлеском преимущественно из стелющейся красной рябины. Только в сырых низменных местах вкрапливались труднопроходимые купины ольховников и ивняков, а сумеречные распадки, где ещё почти до июня лежал плотный крупнозернистый снег, сплошняком устилали толстые, выше человеческого роста, колкие ковры кедрового сланника – настоящее медвежье царство, как думали тогда все местные пацаны и я потом вместе с ними. Дорога от Малой Саранной шла по высокому берегу пресноводного озера, пересекала пологий водораздел между этим озером и речкой-лиманом Малый Вилюй, мимо старого не то поселения, не то кладбища, заросшего сочной крапивой и кипреем, и сворачивала в сплошной берёзовый лес по подножию сопок, оставляя слева травянистую речную пойму, которую здесь называли тундрой. Осенний день короток, да и шли мы довольно не ходко по причине моего малого возраста: когда я уставал семенить за родителями на ещё не крепких ножках, отец усаживал меня на свои широкие плечи, и мы, не спеша, продолжали свой путь. И к Персатинскому ключу, таким образом, мы подошли уже к самым сумеркам. Собственно, это я только позже узнал, как именно называется этот единственный на той дороге неширокий лесной ручей, когда, взрослея год от года, много раз уже переходил его по упавшей с берега на берег старой ольхе по пути к ягодникам Малой Саранной и к излюбленному месту купания для местной детворы в тамошнем пресноводном озере. Но с той первой встречи мне как-то сразу и на всю жизнь запал в душу убаюкивающий лепет его прозрачных струй над россыпью разноцветных камешков, устилавших неглубокое дно.
Само собой, мы присели отдохнуть у ручья, хотя солнце уже упало за высокие и сразу потемневшие сопки справа, и густые вечерние тени сползли с их склонов в долину. Видимо, это было просто необходимо: идти от ручья к посёлку оставалось совсем немного, но тропа, нырнувшая в дремучие заросли кряжистой каменной берёзы, шла почти сразу на подъём и наискосок по крутому склону сопки, и прямиком к небольшой седловинке, за которой и лежал сам Вилюй. Разумеется, тогда я всего этого ещё не знал, но притомившиеся родители, и особенно мама, наверняка нуждались хотя бы в небольшом передыхе перед последним рывком к жилому месту. Посидели мы совсем немного на брёвнышке у ручья, попили студёной водицы, а потом отец снова водрузил меня на плечи и шагнул на чёрную тропу, густо оплетённую узловатыми корневищами каменной берёзы, мощные стволы которой обступили нас со всех сторон. Сумерки, казалось, сгустились ещё больше, а, может быть, это просто кроны деревьев с обеих сторон тропы сплелись над нашими головами, закрыв от наших глаз быстро вечереющее небо. Тут-то и случилось то самое небольшое происшествие, к которому я и веду этот рассказ и которое я полностью осознал лишь много лет спустя, да и то после пересказа моего отца. А в тот конкретный момент я, по-видимому, так ничего и не понял, как и не понял всех действий отца.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































