Текст книги "Ностальжи. О времени, о жизни, о судьбе. Том I"
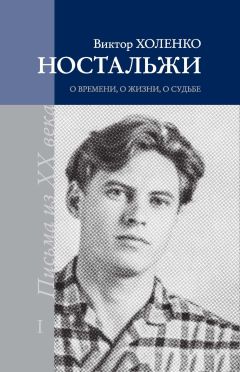
Автор книги: Виктор Холенко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Рядом с нашей, такой неприглядной на первый взгляд, но довольно уютной и очень тёплой зимой, избушкой стоял двухквартирный каркасный домик, дощатые стены которого были выкрашены какой-то несуразной, не то тёмно-жёлтой, не то светло-коричневой краской. В одной из квартирок этого «каркасно-щелевого», как их такие обычно называли в народе, жил одинокий сельский фельдшер, немец по национальности. Ему было лет за тридцать, звали его Вальтер, а по фамилии никогда не называл его никто, поэтому я её и не знаю. Так вот этот Вальтер, высокий и сухопарый человек, оказался довольно общительным и поэтому частенько забегал к нам по соседству – то просто с отцом побеседовать, то взять горячей воды для бритья или по какой другой бытовой необходимости.
Кстати, поселился он в своей квартирке примерно через год после нашего приезда и, видимо, совсем не случайно: уже началась война с Германией, и чиновники от медицины, вполне вероятно, его как немца по национальности и хорошего специалиста от греха подальше и заслали в наше удаленное село. И первое знакомство с ним оказалось довольно забавным. Дело в том, что в ту пору в нашем селе люди практически не знали замков и, уходя куда-нибудь из дома, запирали двери на самую простенькую вертушку или вообще подпирали дверь колышком: видно, что дома нет никого, ну и ладно. А нам и этого делать было не нужно, поскольку нам по наследству со всем хозяйством от прежних жильцов досталась тёмно-рыжая овчарка, абсолютно молчаливая, но довольно строгая. Когда дома никого не было, она лежала где-то рядом с открытой дверью и будто спала, но если кто-то чужой входил в избу, то выйти обратно уже не мог: Динка ложилась на порог и, положив свою умную морду на лапы, не сводила глаз с незадачливого посетителя. Стоило ему только пошевелиться, как она тут же, не поднимая головы, всего лишь молчаливо обнажала свои страшные клыки, и у человека сразу же пропадало всякое желание выйти обратно из избы. Таких случаев на моей памяти было немало, и наш новый сосед Вальтер тоже просидел однажды пару часов под неласковым взором нашего молчаливого стража, пока мама в это время неспешно ходила в магазин на Летник, а я с друзьями где-то был занят нашими ребячьими забавами. Но, не смотря на такой казус, мы с нашим сельским фельдшером сразу подружились. И, по крайней мере, не менее трёх моих мальчишеских происшествий потом, так или иначе, были связаны именно с этим нашим соседом.
Первое из них случилось летом 41-го, тоже вскоре после приезда нашего соседа в Вилюй. Я уже говорил, что Вальтер часто забегал к нам, в том числе за кипятком для чая или бритья – летом он печь топил редко. И вот в тот тёплый летний вечер он в очередной раз зашёл к нам за кипятком, а мы с ребятами в это время играли во дворе в пятнашки. Когда он выходил из сеней с полным ковшом кипятка в руке, я, убегая с заразительным смехом от преследовавшего меня мальчишки, врезался головой соседу в низ живота, ковш вылетел у Вальтера из рук, и весь крутой кипяток выплеснулся прямо на меня. Конечно, ему тоже было очень больно от моего удара головой в самое болезненное для мужчины место, но он был настоящий медик и, превозмогая собственную боль, тут же занялся мною – наиболее пострадавшим. Я не помню, что он делал со мной с первого момента после случившегося, как и чем лечил в последующее время. Но зато хорошо помню, что увидел через несколько дней собственными глазами, когда впервые после случившегося сумел открыть их, и отец или мама, а, может быть, и сам фельдшер Вальтер, боясь за сохранность моих глаз, поднесли к моему лицу зеркало. И в самом деле, основания для их боязни были довольно существенные: весь лоб, левая сторона лица, шеи, плечо и рука до локтевого сгиба представляли из себя одну сплошную бугристую розовую рану – всё это я и увидел тогда своими глазами, к всеобщей радости моих целителей: глаза-то были целы! Я лежал в детской кроватке-качалке, со всех сторон укрытой от мух и гнуса марлевым полотнищем. Где её взяли родители – не знаю, видно, сердобольные соседи одолжили до моего выздоровления.
Пролежал я в этой кроватке, по словам родителей, ровно три недели, и всё это время Вальтер по нескольку раз за день навещал меня, приносил какие-то целебные мази, осторожно наносил их на ожоги, давал советы маме, как лучше ухаживать за мной. Не представляю, как переживали родители после всего случившегося со мной, ведь я был для них в ту пору единственным ребёнком, выжившим из девяти рождённых мамой. Естественно, они во мне души не чаяли, никогда ничего не жалели для меня и чуть ли не молились на меня, честное слово, так я был им дорог. И эту вот такую беззаветную родительскую любовь я с благодарностью ощущаю до сих пор, хотя моих дорогих папы и мамы нет уже рядом со мной многие десятки лет. Не знаю, чем меня конкретно лечили наш сосед-немец Вальтер и мои незабвенные родители, но ровно через три недели я уже самостоятельно выбрался из лечебного убежища, на месте ожогов исчезли все струпья и теперь розовела только новая кожа. Могу только догадываться: в ту пору у берегов Камчатки постоянно работали первые советские китобои с промысловой базы «Алеут», и, в общем-то, не сложно было достать при желании чудодейственный спермацет – жир из головы кашалота. Только мази на основе этого удивительно целительного жира могли в ту дремучую в медицинском отношении пору камчатской реальности совершить такое чудо. Помню, что несколько позже, когда я уже учился в одном из начальных классов, у нас совсем короткое время и недалеко от меня сидела за партой девочка с безобразным лиловым бугристым шрамом во всю, кажется, тоже левую щеку: ещё в раннем младенчестве, говорили, она каким-то образом упала на горячую плиту кухонной печки. Но рядом с ней тогда, видно, не оказалось такого кудесника-врачевателя, как наш сосед Вальтер, и не нашлось у родителей в запасе на всякий случай хотя бы ложки спермацета. Меня же, вполне очевидно, на этот раз уберёг от большой беды Бог заботами моих родителей и поистине золотыми руками фельдшера Вальтера.
Кстати, что касается спермацета. Уже много лет спустя, когда моя дочь Лена была ещё в возрасте 4–5 лет, она во время ингаляции нечаянно опрокинула на себя миску с кипятком и получила большой ожог животика и ножки. А у моей жены Ирины Васильевны, с Божьей помощью, всегда по-хорошему предусмотрительной и запасливой чуть ли не на все случаи жизни, оказался в домашней аптечке пузырёк с этим самым чудо-жиром из головы кашалота, который тогда, в середине 70-х, задолго до запрета в России китобойного промысла, можно было ещё купить, и не дорого, чуть ли не в каждой аптеке. И у нашей дочери тоже не осталось на теле какого-либо заметного шрама от ожога. К сожалению, сейчас спермацет можно купить, наверное, только в Норвегии или Японии, отказавшихся от запрета на промысел китов.
Второй случай, непосредственно связанный с именем нашего соседа, произошёл почти через полтора года, а закончилось это очередное лечебное событие даже несколько комично. Только что началась зима, и всё село сразу же завалило пушистым белым снегом – прямо-таки по пояс взрослому человеку. Было безветренно и тепло, всего два-три градуса с минусом, и огромные, будто ватные снежинки, медленно кружась, в полном безмолвии опускались из низких тяжёлых туч на притихшее село. А когда снегопад закончился, то на это белое пушистое одеяло, укрывшее село и спрятавшее под собой все сельские дорожки-тропинки, тут же с восторженным ребячьим криком и девчоночьим визгом набросилась вся сельская детвора. Лепили снеговиков, барахтались в мягком и, казалось, совсем не холодном снегу, и было очень жарко в тёплой зимней одежде. Чтобы утолить жажду, хватали в запале губами тающие в ладонях комочки снега, но пить почему-то хотелось всё больше и больше. Домой я вернулся мокрый с головы до ног, а уже ночью у меня начался жар и сильно заболело горло, а затем у меня совсем пропал голос. Утром мама позвала Вальтера. Он заглянул мне в рот, велел высунуть язык и длинной холодной никелированной ложечкой нажал его почти у самого корня. Потом заявил, что страшного ничего нет, надо просто делать согревающие горлышко компрессы, и дал какую-то сладкую микстуру.
– А ещё лучше, – сказал он в заключение, – нагреть немного красного вина и давать ему пить маленькими глотками. Температура ещё будет держаться сегодня, а к утру уже всё пройдёт: и заговорит он, и горлышко болеть перестанет. Кстати, в магазин недавно привезли из Тарьи бочку хорошей мадеры…
Отца дома не было – он уехал по каким-то делам ещё до снегопада в город или в Сероглазку, а скорее всего в Новую Тарью, куда до установки санного пути можно было добраться и пешком. А мама в магазин ходила очень редко, потому что весь необходимый запас продуктов и даже керосин для лампы были дома практически всегда. Хлеб же она пекла, как и все домохозяйки в селе, в собственной печи – пекарни здесь тогда не было. Вкус и аромат той мадеры я запомнил на всю жизнь, но, став взрослым, я так и не смог больше найти нигде вина, необыкновенно густого и с таким чудным букетом. А в тот день от выпитого горячего вина мне сразу стало вдруг удивительно тепло и весело, потому что стена комнаты почему-то вдруг поползла на меня, пол и потолок с берёзовой подпоркой закачались и вздыбились. Так же закачались и упали на бок стол и печка, только тарелки, кастрюли и кружки, ложки на них не падали, а стояли по-прежнему, будто приклеенные. Оказавшись в центре этой забавной кутерьмы, я заразительно смеялся и, ухватившись руками за потолочную подпорку, тщетно пытался остановить этот неожиданный переполох в нашей старенькой избушке. А мама, как сама она потом рассказывала, в растерянности смотрела на меня, необыкновенно развеселившегося, и не знала, корить ли себя за содеянное или радоваться, услышав снова мой прорезавшийся в громкий смех голос. К счастью для нас обоих, этот эксперимент с фантастической мадерой закончился благополучно: утром я проснулся абсолютно здоровым, как и предрекал накануне наш добрый гений фельдшер Вальтер.
Третий случай, мимолётно связанный с Вальтером, пришёлся как раз на День Победы. Видимо, об этом радостном событии жители села узнали из сообщения по радио: накануне, ещё зимой, матросы с «нашенской» береговой 77-й батареи достаточно быстро расставили столбы по косе за протокой Вилюйкой, а затем и по тундре к Зимнику, протянули по ним провода и повесили в домике колхозного правления чёрную тарелку репродуктора, и с той поры в селе появилось радио. Помню хорошо, тот долгожданный и ужасно радостный майский день был необычайно солнечным, но очень ветреным. Тугие вихри выметали с сельских улиц прошлогоднюю пыль, а в распадках и на сопке, над покосившимся от времени длинным бараком, в котором уже давно не было колхозного детского сада, они в какой-то суматошной пляске кружили пожухлую, опавшую ещё осенью с деревьев и кустарников, листву. Наверное, в честь Дня Победы в селе досрочно закончился и учебный год у школьников, что ещё больше обрадовало детвору. Нам, перешедшим в третий класс, выдали учебники, уже довольно потрёпанные нашими предшественниками, перешедшими в класс четвёртый, и распустили по домам. Родителей дома не оказалось, и я, швырнув связку замусоленных книг на лавку у двери, занялся своими делами. В тот праздничный для всей страны день мне почему-то понадобилось сделать боевое копьё камчатских аборигенов, увиденное на рисунке в прочитанной ещё зимой книжке коряцких сказок-былей. Одной рукой, левой, я держал длинную срубленную берёзовую ветку, а в другой – тяжёлый ещё для меня отцовский всегда острый топор, и обрубал сучки. Покончив с нижними сучками, я тут же чирканул топором по сучку, оставшемуся над левой ладонью, и полосонул острым лезвием по большому пальцу над вторым суставом. Было не больно, но крови оказалось очень много. И, зажав рану правой рукой, сразу же побежал искать Вальтера. Мы уже давно жили на другом краю села, переехав из своей старенькой полуземлянки в добротный рубленый домик в северном распадке, но до медпункта, где врачевал сельчан Вальтер, добежал быстро. На моё счастье, он оказался на месте. Не говоря ни слова, он тут же мастерски принялся за дело: какой-то светлой жидкостью, обжёгшей ранку, промокнул разрез над суставом, засыпал его щедро белым стрептоцидом и стянул края разрубленной кожи лейкопластырем. Рана сразу же перестала кровоточить и довольно быстро заросла. На этом и закончилось моё общение с нашим бывшим соседом, не раз выручавшим меня в раннем детстве. Больше ничего я не знаю о его судьбе. Но оставшийся на всю мою жизнь шрам на большом пальце левой руки всегда будоражит благодарную память об этом немногословном немце, всю войну с Германией благополучно прожившем на камчатском берегу Тихого океана, и которого, уверен я, многие тогдашние жители села до конца дней своих вспоминали с теплотой и благодарностью.
8В полуземлянке, купленной родителями в сентябре 1940 года, как говорится, не глядя, причём со всем домашним хозяйством и кое-какими припасами овощей и картофеля на зиму, мы прожили до 43-го года. Отсюда я каждый раз провожал отца на остров Старичок после его короткой побывки дома и, сломя голову, всегда бежал навстречу, когда бригада через пару недель снова приезжала домой на короткий отдых. Рыбаков, поднявшихся на Летнике с берега Вилюйки на тропу, протоптанную на песчаной косе между домиком почты и отвесной скалой с фиалками, было хорошо видно от нашей старенькой хижины. Отец всегда привозил с острова какие-то необычные подарки: или крупного жирного палтуса, хвост которого торчал из заплечного вещевого мешка, или с двумя-тремя десятками крупных яиц топорков или арочек, или несколько штук подстреленных этих самых морских птиц, в начале 40-х в изобилии гнездившихся на скалах и крутых склонах острова. Яйца топорков, крупные, остроконечные, в светло-зеленоватой скорлупе, и белогрудых чёрных арочек, или кайр, как их повсеместно называют на Северах, такие же крупные, но скорлупа у них с еле заметной голубизной и испестрёна чёрными пятнышками, хороши в варёном и жареном виде. А вот суп из мяса этих птиц бывает достаточно вкусным только в горячем состоянии, когда же он остынет, его есть практически невозможно из-за специфического запаха рыбьего жира, ведь, как и все морские птицы, топорки и кайры питаются только рыбой.
Из этой старой избушки я и сам однажды уехал с отцом на пару недель на остров, где жил с рыбаками в большой палатке, ездил с ними на переборку большого морского ставного невода. В эту первую свою поездку на остров я первый и последний раз в своей жизни видел настоящий птичий базар, обычный ещё до той поры на дальневосточных и северных островах. Летом же 42-го года, когда отца с острым приступом аппендицита увезли с острова на катере в городскую больницу Петропавловска, я один ездил с домашними подарками к отцу. Мама не могла поехать со мной – не на кого было оставить домашнее хозяйство. Но меня отвезли и доставили к отцу в больницу его друзья-рыбаки и так же благополучно привезли обратно домой. Здесь же я впервые освоил и «профессию» дояра. Правда, первая попытка оказалась весьма неудачной. С доставшейся нам в наследство от прежних хозяев могучей и почти полностью красношёрстной симменталкой я не нашёл взаимопонимания: после первой же моей попытки поднести стакан к её соскам, он был тут же выбит из моей руки мощным ударом её копыта. Корова была очень удойная: летом давала по три подойника молока в день. Но маме она тоже не понравилась, и я даже не помню, почему. И родители ее продали, купив взамен молодую чёрно-пёструю холмогорку. Мы ей дали ласковое имя Люська, и она его полностью оправдывала. Когда мне хотелось парного молока, а родителей не было дома, я бежал со стаканом в руке к нашей Люське и пытался доить её одной рукой, потому что другой держал стакан. А она, повернув голову, добродушно смотрела на меня своим лиловым глазом и, как мне казалось, даже улыбалась моим не всегда удачным попыткам попасть молочной струйкой в стакан. Здесь же я умудрился испортить один из двух отцовских винчестеров – 16-зарядный старого образца карабин с короткими толстенькими патронами и тупыми свинцовыми пулями: загнал в ствол пустую и, видимо, раздутую гильзу, и её там намертво заклинило. Отцу пришлось расстаться с этим винчестером и взять взамен тяжёлый длинноствольный французский карабин с огромными пузатыми гильзами и толстыми блестящими тупыми пулями, за 10 мм в диаметре – не меньше. Но это уже было тогда, когда мы поселились в другом и совершенно новом доме. А из старенькой нашей хижины я пошёл в первый школьный класс, почувствовав себя в новеньких, сшитых мамой штанах, хоть ещё и с лямками, но с большими мужскими карманами, совсем взрослым человеком. Случилось это эпохальное для меня и, наверное, для всей нашей семьи, не считая, конечно, двухмесячного на тот момент несмышлёныша – моего братишки Бориса, 1 сентября 1943 года. В те далёкие времена школьная жизнь в России начиналась в основном с восьмилетнего возраста…
Новый для нас дом построил местный охотник по фамилии, кажется, Савченко. Строил он его, конечно, для себя, поэтому домик из тёсаных и хорошо просушенных брёвен получился довольно добротным. Однако в его семье что-то не заладилось, и он, оставшись в одиночестве, продал дом моим родителям и надолго ушёл в сопки на свой промысловый участок. Года через два-три он снова появился в селе, привёз зимой на собачьей упряжке огромную освежёванную тушу бурого медведя и практически задаром раздал односельчанам. До весны он прожил в небольшой комнатёнке в том самом длинном бараке, где раньше был детский садик, а потом уже навсегда исчез из села.
Домик этот был во многих отношениях достаточно уникальным, как и место, в котором он был расположен. Стоял он в уединённом маленьком распадке в северной части села, из которого начиналась пешеходная тропа в Малую Саранную. Распадок этот, расширяясь в нижней части, круто обрывался к ручью, отрезавшего от остального села его малую, северную, часть. Здесь было всего три жилые усадьбы: наш домик – в середине пологой части распадка, ниже нас и прямо над ручьём была землянка Некрасовых (один сезон всего, кажется, Некрасов работал в отцовской рыбацкой бригаде, и у этих соседей была маленькая девочка Рая), а прямо напротив этой землянки и тоже над ручьём высоко стоял дом председателя колхоза Добрычева, в котором я никогда не был, но с его двумя ребятами-погодками, на год-два моложе меня, хорошо дружил. Внизу у ручья был колодец с чистейшей холодной водой, а прямо за ним на правом берегу ручья начиналась усадьба с домом под крышей из волнистого оцинкованного железа – другой такой крыши в селе не было. В этом доме и жили Филиппыч с женой и семья Варлаковых. За этим домом начинался центр села и стоял домик правления колхоза, а за ним целая улица рубленых и каркасных жилых домиков, в которых в том числе жили семьи Гуриных, Цветковых, Гореловых, Гноевых и Ведерниковых, кого я смог запомнить. За этим жилым порядком, у подножия высокой сопки, протянулась последняя, южная улица села. Начиналась она от центра небольшим клубом, школой со спортивной площадкой, фельдшерским пунктом – резиденцией Вальтера, и дальше, к востоку, где эта высокая сопка переходила уже в плоское нагорье, было ещё несколько жилых домиков, в одном из которых жила семья Прудниковых, переехавшая после войны в Приморье. Заканчивалась эта улочка на взгорье – над самой тундрой, отсюда, по сути, начинался вилюйский Зимник, откуда шли обе дороги к Летнику – понизу и поверху. А там, где верхняя тропа над тундрой начинала спускаться к почте на Летнике, вправо по пологому нагорью, густо заросшему шиповником и редкими корявыми берёзками, шла тропа к сельскому кладбищу. Там, недалеко от скального обрыва к океану, есть несколько могилок и моих братьев и сестрёнок, которые смогли прожить на этой, оказавшейся для них неприветливой и довольно суровой земле, не больше чем по году, а то и того меньше…
Когда первый хозяин строил этот дом, у него много чего из материалов не оказалось под рукой, или достать их в ближайшей округе было просто невозможно. Так, например, печь он сложил из камня-плитняка, причём с тёплой лежанкой, под которой на корейский лад вывел дымоход под стеной дома наружу. А там, метрах в двух от стены, была сооружена деревянная труба. Такого «печного» варианта я больше нигде не встречал на Камчатке. Эта печь с тёплой лежанкой добросовестно служила нам, наверное, всего пару лет, пока в один прекрасный зимний день не загорелась деревянная труба. Горящую трубу затушили снегом, не дав огню перекинуться на кровлю из сухой ольховой дранки, с которой ветром давно уже смело снежную «шубу». Мой отец, как я не раз убеждался лично сам, умел делать практически всё, и в этом курьёзном случае он тоже не оплошал: он сразу же переложил печь на традиционный манер – с вертикальным обогревателем, склепал из жести трубу и вывел её наружу через потолок и кровлю. Одним словом, сделал всё, как у людей. А огарок деревянной трубы ещё долго стоял за стеной дома, напоминая нам о сомнительной изобретательности её творца. Весной около неё соорудили летний курятник, причём в два этажа. Но кур у нас было немного, и им вполне хватало нижнего отделения. А мы с соседскими ребятами, приладив снаружи лесенку в виде трапа, приспособили верхнюю часть курятника возле полусгоревшей трубы для своих летних игр, вообразив себя этакими морскими волками в капитанской рубке настоящего корабля.
Конечно, наши детские игры той поры в той или иной степени каким-то образом копировали род занятий наших родителей. Там и тогда они были рыбаками, причём рыбаками морскими. И мы себя воображали такими же. Помню себя ещё в дошкольном возрасте, как играл со сверстниками в эти «рыбацкие» игры на песке обсохшего русла ручья: песок – это море, раковины мидий – катера и кунгасы, верёвочка, которая полукругом охватила песчаное море, – это закидной невод, а мелкие палочки на песке – это рыба, попавшая в невод. С годами взрослели и наши игры. Посмотрев революционный кинофильм, вся детвора начинала строить «баррикады» на сельской площади у колхозной конторы и «отстреливаться» друг от друга кусочками дёрна, вырванного тут же из сплошного ромашкового ковра. После фильма «Чапаев» мы уже яростно сражались на саблях, сделанных из ивовых ветвей. Захватил наше детское воображение фильм «Она защищает Родину». На голой макушке сопки, у подножия которой был детский сад с парниками, мы весной обычно собирали первую молодую черемшу. Ну, а после просмотра этого фильма там уже чуть ли не всё лето «действовал» наш «партизанский отряд». Посреди поляны там давно лежал не замечаемый нами раньше обрубок огромной лесины с плоским широким стволом и срезом на одном конце такого же по ширине сука. А после фильма она напоминала уже нам легковую автомашину с ветровым стеклом, на которой в фильме ездил немецкий офицер-каратель. И мы уже чуть ли не каждый день «штурмовали» этот несчастный берёзовый обрубок, брошенный заготовителями дров за непригодностью догнивать на сопке, «обстреливали» его из сучков, напоминающих по конфигурации немецкие автоматы, и забрасывали обломками сучков, тоже похожими на немецкие гранаты с длинной рукояткой. Фильм же «Крейсер „Варяг“» необычайно сдружил всю воинственную сельскую детвору, и мы, обнявшись, ходили по вечерам по улицам и во всю ивановскую горланили полюбившуюся всем нам песню «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“».
Ещё одно излюбленное для игр место у нас было в конце нашего большого огорода в распадке. Там стояла могучая каменная берёза, которая в полутора метрах от земли разметала в разные стороны от неохватного короткого ствола толстенные сучья, которые, изгибаясь кверху, потом смыкались высоко над землёй в одну непроницаемую зелёную крону. Было там и большое дупло, которое можно было использовать для тайников. И кого мы только не изображали, лазая по ветвям этого роскошного дерева-чаши, даже папуасов – после просмотра фильма о Миклухе-Маклае.
Но мы не только развлекались всякими там детскими играми, мы, чем могли, помогали своим родителям. Время было суровое, военное, не всё можно было купить в магазине даже по карточкам или «рулонам», как называли талоны на продукты, выдаваемые рыбакам этакими небольшими рулончиками. Трудно было, например, с растительным маслом, а без него ни рыбу, ни ту же картошку не пожарить, а ведь это была основная пища для жителей Камчатки той поры. Перебивались жиром нерп и сивучей, которых и отец обычно добывал на зиму. Или рыбьим жиром, который добывали сами жители, даже домохозяйки-старушки. В нашей речке-протоке Вилюйке водилось много мелкой рыбёшки, которую мы называли колючкой. Самая крупная из этих рыбок не превышала по размерам мизинец взрослого человека. Тельце её с боков покрывала не чешуя, а всего несколько крупных роговых пластинок, прочно приросших к туловищу. А имя своё эти рыбёшки оправдывали острыми, как иголки, колючками на плавниках с боков и на спинке. И славилась эта рыбья мелюзга необычайно высоким содержание жира. Ведро, наполненное этой рыбкой, просто ставили дома на печь и через несколько часов, подогревая на малом огне, получали не меньше двух литров чистейшего рыбьего жира. А оставшийся после процеживания рыбий жмых обычно скармливали курам. Добывала же эту жирную рыбёшку в основном сельская ребятня: сами делали сачки из дели с мелкой ячеёй, а потом ими прямо черпали рыбку на мелководье, где по весне её стаи прямо кишели в прогретой солнцем мелкой воде. Я тоже приносил домой такой колючий улов, и мама вытапливала из него жир, используя его потом для различных жарений.
Что самое удивительное, так это то, что наша детская помощь родителям совершалась нами с удовольствием, наверное, потому что большая её часть походила скорее на игру, чем на работу. Разве это не удовольствие собирать молодую черемшу для засолки, которая росла совсем рядом, в сопках, и пробивалась по весне к солнцу скрученными туго в острое шильце не развернувшимися ещё листьями, нежными, ароматными. Или совершать дальние походы в начале лета за диким луком, который мама потом высушивала и всю зиму заправляла различные супы и щи. Ходили мы обычно небольшими ребячьими стайками далеко за ягодники в Малой Саранной, переправлялись через речку на миниатюрном двухместном ялике, для чего самому старшему из нас приходилось сделать несколько ездок туда и обратно, и на сыром лугу правого берега набивали мешки ещё не успевшем распушить цветочные бутоны ярко-зелёным диким луком. Нигде в ближайшей округе его не было так много. В восьмилетнем возрасте я впервые и с великим удовольствием сел верхом на неосёдланную лошадь и с её помощью подтаскивал копны высушенного сена к стогу, который укладывали папа с мамой. А поближе к августу уже начинались наши ребячьи походы в ту же Малую Саранную за ягодами, где их тогда было в изобилии. Мама всегда заботливо клала в заплечную котомку бутылку с молоком нашей щедрой Люськи и краюху хлеба. Пока дойдёшь до этих богатейших ягодников, проголодаешься, но тут же забываешь, что у тебя обед за спиной, и набрасываешься на ягоды, особенно если повстречаешь сразу кусты с удивительно вкусной камчатской жимолостью. Ел я эту ягоду в огромных количествах и домой приносил в ведре чуть на донышке, в отличие от остальных ребят. Родителей, кстати, это совсем не огорчало, мама только с укоризною качала головой, доставая из котомки не съеденные мною хлеб и молоко в бутылке, в котором плавал сбившийся кусок масла – такое жирное было молоко у нашей Люськи. А отец, улыбаясь, убеждал меня, крайне сконфуженного мизерным количеством собранной ягоды, что я совершенно правильно поступаю, если в ведро кладу только одну ягодку, а в рот – целую горсть. Но так бывало не всегда. Голубику я набирал уже по полведра, а бруснику и шикшу приносил домой уже полными вёдрами. Всю зиму мы ели кисло-сладкую бруснику в смеси с водянистой шикшей, а хранились эти ягоды у нас замороженными на чердаке в одном большом корыте.
В Малой Саранной мы, пацаны, вообще бывали летом очень часто, что для ребячьих быстрых ног каких-то шесть километров лесной дорожки? Но зато там можно купаться в пресноводном озере хоть до вечерней зари, да ещё и порыбачить на закидную удочку, и вернуться потом домой с хорошей добычей. В этом большом озере вода была гораздо теплее, чем в бухте, и купались мы обычно, далеко не доходя до жилых домиков посёлка. Дорога из Вилюя шла к этому посёлку по склону сопки высоко над озером, и спуститься к урезу воды более или менее удобно было только в одном месте. Там мы и скатывались к воде по крутому склону, хватаясь за ветви стелющейся рябины. Раздеться можно было всего лишь на маленьком пятачке у самой воды, покрытом мягкой невысокой травкой. А какая тёплая и чистая вода была в этом озере! Кстати, в этом месте я и научился плавать. Поначалу, когда мы приходили сюда, я обычно бултыхался около самого берега, на мелководье. Но однажды более взрослые ребята, развеселясь и озоруя, затащили меня на приглубое место и, бросив там, вмиг разбежались в разные стороны: им было всего по шею, а мне – с головой. Им, конечно, было очень смешно, как я барахтаюсь в воде, отплёвываясь и фыркая, но мне было совсем не весело. Однако случилось самое удивительное: отчаянно махая руками и дрыгая ногами, я каким-то образом всё же добрался до мелководья самостоятельно. С тех пор я перестал бояться глубины и вскоре уже стал плавать, загребая руками не только «по-собачьи», но и «в размашку», и «по-морскому», как и все наши ребята плавали.
А рыбачили мы в этом озере уже в другом месте – возле самого засолочного цеха, стоящего на каменистой косе, отделяющей пресное озеро от самой морской бухты, причём уровень её воды был гораздо ниже уровня озёрной глади. В озере водилось немало серебристой мякижы – довольно крупной камчатской форели, лишь немного уступающей по величине такому морскому лососю, как камчатская горбуша. Ловили мы её обычно донными удочками и на красную икру, которую нам без каких-либо возражений позволяли брать работники икорного цеха. Вообще это было какое-то удивительное для нас время, когда взрослые ничего не запрещали детям. Да и мы не всю выловленную рыбу после хорошего клёва забирали себе – каждый уносил домой не больше двух вкусных и довольно увесистых форелей на жарёху, а остальную отдавали тем же местным обработчикам рыбы. Как-то раз кто-то из ребят сагитировал половить рыбу прямо с пирса на берегу бухты. Рыбалка получилась очень азартная: безудержно клевал очень крупный каменный окунь, как тут называли местные эту большую тёмнокожую рыбу с огромной головой. Подозреваю, что это был самый обыкновенный морской налим, скопища которого прижились у пирса, где прямо в бухту сбрасывались при обработке рыбы все рыбьи потроха: что не успевали подобрать чайки, то доставалось всем донным рыбам и даже крабам, которых в этой бухте тоже было тогда очень много. Наживкой служила солёная мойва, или уёк, как её называли местные жители: целые бурты этой рыбёшки хранились под брезентом прямо на берегу – её заготавливали каждую весну для тресколовов, работающих на мотоботах-кавасаки и использующих для наживки на ярусах-перемётах. Мы, впятером или вшестером, за короткое время набросали целую гору этих огромных окуней, или налимов, а себе взяли лишь по одному – больше было не унести. Нас выручил директор рабочей столовой: он попросил отдать ему оставшийся улов для столовой. Мы, конечно же, согласились. Рыбу тут же забрали с пирса, а нас бесплатно накормили в столовой сытным обедом. И случилось это где-то в 43-м или 44-м военных годах. На какое удивительное время выпало моё детство!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































