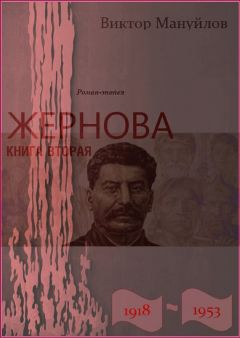
Автор книги: Виктор Мануйлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 16
Бабель открыл глаза и несколько минут пялился в темный потолок. Болела голова, во рту было сухо, через нос не продохнешь. За печкой кто-то возился, двигая чугунками. Трещали горящие дрова, гудело в трубе. Открылась и закрылась дверь, потянуло холодом. Послышались сдержанные голоса. Похоже – детские. Вылезать из-под одеяла не хотелось. Да и вылезать было отчего-то боязно. Но вылезать нужно, чтобы не пропустить захватывающее зрелище. Пошарил вокруг, на табурете нащупал куртку, штаны, рубаху, под курткой портупею с револьвером, командирскую сумку. Сразу же стало как-то спокойнее, вернулась уверенность. Однако одевался тихо, стараясь ничем не выдать своего присутствия.
Натянув сапоги, Исаак осторожно выглянул из-за печки и встретился с испуганными и любопытными глазами мальчика лет десяти и девочки лет тринадцати. Еще одну девочку, лет шести, заметил не сразу: она сидела на полу у печки и, тихо сопя от усердия, повязывала платком тряпичную куклу.
"А девчонка ничего, уже и сиськи прорезались, – подумал Исаак, разглядывая старшую. – У тетки Фимы была такая же, может, на год-другой старше. Тоже хохлушка. К ней всегда была очередь. И всегда толстых и пожилых евреев. Библейскому Моисею, когда он занемог, предлагали именно девочек, не знавших мужа: девочки на старцев хорошо действуют, разгоняя загустевшую кровь".
Впрочем, Исаак и сам не отказался бы от девочки: на сорокалетних они тоже неплохо действуют. А еще – этот первородный страх перед таинством соития, томление в невинных глазах, затем алая кровь первого совокупления… Каким могучим и великим чувствуешь себя, стоя на коленях между раскинутыми ногами и глядя на оплодотворенную тобой нежную женскую плоть! О, боже! Пообещать? Припугнуть? Все равно не сегодня-завтра эту маленькую хохлушку отправят в Сибирь, до которой она может и не доехать. А так – хоть какая-то польза…
Под пристальным взглядом чужих, неласковых и требовательных глаз девчонка испуганно ойкнула, вскочила, кинулась к младшей, схватила ее за руку, потащила из горницы. Вслед за сестрами убежал и мальчишка…
Звереныши! Кулацкое отродье!
Бабель вышел из-за печки, сел за стол. Скрипнула дверь, распахнулась, вошла Ганна с охапкой дров, красная с мороза. Увидев постояльца, замерла на миг, произнесла тихо:
– Доброго ранку, паночек… Звиняйте: товарищ начальник. – Спросила, глядя в сторону: – Исты будете?
– Умыться бы, – буркнул Исаак.
Она полила ему над тазом из ковша, он ополоснул лицо, обросшее жесткой щетиной, долго растирал его расшитым полотенцем. Сел за стол.
– Горилку будете? – спросила Ганна.
– Нет! – отстранился резко, с испугом. – Я не пью… вообще-то. – Пояснил: – Вчера – это с мороза. Лучше молока.
Пил топленое молоко из большой глиняной кружки с пшеничным хлебом. В кружке плавал слиток коричнево-желтой пенки, который никак не желал оказаться во рту.
Ганна возилась у печи. Потом затихла, всхлипнула.
– Як же мово чоловика и тату, товарищ начальник? Що же з ими будэ? Вы ж учора балакалы, що ослобоните их. Уж вы, будьте ласковы… А уж мы… Мы ничого не пожалеем, усе для вас зробимо, що ни пожелаете, товарищ начальник… – говорила она, глядя на Бабеля черными глазами, в которых дрожали непролитые слезы.
– Да как ты можешь, глупая баба! – вскинул Бабель лобастую голову. – Как можешь ты говорить мне подобные речи! Да за такую кулацкую агитацию… Да ты знаешь, кому говоришь такое? А? – все более распалялся он праведным и облегчающим душу гневом: бабья глупость снимала с него ответственность за вчерашнее обещание освободить ее мужа и отца. Хотя… хотя какие могут быть обещания кулацким элементам! Какая-такая ответственность еврея перед гоями!
Стукнул кулаком по столу, больно стукнул, задохнулся от боли и злости. Минуту пристально разглядывал красивое лицо в испуге замершей женщины, затем, удовлетворенный, поднял кружку, запрокинул голову, вытряхивая в рот неподатливую пенку.
Ганна вдруг качнулась, рухнула перед ним на колени, обхватила ноги руками, тихо заголосила:
– Ой же, звиняйте, товарищ начальник! Ой же, глупая ж я баба! Ой же, мий Грицько, мий чоловик! Ой же, як же мы без йего! Ой же, не губите! Ой же, я з вами усю-то ноченьку… Ой же, да вы мэни усю грудь измордувалы! Ой же, як же я теперь жи-и-ить бу-дууу! О-ооо! – уже в голос завыла она.
– Ладно, ладно! – пытаясь стряхнуть с ног опутавшие их руки Ганны, стал успокаивать ее Исаак. – Ладно, похлопочу за твоего Грицька. Пусти! Да не ори так, черт бы тебя побрал, кулацкое отродье!
Послышалось топанье сапог по ступеням крыльца. Ганна отползла в сторону, стала тяжело подниматься, кривясь лицом от так и не вырвавшихся наружу рыданий. Бабель, вскочив, торопливо натягивал на себя куртку, путаясь в ремнях револьверной амуниции. Уже в дверях услыхал, как на другой половине дома воют дети, не решаясь войти в горницу, где находятся мать и чужой человек. Выскочил на крыльцо, носом к носу столкнулся с Приходько, молодым милиционером, привезшим его в Подникольское. Тот сообщил, что на сельской площади уже собирают народ для зачтения приговора бунтовщикам. Склонился к Бабелю, шепотом добавил:
– Балакають, товарищ Лютый…
– Лютов, – поправил Бабель ворчливо: эти хохлы вечно переиначивают его псевдоним на свой лад.
– Та я ж и кажу, – удивился Приходько, слегка отстраняясь от особоуполномоченного. – Я ж и кажу, що усих бунтовщикив порешать через растрелянне. На площади ж й порешать. Ой, яка хмара, товарищ Лютый! Яка хмара! – И в глазах его Бабель разглядел неподдельный ужас перед надвигающейся неизбежностью.
– Не тебя стрелять будут, а кулаков, врагов трудового народа! – бросил на ходу, сбегая по ступеням крыльца, особоуполномоченный.
Шагая по хрусткому снегу, прижимая к боку свернутую волчью полсть, щурясь от яркого солнца и сверкающего снега, Исаак чувствовал, как в груди, в голове и во всем теле начинает звенеть что-то торжественное, высокое, поднимающее его над жалкими буднями ничтожного бытия.
«… и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи…»
На площади собирался народ, по ее периметру стояли красноармейцы с винтовками, топали ногами, обутыми в валенки. По проулкам скакали верховые, стучали в окна, выгоняли людей на улицу. Захлебывались в злобном лае собаки. Иногда гулко раскатывался выстрел, вслед за ним взлетал к небу истошный собачий визг. Народ тек к площади: женщины, старики, дети. Мужчин немного. Тихий, сдерживаемый стон и женский вой, сливаясь с собачьим лаем, висели в морозном воздухе, поднимаясь вверх по белым столбам дымов из печных труб, затем стекаясь к площади, как дождевые потоки в высохшее озеро.
Через полчаса улочки опустели, плотную массу баб, детей и стариков замкнула густая цепь конников с раскосыми глазами. Утихомирились собаки.
Цепочка красноармейцев выстроилась у кирпичных лабазов, загремели амбарные замки, железные засовы, со скрипом и визгом растворились дубовые двери. Человек в щегольском полушубке встал напротив дверей, стал выкрикивать фамилии, каждая фамилия встречалась истошным бабьим воем. Из дверей по одному выбирались замерзшие вдрызг мужики.
Выкликнули человек сорок. Сбили в кучу, окружили красноармейцами с винтовками "на руку". Колебались направленные на мужиков штыки.
Бабель, не желая попадаться на глаза Косиору, пристроился на противоположном от дома с красным флагом конце площади, возле церковной ограды из кованого чугуна. Слева от него, в десяти шагах, начинался лабазный ряд, справа, за оградой, стояла облупившаяся церковь, на паперти которой четверо красноармейцев устанавливали пулемет. Это были то ли татары, то ли калмыки – Бабель в них не разбирался, все они казались ему на одно лицо. Молодые парни иногда щупали его неподвижную фигуру раскосыми глазами, и Бабеля постепенно стало охватывать знакомое чувство страха, когда ни твое положение в обществе, ни причастность к карающему органу пролетариата, ни даже револьвер под левой подмышкой не могут противостоять этому страху перед жестокой и не рассуждающей азиатчиной. Подумалось: каково было его предкам, рахдонитам, ходившим с караванами шелка из Китая в Европу или перегонявшим толпы рабов с севера на азиатские базары, каково им было встречаться в безлюдной степи с дикими ордами кочевников «с жадными раскосыми очами»? Только надежда на баснословные барыши заставляла еврея пускаться в столь рискованные предприятия. А ему-то какой барыш светит в этом селе, на этой площади? О, великий Яхве!
Вислоусый пулеметчик постелил на паперти кошму, лег за пулемет, взялся за рукоятки, повел тупым рифленым рылом кожуха и торчащего из него ствола поверх голов толпы. Рядом с ним опустился на колени еще один, совсем мальчишка, но уже с презрительно немигающими щелками монгольских глаз. Он заученным движением поднял рамку, вложил пулеметную ленту, захлопнул рамку, покосился на стоящего внизу Бабеля.
"Да, все верно, – торопливо думал Исаак, жадно вглядываясь в бронзовые лица красноармейцев, шаря глазами по лицам баб и детей, белеющим в плотной толпе. – Верно в том смысле, что руки этих азиатов не дрогнут, занося над головой шашку или целясь из пулемета в чужую для них толпу. Как, наверное, не дрогнут руки хлопцев из этого села, которые сейчас в далекой Мордовии или Калмыкии делают то же самое, выполняя волю Мировой Истории на Мировую Революцию. Все правильно: они чужие друг другу. Все они, в свою очередь, чужие поляку Косиору. Не говоря уже обо мне".
Глава 17
Из большого дома появился вчерашний начальник охраны, сбежал по ступеням, встал внизу, застыл черным истуканом. Через минуту в легкой куртке, с открытой грудью, в кожаной фуражке, плотно сбитый, пышущий здоровьем и силой, вышел на крыльцо товарищ Косиор. Оглядел площадь холодными волчьими глазами. По толпе прошла тревожная рябь, постепенно затихли вой и причитания, толпа повернулась к Косиору, замерла в напряженном ожидании.
– А вы как думали! – гулко прокатился по площади зычный голос, и стаи галок и ворон сорвались в серебристой пыли с опушенных инеем тополей, заметались, оглушительно галдя, над головами людей, но через пару минут, успокоившись, вернулись на свои места, лишь иней продолжал искриться в воздухе, опускаясь на женские шали, солдатские шинели и буденовки, на гривы лошадей.
– А вы как думали! – повторил Косиор и посмотрел на тополя, на черные гроздья ворон и галок. – Вы думали, – продолжил он, – что советская власть с вами шутки шутить будет? Вы думали, что большевики свершили великую революцию для того, чтобы вы тут жировали, а рабочие пухли с голоду? Вы думали, что большевики и товарищ Сталин объявили коллективизацию крестьянских хозяйств от нечего делать, и вы можете это объявление большевиков и товарища Сталина бросить в отхожее место и поднять на вилы лучших представителей советской власти? И вам ничего за это не будет? Так вы думали? Вы, сытые, сосущие кровь заводских рабочих и сельской бедноты!..
Оратор задохнулся от ненависти, повел головой, будто воротник косоворотки душил его, выбросил вперед руку.
– Нет, вы не знаете большевиков! Мы не прощаем своим классовым врагам даже косого взгляда в нашу сторону. Сегодня косой взгляд, завтра косой по рабоче-крестьянскому горлу! Кто посеет ветер, тот пожнет бурю! Так было, так будет! Мы еще заставим вас жрать лебеду и крапиву! – выкрикивал он, рубя кулаком воздух. – Вы еще убедитесь, кто в этой стране хозяин! Вы еще пожалеете о своей глупости!
Голос оратора дважды повторило гулкое эхо, метнувшееся над притихшей площадью, окруженной домами, и разлетевшееся дробными осколками по пустым улицам и переулкам. Взметнулись и снова опустились на ветки галки и вороны. Толпа ответила глухим стоном и ропотом.
Косиор ладонью отер губы, обвел глазами площадь, обратился к маленькому, кругленькому человеку в кожаном пальто и заячьей шапке, стоявшему за его спиной, приказал:
– Читай, товарищ Бергман.
Маленький человек шагнул вперед, звонким голосом стал читать приговор, держа бумагу перед собой на вытянутых руках:
– Именем Украиньськой радяньськой социалистичной республики, – коверкая слова, читал Бергман: – Именем ее трудового народа… выездная коллегия верховного суда в составе: председатель – товарищ Бергман, члены коллегии товарищ Шикус и товарищ Серебряный, постановляет: за контрреволюционные действия, выразившиеся в прямом и массовом восстании кулацких элементов села Подникольское, направленные против советской власти и ее политики на всемерную коллективизацию крестьянских хозяйств, наиболее активных участников восстания приговорить к смертной казни через расстреляние, семьи этих активистов, как и прочих рядовых участников восстания, выслать в северные районы страны на вечное поселение с конфискацией движимого и недвижимого имущества. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.
С минуту над площадью висела звонкая тишина. Даже галки и вороны притихли в ветвях тополей, и оттуда, сверху, молча взирали на плотную массу будто навечно окоченевших людей. Лишь было слышно, как бренчат удила верховых лошадей, как бьет кованым копытом в мерзлый снег высокий гнедой жеребец под командиром эскадрона. И вот, когда тишина уплотнилась настолько, что стало невозможно дышать, ее вдруг прорезал звериный вой какой-то бабы, и сразу же площадь, небо над нею, дома и улицы, дальние поля и овраги накрыл рев пятитысячной толпы. Она качнулась сперва в сторону большого дома, над которым висел поникший красный флаг и на крыльце которого толпилась небольшая кучка людей, но наткнулась на оскаленные морды лошадей и занесенные над головой шашки, отшатнулась от этого дома, качнулась к лабазам, замерла, напоровшись на частокол штыков.
Красноармейцы у красной кирпичной стены строили в колонну по три выкликнутых мужиков. «Неужели не здесь?» Бабель почувствовал себя глубоко обиженным и даже обобранным. Ради чего ехал в такую даль? Зачем мерз, стоял, униженный, под волчьим взглядом Косиора? Или тот передумал? Или пришла запрещающая директива? Ерунда какая-то…
Арестованные мужики стояли от него всего в двадцати шагах. Часто крестились, пялились в толпу, вытягивая жилистые шеи. Внимание привлек пожилой хохол с седыми усами. Вот он нашел то, что искал, сорвал с головы баранью шапку, выдохнул хрипло вместе с теплым облаком пара:
– Ганночку! Бережи дитэй! Дитятки мои!..
Крик этот отозвался в толпе звериным ревом, и она, сминая оцепление, вдруг бросилась в разные стороны – одни к лабазам, другие к сельской раде, где стояло приезжее начальство, но большинство в переулки и улицы, выходящие на площадь. Толпа несла в своих распадающихся потоках лошадей и всадников, шишаки буденовок.
Все перемешалось.
Мелькали расширенные от ужаса глаза, разверстые в крике рты. Люди падали, давили друг друга, матери волокли за руки орущих детей. Там и сям зацокали выстрелы, сорвался нестройный залп, зашелся длинной трескотней пулемет на церковной паперти, пули с визгом летели где-то сбоку от Бабеля, но ему не было страшно, он знал, что они предназначены не ему. Ему казалось, что он слышит, как смачно шлепаются пули в овчинные полушубки и свитки, протыкая их и входя в теплое, звенящее каждым нервом человеческое тело. Его же тело ликовало и дергалось, просясь в эту смертельную кутерьму.
"Сюда бы Мопоссана, уж он бы написал, этот сифилитик… Какое пиршество смерти и обновления жизни! Какой животный ужас – с одной стороны, и презрение к жизни – с другой! Впрочем, нет: это не презрение к жизни вообще, а к жизни врагов исторического прогресса. Да-да, только так, ибо революция – это всегда утверждение новой жизни через смерть старой, одряхлевшей… Точно так вызревший к новой жизни в благодатной долине Нила, избранный богом народ Израиля шел затем через трупы и реки крови к земле обетованной, к земле, обещанной ему его богом… Так нынче идем и мы, большевики…"
Слова, слагающиеся в мысли, точно пули проносились в мозгу. Бабель вздрагивал от каждого выстрела, каждого особенно громкого и жуткого крика. Но не отворачивался, не бежал, его властно тянуло туда, где вершилась смерть. Он скользнул вдоль ограды к углу лабаза, выглянул из-за него и стал жадно взирать на корчащиеся в предсмертных муках человеческие тела.
А узкоглазые красноармейцы, оправившись и сбившись в плотные ряды, наступали на толпу, выставив штыки и время от времени отбрасывая толпу слитными залпами.
Метались над площадью вороны и галки, уносились куда-то и возвращались назад.
На крыльце дома под красным флагом уже никого не было.
Минута, другая – все было кончено.
По улицам и проулкам скакали конники, метались темные кучки людей.
"Раскулачивание", – подумал Бабель и торжествующе оглядел площадь, на которой лежало с десяток-другой трупов и раненых, а возле лабазов – кучи человеческих тел.
"Все свершилось само собой, как и должно тому быть".
И тут Исаак увидел девочку, дочку Ганны. И саму Ганну в десяти шагах от нее. Девочка лежала на спине с широко раскрытыми глазами-вишенками, которые уже запорашивались сеющейся из ничего серебристой пылью. А Ганна… Ганна еще была жива. Она все пыталась встать на колени, но руки у нее подламывались, женщина падала, проходило несколько мгновений, она снова начинала шевелиться, вытягивала вперед руки и начинала медленно приподнимать тело…
Бабель смотрел на Ганну, и его все больше и больше охватывала знакомая дрожь нервного возбуждения. Он вспомнил ночь, горячее, но равнодушное тело хохлушки, утреннюю встречу с ее детьми. Он оказался прав: сгинула девчонка, а могла бы… хотя бы своим телом могла послужить… – ну да, революции! чему же еще? – а не так – сгинуть не за понюх табаку. Неосуществленное вожделение исторгло глухой стон из груди писателя.
К Ганне, уже почти вставшей на колени, подошел красноармеец, приставил к голове карабин, выстрелил. Женщина дернулась и уткнулась лицом в истоптанный снег.
Дернулся и задержал дыхание товарищ Лютов.
На другой стороне площади зачихал мотор автомобиля, с крыльца спустилось несколько человек, среди них Косиор. Он сел позади шофера, хлопнули дверцы, автомобиль взревел мотором и покатил. За ним с десяток конников в черных бурках, – будто черные вороны вцепились в гривы лошадей. Замелькали копыта, вытянутые конские хвосты. Через минуту все исчезло в серебристом снежном сиянии.
Кто-то тронул за плечо Бабеля. Он медленно повернул голову, глянул на человека в буденовке странно расширенными блестящими глазами, не узнавая его.
– Товарищ Лютый, – произнес милиционер Приходько, заикаясь. – Йихать пора. Пойихалы, товарищ Лютый, бо я туточки не можу бильш ни одней хвылыночки. Така хмара… Така хмара…
"Что говорит этот кретин? Куда ехать? Зачем? Или все уже кончилось? Так быстро? Нет, надо еще посмотреть… Вон еще одного дострелили… И еще… Странно, но я не чувствую того, что чувствовал раньше, на что рассчитывал… Нет чего-то такого… Нет того гибельного восторга, который охватывает душу и тело, охватывает и поднимает… Привык? Но разве к этому можно привыкнуть? Или сказывается возраст?.. А какое у Ганны было тело! Ах, какое тело! И дочка ее – совсем зазря… А такая свежесть, такая натронутость, незалапанность…"
Только когда копыта лошади знобко застучали по мосту через овраг, Бабель очнулся и огляделся по сторонам. Ярко светило полуденное солнце, нестерпимо блестел снег, в ивняке возились синицы, попискивали, сбивая с веток серебристую пыль. Вокруг лежало белое безмолвие, лишь откуда-то издалека доносился неумолчный, тоскливый собачий вой.
Бабель вдруг почувствовал сосущую пустоту в желудке, проглотил слюну, спросил у возницы:
– У тебя, Приходько, ничего нет насчет пожрать?
– Ни, товарищ Лютый. Ничого нэмае, – ответил Приходько и с изумлением посмотрел на седока.
– Скверно.
Товарищ Лютов сплюнул голодную слюну на убегающий снег, с головой завернулся в волчью доху, притих, свернувшись в комок. И не поймешь, что это лежит в розвальнях на сене – куль с мукой или человек.
Глава 18
Александр Егорович Ермилов после ранения во время стычки с неизвестными недалеко от реки Случ более полугода провалялся в госпиталях: сперва в Минске, потом в Москве. Предплечье, в которое попала пуля, раздробив часть кости, заживало трудно, гноилось, и Ермилову начинало думаться, что этому конца краю не будет, что песенка его будет спета, если врачи решат, что руку необходимо отнять. Но именно тогда, когда он вполне смирился со своей судьбой, его показали старичку-профессору, специально приглашенному в госпиталь, принадлежащий ОГПУ, из института имени Склифосовского.
Профессор, с лицом и руками, усеянными старческими веснушками, с подслеповатыми глазами и мокрыми, беспрерывно шевелящимися губами, долго осматривал и ощупывал жесткими пальцами предплечье Ермилова, потом, отерев губы скомканной марлевой салфеткой, пробормотал, что необходима, мол, операция, иначе больной может остаться не только без руки, но и… – и многозначительно пошевелил пальцами. Пробормотал он свое заключение как-бы между прочим, без уверенности, будто речь шла о чем-то незначительном, пустяковом, а не о человеческой судьбе, так что словам его поверить было не просто трудно, а почти невозможно. Вызывало сомнение, что этот мокрогубый старикашка способен сделать больше, чем другие, уже лечившие Ермилова, доктора.
Ермилов про себя покрыл профессора многоэтажным матом, но возражать не стал: терять было нечего, да и лучше, когда дело доведено до конца. Не важно, до какого, лишь бы полная определенность. Все доктора, с которыми он сталкивался до сих пор, начинали очень решительно, а кончали тем, что впадали в пространные рассуждения о необычности ранения, что кто-то – только не они! – упустил время, воспалительный процесс зашел слишком далеко – и все в этом роде, но никто из них не сознался, что попросту не умеет лечить подобные раны. Вот и этот божий одуванчик вряд ли чем-то от своих коллег отличается. Разве только тем, что профессор. Впрочем, это-то как раз и не вселяло в Ермилова радужных надежд: не верил он ученым мужам, бабка деревенская, казалось ему, знает и умеет больше, чем эти книжники. Ну да черт с ним, пусть режет!
Профессор сам сделал Ермилову операцию, изрядно почистив, как он сказал потом, пораженную кость, и уже через пару недель спала температура, прекратились боли, а еще через неделю Ермилов выписался из госпиталя, вполне здоровый, но не испытывающий ни малейшей благодарности за свое излечение. Да и за что, собственно, испытывать? Каждый делает свое дело по мере своих способностей, и того же Ермилова еще никто ни разу не поблагодарил за его работу.
С месяц после госпиталя Ермилов жил в общежитии при трикотажной фабрике, жил в отдельной комнатушке, томясь от безделья. Если бы не ежедневные посещения процедурного кабинета, где ему делали грязевые ванны, да просиживания в ближайшей библиотеке за книгами и журналами, то жизнь вообще потеряла бы всякий смысл.
От нечего же делать, как поначалу казалось Ермилову, он стал присматриваться к одной женщине, уже не первой молодости, тоже, как и он, проводившей большую часть дня в библиотеке. Она садилась обычно впереди и чуть наискосок от него, так что он видел часть ее лица, собранные в пучок каштановые волосы, розовую мочку уха с серебряной сережкой и тонкую кисть руки. Женщина одевалась просто, но со вкусом, была такая чистенькая и аккуратная, такая воздушная и, вместе с тем, вполне земная, что у Александра Егоровича при виде ее пересыхало во рту и сердце начинало стучать где-то в висках.
Женщина приходила в одно и то же время – в одиннадцать часов утра, обкладывалась книгами по геологии и археологии, листала их, что-то выписывала и на Ермилова не обращала ни малейшего внимания.
Впрочем, он привык, что люди вообще редко обращают на него внимание, считал это положение не только нормальным, но и полезным для себя и своего дела. Однако сейчас у него не было никакого дела, и равнодушие женщины его задевало.
Вскоре Ермилов выяснил, что женщину зовут Галиной Никаноровной Подлиповой, что ей тридцать четыре года. Проследив за ней, он узнал, где она живет, – оказалось, на Пушкинской, в двухэтажном домишке, в коммуналке, в комнате с двумя окнами во двор. Поговорив с соседями, прикинувшись человеком, который хочет обменять свою квартиру в доме на окраине на любую жилплощадь, лишь бы поближе к центру, выяснил, что Галина Никаноровна живет одна, что была замужем, но муж ее то ли погиб, то ли сбежал с белыми.
Раньше бы этот факт остановил его: связываться с женщиной, у которой темное прошлое, не с руки большевику и чекисту, но теперь, спустя двенадцать лет после революции, такое прошлое окружало женщину ореолом загадочности и еще большей привлекательности.
Признаться, Ермилову никогда не приходилось иметь дела с дамами благородного сословия, иначе как в комнате для допросов, и он не знал, на какой козе ему подъезжать к Галине Никаноровне. Он пытался уверить себя, что его тянет к ней из любопытства, что если бы ему была нужна просто баба, то в общежитии их пруд пруди, и он давно бы выбрал себе какую-нибудь не слишком строптивую, тем более что многие заглядывались на него, и среди них попадались очень даже ничего.
Впрочем, заводить любовную интрижку в общежитии, которое тебя приютило, – надо думать, не навсегда, – было последним делом и не лезло ни в какие ворота. К тому же он читал в глазах местных красавиц неприкрытое желание завести не интрижку с непьющим и солидным человеком, а семью. На семью Ермилова, хотя ему вот-вот стукнет сорок один год, не тянуло.
Когда-то Александр Егорович пришел к убеждению, что семья для него, решившего всего себя отдать революции, будет помехой. Годы не поколебали этого убеждения, но время жертвенности, похоже, миновало, дело дошло до того, что отдавать себя попросту стало нечему. Однако ему до сих пор трудно представить рядом с собой еще кого-то. И не на день, не на два, а на всю оставшуюся жизнь. Не исключено, что он попросту не встречал еще такой женщины, которая бы сумела заслонить для него если не все, то хотя бы часть устоявшегося существования.
Неизвестно, как долго бы Ермилов изучал свою соседку по читальному залу библиотеки, если бы о нем не вспомнили на Лубянке. Впрочем, вызов, который он получил оттуда, свидетельствовал как раз об обратном, то есть о том, что о нем там никогда и не забывали.
В холодный январский вечер 1930 года Ермилов вошел в подъезд невзрачного дома на Сокольнической набережной, поднялся по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и постучал в дверь, обитую выцветшей и продранной во многих местах клеенкой.
Его впустил угрюмый мужчина лет тридцати пяти, молча кивнул на приветствие, помог раздеться и провел в другую комнату, ярко освещенную стосвечовой электрической лампой под розовым шелковым абажуром. В комнате за трехногим круглым столом, накрытом вышитой скатертью, сидел лицом к двери плешивый большеголовый человек и что-то писал или рисовал на листе бумаги. Он еще не поднял головы, а Ермилов уже знал, что это ни кто иной, как Ян Карлович Лайцен.
Александр Егорович напрягся и чуть замедлил шаг, но больше ничем не выдал своего замешательства. Подойдя к столу, он выдвинул стул с гнутой спинкой, развернул его и молча уселся на него верхом, не спуская глаз с бывшего заместителя председателя Смоленской губчека, который в двадцать первом поручил Ермилову прикончить крестьянского активиста Ведуновского, а потом, то ли для того, чтобы замести следы, то ли для того, чтобы Ермилов не встретился с Орловым-Смушкевичем, которого Лайцен ожидал в свои начальники, приказал избавиться и от самого Ермилова. Да не на того напал. Но именно с той поры жизнь Александра Егоровича резко переменилась и до сих пор никак не образуется надлежащим образом.
Ермилов понимал, что оказался в этой комнате не для того, чтобы с ним сводили старые счеты и что никакой опасности от Лайцена исходить не может, но нечто заключалась уже в том, что кто-то наверху решил устроить ему встречу именно с Лайценом и тем самым как бы заодно проверить Ермилова на… ну, хотя бы на выдержку и умение вести себя в неожиданных ситуациях. Впрочем, встречу эту мог устроить и сам Лайцен. Ясно лишь одно: Лайцен выбрался наверх, на Лубянке после смерти Дзержинского окопались новые люди, и им для чего-то понадобился Ермилов.
– Так я вас внимательно слушаю, товарищ Лайцен, – негромко произнес Ермилов, вложив в слово "товарищ" некоторый саркастический оттенок, будто не он пришел по вызову, а пришли к нему, Ермилову.
– А что, Александр Егорович, – заговорил Лайцен, как и раньше тщательно подбирая слова и все с тем же грубым прибалтийским акцентом, – здороваться со старыми товарищами уже не обязательно?
Ермилов усмехнулся, сложил руки на спинке стула, уткнулся в них подбородком и снизу заглянул в льдистые глаза Яна Карловича.
– Видите ли, товарищ Лайцен, я привык к тому, что старший по возрасту и званию первым подает руку более молодому и, к тому же, стоящему на более низкой ступени должностной лестницы. Поскольку вы даже не шевельнулись при виде, как вы изволили выразиться, старого товарища, то и у меня на сей счет не возникло никаких желаний. Наконец, между нами, как вам хорошо известно, стоит бедняга Валериан Колесник… царство ему небесное, а через него как-то неловко протягивать руку. Так что лучше сразу о деле.
– При чем тут рука? Этот жест совершенно не обязателен… Впрочем, о деле, так о деле, – согласился Лайцен, покивав крупной головой. – Но прежде чем говорить о деле, я хотел бы выяснить кое-какие детали. Во-первых, как у вас со здоровьем?
– Нормально, – ответил Ермилов, продолжая в упор разглядывать Лайцена.
– Я хотел бы подчеркнуть, – ткнул Лайцен толстым пальцем в бумагу, – что вопрос этот задан не из вежливости. Ваше здоровье – это то главное, от которого зависит все остальное.
– Отвечаю вам со всей ответственностью: рука моя вполне зажила, на лесоповал посылать меня еще, правда, рановато, но через месячишко, думаю, и на эту работу вполне сгожусь.
– Прекрасно, – оценил сообщение Ермилова Лайцен, пропустив мимо ушей намек на лесоповал. – Вопрос второй: как у вас с языками? Не подзабыли за эти годы без, так сказать, практики?
Голос Лайцена звучал размеренно и спокойно, и ермиловские шпильки на его тональность никак не повлияли. Александр Егорович внутренне собрался и настроился на деловой лад.
– Подзабыл, конечно, но насколько, определенно сказать не могу: нужна проверка, – отчеканил он.
– Это мы устроим. Более того, для начала вам придется какое-то время посещать курсы немецкого и французского языков. Об английском и итальянском речь пока не идет. Вы, кажется, владеете испанским?









































