Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга четвертая. Клетка"
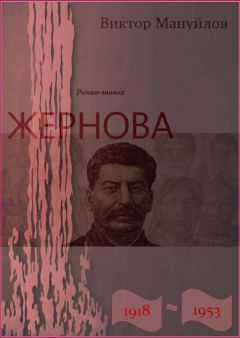
Автор книги: Виктор Мануйлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 6
Все еще спали, когда Плошкин, набросив на плечи телогрейку, надев ватные штаны и сунув ноги в сапоги, выбрался из избушки. За порогом его ожег мороз, но он был послабее вчерашнего, хотя все равно прошлогодняя трава, мхи и ветви кустов заиндевели, ручеек, бежавший в десяти шагах от избушки, звенел своими струями о тонкий прозрачный ледок.
Солнце уже встало из-за сопок, оно растопило иней на вершинах берез и, поднимаясь все выше, зажигало своими лучами все новые и новые огни по ветвям и травам.
– Хорошо-то как, ос-споди! – произнес тихо Сидор Силыч, впервые за последние годы обратив внимание на окружающий его мир и не воспринимая его как нечто враждебное.
Он помочился на корень сосны, снял с веток свою заледенелую одежу, вывесил под солнце. Вздохнул, сделал то же и с тряпьем своих товарищей, подумав, что дня два назад ему бы и в голову это не пришло: в лагере каждый все делал сам, не рассчитывая на помощь других.
Покончив с тряпьем, Сидор Силыч поднялся из распадка на холм и долго смотрел в сторону невидимого отсюда лагеря и рудников, пытаясь представить себе, как развиваются там события.
Последний обвал, вызванный, скорее всего, дурацким криком профессора ботаники, добавил, само собой, работы по расчистке штрека. Неделю будут ковыряться, а то и больше. Опять же, нет никаких гарантий, что не случится новых обвалов. У начальства мозги, небось, в раскорячку. Может, вообще бросят этот рудник или к золотоносной жиле пойдут другим штреком, соседним. Тогда будет считаться, что бригада Плошкина погибла полностью, искать их не станут. Если, само собой, покидая рудник, они там впопыхах не наследили. Правда, он надзирал, но один за всеми не уследишь. Да еще ночью. Стало быть, если все ладно, у него неделя в запасе. Ну, если и не неделя, то дня три-четыре – это уж точно. А если неладно, то охранники уже сегодня будут на заимке. Но как ни крути, а только пускаться в путь, не отдохнув и не отъевшись, верная гибель. Но и засиживаться нельзя: начнется разброд, пойдут свары: без дела люди дичают и отбиваются от рук.
Когда Плошкин вернулся в заимку, он застал своих товарищей сидящими за столом и поедающими вчерашнюю рыбу. При появлении Плошкина один лишь Пашка Дедыко не перестал есть, остальные замерли с полными ртами и уставились на бригадира повинными глазами. Плошкин хотел по привычке рявкнуть на них, но пересилил себя, молча подошел к столу, заглянул в ведро, увидел там кусок лосося, выловил его и сел рядом с Пашкой, отметив про себя, что по одну сторону стола сидят они с Пашкой, по другую – антеллигенты; грузин Гоглидзе, как всегда, особняком: на полу, возле каменки, посверкивает оттуда своим бельмастым глазом.
Когда наконец насытились, – лишь один Каменский торопливо дожевывал кусок, катая его по редкозубым деснам, – Плошкин выложил на стол жилистые руки и, хмуро поглядывая через стол то на Пакуса, то на Каменского, то на Ерофеева, начал излагать свои соображения об их теперешнем положении.
– Искать нас не будут, – говорил он, криво усмехаясь, будто не веря самому себе. – Для них мы упокойники. Стал быть, нам тепереча самое время решать, как и что делать в дальнейшем времени. Можно, к примеру говоря, возвернуться. Я скажу крестному, что выбрались мы чудом, а как только выбрались, был мне голос свыше, чтоб шли на заимку для поправки здоровья. А ваше дело телячье: что бригадир приказал, то вы и делаете. Ну, добавят мне червонец да пять сверху – разницы никакой: все едино подыхать. Да и вам тожеть: если в забое не придавит, так с голодухи. Или загонют на Колыму – уж там точно, там, слыхать, самая смерть. А можно, как я уже сказывал, отъесться на рыбе малость и двинуть к Амуру. Или к Байкалу. Тут, сказывают, недалече: горы энти перевалить, а там все вверх по реке да по реке – аж до Ангары, по Ангаре – к Байкалу, а дальше куды хошь: хошь в Китай, хошь в самую Расею… по железке.
Плошкин замолчал, давая время на раздумья. Он вспомнил, как еще в прошлом году вот в этой же самой избушке заговаривали о побеге, но все как бы в шутку: все трое были из разных бригад, друг друга не знали, и даже шутки такие могли кончиться для кого-то плохо. Плошкин тогда не помышлял о побеге: не видел в этом смысла. И никто, как выяснилось, серьезно о побеге не думал: так, а-ля-ля и ничего больше. Даже казак-амурец, знавший здешние места, – воевал когда-то в этих краях против красных, – даже он о побеге слышать не хотел: семья оставалась в станице и была как бы заложницей у властей на этот самый случай.
А теперь вот… А что, собственно, изменилось? Ничего.
Но возвращаться в лагерь было для Плошкина хуже смерти: он уже вдохнул пьянящего воздуха свободы, дышать другим не хотел и не мог. Оставалось выяснить, как остальные, а там… А там, что бог даст.
Сидор Силыч исподлобья оглядел своих людей, и каждый, встретившись с его сумрачным взглядом, отводил глаза в сторону или опускал их на зачугунелые доски стола.
Пакус ковырял черным ногтем мозоль на скрюченной ладони, и казалось, что он для себя уже все решил, но не спешит поделиться своими мыслями с другими.
Ерофеев, такой же еще пацан, как и Дедыко, разве что года на три-четыре старше, мучительно морщил узкий лоб и поглядывал выжидательно на остальных.
Профессор Каменский волновался, теребя ватник на голой груди, с трудом удерживая на языке готовые сорваться слова, но не был уверен, что пришел его черед высказывать свое мнение, хорошо помня, чем это для него обычно заканчивалось.
На Гоглидзе, как и в лагере, никто не обращал внимания, будто его и не было. Да и он сам ни единым движением, ни единым звуком не выказывал своего присутствия: в лагере им, хлипким и безответным, помыкал всякий.
– Ну! Чего ерзаешь? – тяжелый взгляд глубоких пасмурных глаз бригадира остановился на Каменском, на его изможденном, но будто бы даже помолодевшем от волнения лице, заросшем трехдневной серой щетиной, и заставил того замереть. – Есть чего сказывать, так и сказывай. Чтоб сейчас, вот здеся, как на духу, чтоб потом никаких попятных. Как договоримся, так и будем делать в дальнейшем. Чтоб сообща. Тайга – она тайга и есть. Одним словом: шутить не любит. Тут или пан, или пропал.
– Ну, да! Теоретически – да! Я понимаю, что мы действительно как бы и не существуем, – заторопился Каменский, часто моргая выцветшими, некогда карими глазами. – Но практически… практически ничего не выйдет. Если даже мы и дойдем до Амура, – я уж не говорю о Байкале, – то дальше нам хода нет. За границу? А как?.. Да, кстати! – робко протянул он руку к Плошкину. – Я извиняюсь, Сидор Силыч, но… как это бы вам сказать… Во-первых, там, за Байкалом, Монголия, а Китай совсем в другом месте; во-вторых, извиняюсь, мы выйдем к Лене, а до Ангары – это о-е-ей еще сколько! Но дело даже не в этом. Положим, вышли к Амуру, за Амуром – Китай. Амур – это, батенька мой, похлеще Волги будет! Да-с! А еще там пограничники, собаки, колючая проволока. Да и японцы… – там ведь на границе японцы! – они же нас за шпионов примут! А как же! Теперь о том, что касается железной дороги! Как по железной дороге без денег и документов? До первого же милиционера! Но даже если предположить, что все устроилось благополучно, вот он ваш родной дом – и что? Как жить в этом доме? Да и возможно ли? На каких правах? На каких основаниях? Нет-нет, практически это совершенно неосуществимо! Да-с! Единственная возможность, – если, разумеется, не возвращаться в лагерь, – это забраться в какую-нибудь глухомань, построить там дом и жить, добывая пропитание охотой и огородничеством. Единственная практическая возможность! Мировой практике такие случаи известны: Робинзон Крузо, например. А в России – старообрядцы, раскольники: уходили в тайгу и жили себе ничуть не хуже других…
– Я совершенно серьезно! – воскликнул Каменский, заметив усмешку на лице Плошкина, и вновь протянул к нему руки. – Вы, Сидор Силыч, как я понимаю, поддались естественному порыву: свобода, кому ж не хочется! – но не учли многих факторов. Да все, разумеется, и невозможно учесть! Да-с! Я это не в укор вам говорю. Да-с… Так вот-с…
И замер, беспомощно моргая глазами и озираясь. Но тут же спохватился:
– Так о чем это я? Ах, вот! Теперь глянем с другой стороны. Положим, мы вернемся в лагерь. Во-первых, мы вернемся добровольно, что значительно снизит нашу вину в глазах закона. Во-вторых, мы живы, что для общества тоже не безразлично, то есть мы с вами можем принести ему определенную пользу. Скажем, наловим рыбы и насолим ее, как вы, Сидор Силыч, делали в прошлом году: начальству не придется отрывать других для этой работы. То есть я хочу сказать, что с юридической стороны здесь у нас значительно больше шансов, чем в первом случае. Поэтому я, извиняюсь, стою за добровольное возвращение в лагерь.
– Та-ак, – протянул Плошкин с издевкой, с трудом дождавшись окончания речи бывшего профессора и дивясь его способности говорить так долго и почти без запинки. – Значит, прох-хвессор хочут возвернуться. Ну а что скажут другие? Ты вот, к примеру, э-э… что скажешь? – уперся Плошкин взглядом в Пакуса, к которому раньше если и обращался, то не иначе как "жидовская рожа", "антеллигент" или "лягавый". – Тоже на нары возвернуться желаешь? Тоже по кайлу соскучился? Давай выкладай свою диспозицию!
Пакус… Лев Борисович Пакус, ровесник Плошкина, тонколицый еврей с неестественно высоким лбом, точно этот лоб соорудили в надежде на великие свершения, с островком редких волос на макушке, плотно прижатыми к голове ушами, поднял на бригадира свои печальные маслиновые глаза, тихо произнес шепелявым из-за выбитых на допросах зубов голосом:
– Я – как все, – облизал синюшные губы и снова уставился в свою ладонь.
– Та-ак! – крякнул Плошкин и сжал свои черные кулаки.
– Ну а вы, вьюноши? Вы-то в какую сторону собираетесь? Домой аль на нары?
– Я – до хаты! – выпалил Пашка Дедыко, сверкнув черными выпуклыми глазами.
Пашка видел лишь в одном бригадире стоящего мужика, к которому можно прилепиться, а куда поведет его этот мужик, для Пашки большого значения не имело. Но грезились ему Кубанские плавни, где можно отсидеться какое-то время, а там податься в горы, к разбойным чеченам или ингушам, а можно и в Турцию или в Болгарию, куда ушло много станичников как с Терека, с Дона, так и с Кубани.
– На нары я бильш не хочу! – решительно рубанул воздух кулаком Пашка. – А в Китае, балакали, тэж казаки водются: и амурськи, и забайкальськи. Можно поперва к им. Я за тэ, щоб тикать видселя як можно скорийш. Ось мое остатне слово. – И с вызовом уставился на Димку Ерофеева.
Димка вытер под носом тыльной стороной широкой ладони, произнес не слишком уверенно:
– Так я тоже… это… А только я на помилование подал… Придет бумага, а меня нету. Что тогда? – И повернулся к профессору, ища у него поддержки.
– Да-да, это очень даже существенно! – воскликнул обрадовано Каменский. – Я, между прочим, тоже подал на пересмотр моего дела. И, насколько мне известно, Лев Борисович тоже. За нами нет никаких преступлений, мы себя врагами народа не считаем. В нашем случае это либо юридический казус, либо произвол местных властей. Да-с! А побег – это уже статья, это чревато юридическими последствиями на, так сказать, законных основаниях… Вот видите, Сидор Силыч, нас трое, то есть большинство, – с некоторой даже торжественностью заключил Каменский.
Плошкин измерил его тяжелым взглядом, сунул руку под стол, что-то там громыхнуло – и на стол лег топор.
– Нас тожеть трое, – произнес он с мрачной усмешкой, наслаждаясь тем, как побледнели и отшатнулись от стола антеллигенты. – А вас покамест двое. Что до вашего третьего, так энтот… Лев-то ваш Борисыч, тапереча умный стал, тапереча он как все, а раньше хотел, чтоб было наоборот: чтоб все, как они пожелают… большевики то есть… Как все-е! – передразнил Плошкин Пакуса, скользнув по его лицу взглядом серых безжалостных глаз.
Пакус оставил в покое свою ладонь, поднял голову и, ни на кого не глядя, заговорил тихо, устало, словно ему надоело повторять одно и то же:
– Вы ошибаетесь, Сидор Силыч: большевики тут ни при чем. Все значительно проще: монархия в России себя изжила, страна нуждалась в обновлении, кроме большевиков сделать это было некому. Несколько десятков тысяч членов большевистской партии не смогли бы перевернуть такую огромную страну, как Россия, если бы сама Россия этого не захотела. А еще война… Вы, насколько мне известно, в империалистическую воевали. Очень вам воевать хотелось за всякие там босфоры и дарданелы? А большевики дали России мир.
– Ну, энто еще как глянуть, – усмехнулся Плошкин. – С германцем я два года воевал – это точно. Потом, почитай, год за белых, потом за красных год с гаком. Мира мы не видывали.
– В том, что мир не получился, вины большевиков нет…
– Вот тут вы изволите врать, уважаемый э-э… так сказать, товарищ Пакус, – зачастил Каменский, поворачиваясь к Пакусу. – Факты говорят совсем о другом-с. Революция в России нужна была Германии, кайзеру, война гражданская тоже была нужна немцам же. За то они вам, большевичкам, и деньги платили. А не случись гражданская война, куда б пошла вся та сила, что имелась у России? Ась? Вопрос! И для Германии очень даже существенный вопрос. Можно сказать, вопрос жизни и смерти… Потому-то они вас, большевичков, во главе с Лениным-Ульяновым и Троцким-Бронштейном… – захлебывался злыми словами Каменский и даже кулачки сжал до побеления пальцев, – весь ваш жидовский кагал, так сказать, да в пломбированном вагончике-с, вагончике-с: пожалте, господа-товарищи, изничтожайте великую Россию, крушите церкви, загоняйте народ в колхозы, в лагеря, стреляйте, вешайте!.. У-у, нех-хрести! У-у, исчадия ааа-да! От той же лютой беды – попомните мои слова! – и сами сгинете с лица земли! – И кликушески воздел скрюченный палец к черному потолку.
Глава 7
На пару минут в избушке установилась зловещая тишина. Все смотрели на Пакуса и всем без исключения казалось, что вот он тот враг, из-за которого произошли все их несчастья и мытарства. Они в заключении позабыли и про Великую Россию, и про многое такое, что волновало их на свободе. Запальчивые, злые слова профессора что-то пробудили в них, подняли удушливую волну из самой глубины души, откуда-то из живота, а может, и ниже. Они почувствовали, как их охватывает нерастраченная ненависть к этому лобастому человеку, который и большевик, и жид, и чека, и все остальное, и вот так сошлось по воле судьбы, что его будто специально выдали им на расправу, чтобы отомстить за всё и за всех.
Даже Димка Ерофеев – и тот смотрел на Пакуса с удивлением: они-то на рабфаке учили-учили про коммунистов-большевиков, про их честность, бескорыстие, принципиальность и преданность мировой революции, про их страдания за простой рабочий народ, а на самом деле – вон что: какие-то немецкие деньги, пломбированные вагоны, презрение и ненависть к Великой России. Да и Сонька Золотая Ножка – она ведь тоже большевичка, и воспоминание о своих муках, принятых от этой жидовки, болью отдалось в Димкином изуродованном естестве, и он, сунув руку в штаны, бережно обхватил его ладонью и даже дышать стал тихо, через рот.
Один Пакус, похоже, ничего не видел и не слышал. Он потер свой неестественно огромный лоб, тихо произнес:
– И охота вам, Варлам Александрович, повторять измышления монархистов о пломбированном вагоне и прочей дребедени? – И равнодушно пожал плечами. – Не смешно: кучка большевиков, да еще, к тому же, привезенных, по вашим словам, в запломбированном вагоне, смогла перевернуть Россию… Если бы не было на то объективных условий…
– Во-первых, это не измышления, а факты-с, факты-с! Да-с! – запальчиво воскликнул Каменский, брезгливо отодвигаясь от Пакуса. – И не монархические, как вы изволили выразиться, а факты, вскрытые именно нашей партией – партией конституционных демократов! Во-вторых, если говорить о так называемом революционном процессе, то это, знаете ли, как в химии: реакция может идти нормально, а может взрывообразно, но во втором случае необходим катализатор. Жиды со своей партией большевиков и явились таким катализатором, который привел к страшному, разрушительному взрыву…
Атмосфера ненависти вроде бы разрядилась после слов Каменского, люди почувствовали себя неуверенно: черт их разберет, этих интеллигентов, кто из них прав, а кто виноват! Вот если бригадир скажет…
Но Пакус снова заставил всех насторожиться.
Он презрительно передернул плечами, как бы отстраняя всех от себя и устанавливая некую дистанцию между собой и остальными. Конечно, он и сам хорошо знал, что Ленин вместе с группой видных партийцев вернулся в Россию действительно через враждебную Германию и не без содействия ее властей, и будто бы именно в запломбированном вагоне, к чему особенно почему-то цеплялись враги большевиков и советской власти. Но для него, для Пакуса, смысл этого вагона был совсем не тот, что этому вагону приписывали, следовательно, и самого вагона как бы не существовало. Этого вагона не будет до тех пор, пока люди не поймут, что дело не в том, каким образом эмигранты-ленинцы оказались в России в то сложнейшее военное и революционное время, а в той великой цели, которую они преследовали. А ради такой цели можно пойти на сделку и с заклятым врагом. И даже взять у него деньги. Но стоит ли рассказывать им обо всем этом?
– Партия большевиков не есть еврейская партия, – терпеливо, не повышая голоса, продолжал отбиваться Пакус. – Это партия рабочего класса России, всего ее трудового народа. Более того, большевики смогли придать стихийному движению масс правильное направление, указать массам действительный выход из тогдашнего невозможного положения…
– Действительный выход из тогдашнего положения указывали мы, партия конституционных демократов! – вскрикнул Каменский, перебивая Пакуса. – И выборы в Учредительное собрание подтвердили нашу правоту, показав, что за большевиками стоит ничтожное меньшинство. Если бы так называемые массы прислушались к нашему голосу и не позволили Ленину разогнать законно избранный орган, то вы бы, уважаемый, сидели бы сейчас в своем Бердичеве… или как там его? – сидели бы в теплой квартире, под боком у жены, а не в этой… а не в этом… – Каменский так разволновался, что замахал руками, закашлялся и затряс седой головой, не находя слов.
– Так ведь не прислушались же! А, Варлам Александрович? В этом все и дело, что не прислушались, – с саркастической усмешкой на лице торжествовал Пакус. – Вы вот спросите хоть у Ерофеева, почему рабочие пошли за большевиками, а не за вами, кадетами, не за черносотенцами, и даже не за эсерами и меньшевиками, – он вам ответит.
– Ерофеев? Много понимает этот ваш Ерофеев! – картинно вскинул вверх руки Каменский и тут же пренебрежительно отмахнулся: – Да он в те времена пешком под стол ходил, где уж ему понимать!
– Почему не понимаю? – обиделся Димка Ерофеев, приходя в себя от боли и постепенно освобождаясь от удушливой волны ненависти. – Очень даже хорошо понимаю…
– Уж не за это ли понимание жидовка отбила твою ялду? Уж не за это ли упекли в лагерь? Ась? – скорчил шутовскую рожу Варлам Александрович, заглядывая снизу вверх в лицо Ерофееву. – Вызубрить пару лозунгов – не значит иметь свою позицию. Впрочем, давай, пролетарий, выкладывай! Порадуй своего духовного наставничка. Тем более что вы с ним теперь как бы одной веры: он обрезанный, а ты отбитый. Два сапога – пара.
Димка Ерофеев скрипнул зубами: ему хотелось влепить этому профессору хорошего леща, но слишком жалок был старик Каменский, слишком дохл даже для Димкиных неокрепших кулаков. И он, отвернувшись от него, наморщил узкий лоб, пытаясь сосредоточиться и вспомнить все, что им когда-то говорили на собраниях и лекциях, что сам он вычитал из мудреных книжек о роли рабочего класса в мировой истории и мировой революции, что изучали они на внестудийных занятиях.
Увы, ничего не вспоминалось.
Конечно, Каменский ему не нравился, потому что был буржуем, но и Пакус не нравился тоже, хотя и стоял вроде за советскую власть, то есть за власть рабочего класса: в них обоих чувствовалась пренебрежительность и высокомерие по отношению к нему, рабочему человеку, и его рабочая сущность бунтовала в нем и требовала как-то себя проявить, защититься, показать, что рабочий человек и без них стоит немалого.
– Я, конечно, университетов не кончал, – начал Димка Ерофеев где-то слышанной фразой, стараясь говорить размеренно и веско. – Я только один курс рабфака, а на втором меня взяли… Но мы тоже… это… изучали Маркса с Энгельсом и товарищей Ленина и Сталина… насчет, так сказать, мировой революции и классовой борьбы. И у них там все очень хорошо и правильно написано, как рабочий класс вместе с остальным трудящимся народом… это… перекует сознание в построении коммунистического общества. У Энгельса прямо так и сказано, что и буржуазия тоже перекуется. Вот.
– Это где ж у Энгельса сказано такое? – сдерживая смех, воскликнул Каменский, подмигивая и кривляясь. – Я, правда, не от корки до корки, но кое-что читал, и что-то не помню, чтоб и буржуазия по Энгельсу встала когда-нибудь на точку зрения коммунизма.
– А это… я уж забыл, как называется, – стушевался Ерофеев, не слишком уверенный в своих познаниях. – Это у Энгельса книжка такая про рабочий класс Англии. Вот. Мы ее в кружке проходили…
Димка вспомнил, что книжку эту у него забрали при аресте вместе с другими его книжками и тетрадями, а в книжке были закладки, а на закладках Димкины же записи. Кстати, и про буржуазию, которая будто бы встанет на позицию пролетариата, потому что эта мысль Энгельса ужасно поразила не только одного Димку, но и всех остальных кружковцев. К тому же она, эта мысль Энгельса, перекликалась с утверждением Бухарина, что и кулак постепенно перекуется и тоже встанет на позицию… – тогда об этом много говорили и спорили.
– Там несколько не так, – вставил Пакус, но уточнять не стал. И поморщился, как от зубной боли.
– Как не так? – вдруг ни с того ни с сего вскипел Димка, которого задело именно это пренебрежение.
Несколько секунд он смотрел на Пакуса сузившимися злыми глазами, ожидая разъяснений, но Пакус снова уставился в ладонь и продолжил ковыряние мозоли.
Вдруг Димкины глаза блеснули какой-то мыслью, и он выпалил:
– А у Маркса, между прочим, сказано, что при социализме евреев не будет. Вот!
– Ох-ха-ха-ха-ха! – зашелся смехом Каменский, и все тоже засмеялись, почувствовав неожиданно облегчение, словно должны были совершить что-то страшное, запредельное, но, слава богу, не совершили.
Все смеялись, широко разевая рты, хотя никто не понял, что такого смешного сказал Димка Ерофеев и что так развеселило Каменского. Смеялся даже Пакус, но сдержанно, с достоинством человека, во всем соблюдающим меру.
– И куда ж они подеваются, евреи-то эти ваши, позвольте вас спросить, молодой человек? – насмеявшись и вытирая мокрые глаза ладонью, уставился на Ерофеева, будто на дурачка, бывший профессор. – Вы уж нас, будьте любезны, просветите на этот счет. Вот и товарищу Пакусу тоже, небось, интересно, кем он будет считаться, когда вы построите свой социалистический коммунизм.
– Это в самом начале у Маркса сказано, в первом томе то есть, про евреев-то, что капитализм как бы их рождает, а коммунизм… или социализм – не помню уж точно, что там происходит… – серьезно, не замечая насмешки, пояснил Ерофеев.
– Там несколько не так это трактуется, – снова вставил Пакус и поджал губы.
– Отчего же не так, любезнейший? – вскинулся Каменский. – Все сходится, все сходится! Все именно так! Да-с! К тому же, как говорится, устами младенца – в данном случае пролетария – глаголет истина, которую вы сами же и пожелали услышать, – частил Каменский, радостно потирая руки. – Вот был жид Пакус, теперь он, простите, уже и не жид, и не еврей, а зэк под определенным номером… Так постепенно и не станет ни тех и не других. И слава богу и товарищу Марксу! Между прочим, молодой человек, про нас, про русских, у Маркса ничего нетути? Ась? – снова уставился насмешливым взглядом в лицо Ерофееву бывший профессор. – Может, при коммунизме и русских не станет? Или, что вполне возможно, их рассеют по свету, чтобы всюду насаждать свой русско-жидовский коммунизм? Нуте-с?
– Мы не всего его прошли, в смысле – Маркса, только первые два тома, – нахмурился Ерофеев, разглядывая потолок и как бы давая этим понять, что он больше разговаривать не собирается.
– Да, вот вам пожалуйста, – с деланным сочувствием заговорил Каменский, знавший историю Ерофеева, поскольку писал за него прошение на пересмотр дела. – Захотели несколько сознательных пролетариев самостоятельно изучить так называемых основоположников, в смысле – Маркса унд Энгельса, а властей предержащие страшно испугались: вдруг им, пролетариям, придет в голову что-нибудь этакое действительно по Марксу, и… извольте-с, товарищи гегемоны, за решеточку-с, за решеточку-с!
Помолчал, посерьезнел.
– Между прочим, не вы первые, не вы и последние: все мировые идеи боялись и до сих пор боятся тщательного их изучения: и христианство, и магометанство, и буддизм, и… и иудаизм тоже, хотя это не мировая идея, а исключительно национальная. Или даже кастовая, языческая. Да-с. И практически все мировые идеи трактуются исключительно теми, кто на них паразитирует. Как справедливо заметил ваш новоявленный Моисей-Ленин, если идея овладела массами, то без крови не обойтись. К сожалению. Но такова природа человеческого общества: заклинания на него действуют, когда оно к тому предрасположено, а отрезвляет это общество им же пролитая кровь. Коммунистическая идея слишком молода и еще не напиталась кровью до такой степени, чтобы люди отшатнулись от нее в ужасе… Впрочем, нам не дано знать наперед, чем это кончится. Но кровь была и еще много будет крови. Да-с. Что касается жидов, так первый шаг в этом направлении сделан: были жидами, стали евреями. А ведь на Руси их жидами называли не одну сотню лет. И само слово жид не есть кличка, а обозначение нации. Если по-ученому – этноним, и произошел от немецкого Jude. Но господам жидам оно не нравится, потому что напоминает нам, русским, о том, как они грабили и обирали русский народ. Вот они и запретили жида, заменили его евреем, хотя в Библии этого слова нет, а есть иудей, израильтянин. И теперь за жида могут и к стенке поставить: оскорбление нации. Очень даже запросто. Они даже Пушкина отредактировали: было «Куда, жидовка молодая?», а стало «Куда, еврейка…» И в словаре Даля жид исчез, будто и не было. Случись в Германии революция, они и там юдэ заменят на что-нибудь другое. В Польше жид только так и обозначаются. И газета имеется «Жидовски новины». И еще много чего. Может, именно поэтому Троцкий гнал Тухачевского к Варшаве, чтобы все переименовать.
И Каменский поник плешивой головой, как поникает адвокат перед непроходимой тупостью своих оппонентов.
Пакус было дернулся что-то возразить, однако, заметив на себе ненавидящие взгляды, стушевался.
И снова на какое-то время в тесной прокопченной избушке воцарилось молчание. Первым очнулся Плошкин. Он оглядел всех тяжелым взглядом из-под густых бровей, прихлопнул по столу ладонью.
– Ну, будя! – произнес он, будто ставя точку. – Большевики, кадеты, жиды – всё одна сволочь! И на тех и на других я самолично насмотрелся, и те и другие народу без надобностев. Вы, которые кадеты, об народе не шибко-то печалились, а все больше о своих поместьях да капиталах. А про то рассуждение, что большевиков да жидов было мало, и они не могли… это самое… революцию изделать сами по себе, так я вам случай расскажу…
Плошкин качнул головой, усмехнулся, будто что-то увидев невидимое никому, заговорил потеплевшим голосом:
– Да-а. В деревне энто у нас приключилось. Еще при царе… Царствие ему небесное. Жила, стал быть, у нас там баба одна, Степанидой прозывалась. С мужиком, само собой. А детишков бог не давал. Баба, промежду прочим, ядреная, здоровенная. Мешок в пять пудов ей – тьфу! Во! Бывалоча, какой мужик, хоть и при силе, сунется к ей насчет полапать там али еще чего, так она так его турнет, мужика-то, что он, бывалоча, носом такую борозду в земле пропашет, что твоя соха. Да-а…
– И вот как-то напала на ее хворь. На Степаниду-то. Просквозило али еще чего. Жаром от ее так и шибает. Лежит – ни рукой, ни ногой. Вроде как помирать собралась. Мужик ейный, Мирон, спужался, в бричку да в город за фершалом. А баба-то, стал быть, в избе одна осталась. И жили у их по соседству на ту пору Колодины, крестьяне справные, а у их сын – карла. Чуток выше коленки, – показал Плошкин ладонью от пола.
– В возрасте, однако, – добавил Сидор Лукич, снова качнув удивленно головой, как будто и сам не верил, что была у него когда-то другая, не лагерная, жизнь. – Промежду прочим, братьев и сестер имел нормальных, а сам вот ростом не вышел: жила какая-то порченой оказалась. Да. И чегой-то он в избу к Степаниде-то и зайди на тот самый момент. По надобности по какой. Мало ли…
– Зашел, стал быть, глядит: Степанида растелешилась на постели-то, заголилась. А сама вроде как не в себе. Ну а он – даром что карла, а все ж таки мужик во всем своем естестве. И польстился, стал быть, на Степаниду-то, на хворую. Она ему: "Да что ж ты такое со мной вытворяешь, супостат энтакий?" И рукой-то его мац-мац, да силов, однако, нету никаких, чтоб, значит, карлу-то с себя спихнуть. А он что? А он пристроился промеж бабьих ляжек, делает свое дело и делает. Воспользовался, значица, таким ее положением… Вот как оно бывает-то! – заключил Плошкин и выжидательно оглядел притихшую компанию.
Первым не выдержал Пашка Дедыко: зашелся смехом, загоготал, засучил под столом ногами, затылком о стену стукнулся, скривился от боли, и еще пуще стало раздирать его смехом.
За ним расхохотались остальные.
И Плошкин тоже.
Когда насмеялись, Каменский, вытирая глаза, спросил:
– И что ж Степанида-то эта?
– А ничего, – усмехнулся Плошкин. – Родила потом девку.
– Девка-то хоть нормальная? – это уже Пакус, и не без тайного умысла.
Плошкин глянул на него, погасил улыбку, ответил неохотно:
– Нечего бога гневить: нормальная девка получилась.
– Вот видите? – назидательно произнес Пакус.
– Неча тут глядеть, – повысил голос Плошкин. – По-нашему, по-простому, по-крестьянски ежли, так больную бабу, какая та ни есть, и карла ссильничать может. Вот и Расею тожеть… А по-вашему, по-ученому, по-антеллигентски то есть, один сплошной туман и никакого понятия. А только если Расею ссильничать, то ничего путного она родить не сможет, а дите, какое родится, потом своих же родителей по миру пустит. Это завсегда так бывает.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































