Текст книги "Жизнь Булгакова. Дописать раньше, чем умереть"
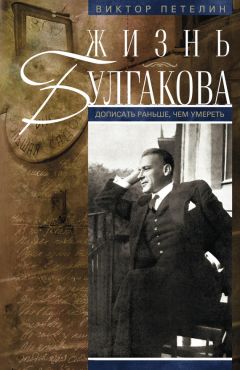
Автор книги: Виктор Петелин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
«Трудно не сойти с ума, – записывает Булгаков 23 декабря 1924 года. – Впрочем, у старой лисы большее чутье, чем у Василевского. Это объясняется разностью крови. Он ухитрился спрятать свою фамилию не за одним псевдонимом, а сразу за двумя. Старая проститутка ходит по Тверской все время в предчувствии облавы. Этой – ходить плохо… Все они (бывшие накануневцы. – В. П.) настолько считают, что партия безнадежно сыграна, что бросаются в воду в одежде… Какие бы ни сложились в ней комбинации – Бобрищев погибнет… Василевский же мне рассказал, что Алексей Толстой говорил:
– Я теперь не Алексей Толстой, а рабкор-самородок Потап Дерьмов. Грязный, бесчестный шут.
Василевский же рассказал, что Демьян Бедный, выступая перед собранием красноармейцев, сказал:
– Моя мать была блядь…»
Конечно, Алексей Толстой в шутку мог что-то подобное сказать, он любил розыгрыши, любил что-нибудь «отмочить», вполне возможно, что «рамолентный» (старчески расслабленный. – В. П.) мог принять эту шутку всерьез и всерьез же передать ее Булгакову, бескомпромиссному и беспощадному к самому себе и к другим. Но ясно и другое, что позиция и Алексея Толстого, склонного к компромиссам, отвергается Булгаковым как неприемлемая для него как писателя.
Характерен в этом отношении случай, который произошел на вечере у Ангарского. Как обычно в писательской среде, и здесь зашел разговор о цензуре, говорили разное, но чаще всего нападали на нее, говорили о писательской правде и лжи. В разговоре принимали участие В. Вересаев, Н. Никандров, В. Кириллов, Н. Ляшко, В. Львов-Рогачевский… Булгаков знал, что в такой разношерстной аудитории не следует ему выступать и говорить то, что думает о цензуре, но не сдержался и пожаловался на цензуру, которая снимает у него то фельетоны, то целые куски из повестей: так трудно работать, трудно быть самим собой. Н. Ляшко, пролетарский писатель, не скрывая раздражения, возражал Булгакову, не понимая, почему нужно изображать полную правду: «Нужно давать чересполосицу»… Когда же Булгаков сказал, что нынешняя эпоха – это «эпоха свинства», Ляшко с ненавистью возразил ему:
– Чепуху вы говорите…
«Не успел ничего ответить на эту семейную фразу, – записывает Булгаков 26 декабря 1924 года, в ночь на 27-е, – потому что вставали в этот момент из-за стола. От хамов нет спасения… Ангарский (он только на днях вернулся из-за границы) в Берлине, а кажется, и в Париже всем, кому мог, показал гранки моей повести „Роковые яйца“. Говорит, что страшно понравилось и (кто-то в Берлине, в каком-то издательстве) ее будут переводить.
Больше всех этих Ляшко меня волнует вопрос – беллетрист ли я?!»
Этот вопрос мучает его постоянно; порой, в минуты «нездоровья и одиночества», предаваясь «печальным и завистливым мыслям», он горько раскаивается, что бросил медицину и обрек себя «на неверное существование». Но главная причина в том, что любовь к литературе непреодолима в нем и только этим он может заниматься. И угнетенное расположение духа сменяется у него ликованием, как только он видит опубликованным из того подлинного, заветного, которым он так дорожит. В последние дни 1924 года он, как обычно, «десятки раз» проходил по Кузнецкому Мосту и случайно увидел 4-й номер «России»: «Там – первая часть моей „Белой гвардии“, т. е. не первая часть, а первая треть. Не удержался и у второго газетчика, на углу Петровки и Кузнецкого, купил номер». И тут же, конечно, начал листать страницы журнала, еще пахнущие типографской краской. Какое это наслаждение! Забыты все муки творчества, все тревоги, связанные с его публикацией, таилась в глубине души только неуверенность, будут ли его читать… «Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих ощущениях я уже больше не могу. Больше всего почему-то привлекло мое внимание посвящение. Так свершилось. Вот моя жена», – записывает в дневнике Булгаков «в ночь на 28 декабря».
Роман Булгаков посвятил Любови Евгеньевне Белозерской. И сейчас, рассматривая посвящение, Булгаков поморщился, явно недовольный поспешностью посвящения: почему Белозерской? А не Булгаковой? И он с наслаждением зачеркнул «Белозерской» и вписал – «Булгаковой».
Часов до четырех проговорили Михаил Афанасьевич и Любовь Евгеньевна… Так уж сложилось, что почти каждую ночь они не спали до трех-четырех часов. Булгаков называл установившийся порядок «дурацким обиходом», но ничего поделать не мог. Вставали поздно, в двенадцать, «а иногда и в два».
Булгаков написал роман при Татьяне Николаевне, а заканчивал уже при Любови Евгеньевне. Ей и достались лавры победительницы… И неудивительно. Булгаков с каждым днем чувствовал, что все больше и больше влюбляется в свою жену, удивляется ее способности так быстро и уютно устраиваться в быту, не уставал смотреть, как она ходит, говорит, иной раз и мелькнет мыслишка-вопрос: «При всяком ли она приспособилась бы так же уютно или это избирательно, для меня»… И тут же признается: «Не для дневника, не для опубликования: подавляет меня чувственно моя жена. Это и хорошо, и отчаянно, и сладко, и в то же время безнадежно сложно: я как раз сейчас хворый, а она для меня… Сегодня видел, как она переодевалась перед уходом к Никитиной, жадно смотрел. Политических новостей нет, нет. Взамен их политические мысли.
Как заноза сидит все это сменовеховство (я при чем?) и то, что чертова баба завязила меня, как пушку в болоте, важный вопрос. Но один, без нее, уже не мыслюсь. Видно, привык», – записывал Булгаков в дневнике.
И не только привык, но и почувствовал, что Любовь Евгеньевна способна хорошо устраивать его издательские дела: рукопись романа «Белая гвардия» сдали в издательство Сабашникова, но Лежнев тоже хотел издать роман, который он печатал в журнале. «Люба отказала, баба бойкая и расторопная, и я свалил с своих плеч обузу на ее плечи. Не хочется мне связываться с Лежневым, да и с Сабашниковым расторгать неудобно и неприятно. В долгу сидим как в шелку», – записывает Булгаков 29 декабря 1924 года. Но Лежнев все-таки уговорил Булгаковых, и в начале 1925 года выработали договор на продолжение «Белой гвардии» в журнале и в издательстве. Пришлось пойти на этот договор, потому что «денег у нас с ней не было ни копейки». Но на следующий же день Лежнев пообещал дать 300 рублей. «Забавный случай: у меня не было денег на трамвай, а потому я решил из „Гудка“ пойти пешком. Пошел по набережной Москвы-реки. Полулуние в тумане. Почему-то середина Москвы-реки не замерзла, а на прибрежном снеге и льду сидят вороны. В Замоскворечье огни. Проходя мимо Кремля, поравнявшись с угловой башней, я глянул вверх, приостановился, стал смотреть на Кремль и только что подумал „доколе, Господи“, – как серая фигура с портфелем вынырнула сзади меня и оглядела. Потом прицепилась. Пропустил ее вперед, и около четверти часа мы шли сцепившись. Он плевал с парапета, и я. Удалось уйти у постамента Александру». (Сам памятник Александру II был снесен сразу же после Октябрьского переворота. – В. П.)
Приведу еще несколько записей, которые весьма органично вписываются в самохарактеристику Булгакова. Вернемся на несколько дней назад.
В ночь с 20-го на 21 декабря. «Опять я забросил дневник. И это к большому сожалению, потому что за последние два месяца произошло много важнейших событий. Самое главное из них, конечно, – раскол в партии, вызванный книгой Троцкого „Уроки Октября“, дружное нападение на него всех главарей партии во главе с Зиновьевым, ссылка Троцкого под предлогом болезни на юг и после этого – затишье.
Надежды белой эмиграции и внутренних контрреволюционеров на то, что история с троцкизмом и ленинизмом приведет к кровавым столкновениям или перевороту внутри партии, конечно, как я и предполагал, не оправдались. Троцкого съели, и больше ничего.
Анекдот:
– Лев Давидыч, как ваше здоровье?
– Не знаю, я еще не читал сегодняшних газет. (Намек на бюллетень о его здоровье, составленный в совершенно смехотворных тонах)…
Москва в грязи, все больше в огнях – и в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена. В центре Москвы, начиная с Лубянки, „Водоканал“ сверлил почву для испытания метрополитена. Это жизнь. Но метрополитен не будет построен, потому что для него нет никаких денег. Это гангрена.
Разрабатывают план уличного движения. Это жизнь. Но уличного движения нет, потому что не хватает трамваев, смехотворно – 8 автобусов на всю Москву.
Квартира, семьи, ученые, работа, комфорт и польза – все это в гангрене. Ничто не двигается с места. Все съела советская, канцелярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина – это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы.
Магазины открыты. Это жизнь. Но они прогорают, и это гангрена.
Во всем так. Литература ужасна…»
23 декабря, вторник. (Ночь на 24-е). «Сегодня по новому стилю 23-е, значит, завтра Сочельник. У Храма Христа продаются зеленые елки. Сегодня я вышел из дома очень поздно, около двух часов дня, во-первых, мы с женой спали, как обычно, очень долго. (Напоминаю: живут Булгаков с Любовью Евгеньевной уже в Обуховом переулке. – В. П.) Разбудил нас в половине первого Василевский, который приехал из Петербурга. Пришлось опять отпустить их вдвоем по делам… Последнюю запись в дневнике я диктовал моей жене и окончил запись шуточно… (Видимо, эту часть записи за 21 декабря Булгаков позднее вырвал. – В. П.)
На службе меня очень беспокоили, и часа три я провел безнадежно (у меня сняли фельетон). Все накопление сил. Я должен был еще заехать в некоторые места, но не заехал, потому что остался почти до пяти часов в „Гудке“, причем Р. О. Л., при Ароне, при Потоцком, и кто-то еще был, держал речь обычную и заданную мне – о том, каким должен быть „Гудок“. Я до сих пор не могу совладать с собой, когда мне нужно говорить, и сдержать болезненные арлекинские жесты. Во время речи хотел взмахивать обеими руками, но взмахивал одной правой, и вспомнил вагон в январе 20-го года и фляжку с водой на сером ремне, и даму, которая жалела меня за то, что я так страшно дергаюсь. Я смотрел на лицо P. O. и видел двойное видение. Ему говорил, а сам вспоминал…
Нет, не двойное, а тройное. Значит, видел P. O., одновременно – вагон, в котором я ехал не туда, и одновременно же – картину моей контузии под дубом и полковника, раненного в живот…» (См.: Театр, 1990, № 2, с. 144–155. Публикация Г. Файмана.)
Вот это – «доколе, Господи» – о сидящих в Кремле правителях часто возникает в мыслях Булгакова. Разум повелевает ему не высказываться вслух о своих тайных раздумьях, но сердце порой не выдерживает всего того кощунственного, что происходит на его глазах, и он говорит больше, чем следует, но промолчать не в силах. Особенно его раздражают сменовеховцы, приехавшие из Берлина и осевшие в Москве. То, что они говорят, он не может слушать без ярости, а в дневнике отводит душу, называя их «веселые берлинские бляди»…
В эти дни Булгаков бывает в «Зеленой лампе», на вечерах у Леонова, Петра Никаноровича Зайцева, на «Никитинских субботниках»… Читает главы «Белой гвардии», но чаще всего главы повести «Роковые яйца». Присутствующие на этих чтениях по-разному воспринимают произведения Булгакова – одни одобряют, другие «морщатся», и Булгаков обращает внимание на малейшие проявления чувств у слушателей. Он опасается за «Белую гвардию», как бы роман не потерпел «фиаско». Этот роман ему нравится, «черт его знает почему».
«Вечером у Никитиной читал свою повесть „Роковые яйца“. Когда шел туда – ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда – сложное чувство. Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть, серьезное? Тогда невыпеченное. Во всяком случае, там сидело человек 30, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература.
Боюсь, как бы не саданули за все эти подвиги „в места не столь отдаленные“. Очень помогает мне от этих мыслей моя жена…
Эти „Никитинские субботники“ – затхлая, советская, рабская рвань».
А через несколько дней еще одна очень важная запись, точно передающая его настроение этого периода: «Сегодня в „Гудке“ в первый раз с ужасом почувствовал, что я писать фельетонов больше не могу. Физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией».
Наконец, в феврале 1925 года вышел альманах «Недра», № 6, с повестью «Роковые яйца»… Казалось бы, все тревоги – позади…
В «Роковых яйцах» Булгаков столкнул две силы – тупость, темноту, невежество, воплощенное в образе Александра Семеновича Рокка, и гениальную прозорливость в образе ученого Владимира Ипатьевича Персикова, опередившего свое время. Он забежал вперед, сделал гениальное открытие, а люди оказались неподготовленными к такому открытию. Конфликт между этими двумя типами эпохи привел к трагическому концу, потому что уж слишком противоположны были они по своей сути, а неумолимая действительность заставила их участвовать в одном и том же научном эксперименте. Персиков – воплощение ума, интеллекта, культуры. Увлеченный своей работой, он далек от политики: «Слишком далек от жизни – он ею не интересовался». «Газет профессор не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания: „Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них“». Но профессор мало имел себе равных в области земноводных или голых гадов, читал на четырех языках, кроме русского; словом, Персиков Булгакова – это ученый широкой эрудиции, исключительной преданности своему делу, человек замечательного ума и огромной творческой фантазии.
Если Персиков страшно далек от жизни, то Александр Семенович Рокк – сама жизнь: он участвовал в революции, много сделал для утверждения новой действительности. Его беда, однако, в том, что время словно прошло над ним, не коснувшись его. Даже Персиков, кабинетный ученый, и то дивится его старомодности. Время диктует свои законы, и человек, не совсем лишенный интеллекта, подчиняется велениям времени, но вот Александр Рокк с 1919 года ничуть не изменился, остался верен и аскетическому наряду, и прямолинейным представлениям времен «военного коммунизма». Он застыл в своей данности. Даже самая отсталая часть пролетариата – пекаря, – как полушутливо замечает автор, уже ходили в пиджаках, а на Рокке «была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный, старой конструкции пистолет – маузер в желтой битой кобуре». «Лицо вошедшего произвело на Персикова то же, что и на всех – крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями».
Булгаков безжалостными красками создает образ самоуверенного человека, впервые, в кабинете профессора, увидевшего столько книг и смутившегося при виде странного, но величественного ученого. Искры почтения пробились у Рокка через невозмутимую маску. И дальше конфликт развивается как столкновение разных по своей природе людей, как столкновение разума и невежества. Булгаков обратился, как мы видим, к одной из самых злободневных проблем и попытался ответить: отчего же так получается, что за глупость и невежество одних должны расплачиваться или нести ответственность люди ни в чем не повинные, люди, которые, напротив, предупреждали об опасности, старались вселить сомнения в самоуверенные души тех, кто взялся не за свое дело. Трагедия случилась из-за того, что Рокк занялся не своим делом. До революции он играл в оркестре одного из кинотеатров. Но революция круто изменила его жизнь, его судьбу: Рокк «бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер». А потом отважно принялся за научные эксперименты, явно ничего в этом не смысля, что привело к трагическим последствиям.
После первого же взгляда Персикову было ясно, что перед ним совершенно невежественный человек, а потом, узнав причину появления в своей лаборатории Рокка, пришел в ярость: оказывается, высшие инстанции дали ему разрешение на невероятный эксперимент – выводить кур с помощью открытого Персиковым «луча жизни». Персикову совершенно ясно, что Рокку нельзя доверять сложную аппаратуру, требующую навыков, опыта, элементарной научной подготовки. Персиков старался уговорить «верхи» отказаться от этого эксперимента, предупреждал, что он «черт знает что наделает», категорически протестовал, не давал «своей санкции на опыты с яйцами», он еще сам не завершил опыты, но все было тщетно. Осталось Персикову только одно – умыть руки. Не может же он, в самом деле, отвечать за дело, в исходе которого у него нет уверенности: нельзя было верить первым удачным экспериментам, нужны были еще десятки, сотни экспериментов, необходимых для серьезного, научно обоснованного вывода.
И началось все с бытового недоразумения. «Вечная кутерьма, вечное безобразие», «какое-то неописуемое безобразие», в результате которого перепутали адреса с яйцами: профессору вместо змеиных грудами везли «эти проклятые куриные яйца», а Рокку вместо груды куриных привезли только три ящика яиц. Конечно, это у Рокка вызвало недоумение. Ведь он за месяц хотел возродить куриное хозяйство республики, а тут всего лишь три ящика… Но захлопотался, сомнение не удержалось в его голове. И все пошло своим чередом.
Бушующий от ярости профессор, у которого все было готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов («лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы…»), но у него не было змеиных яиц, которых он ждет уже два месяца, и благодушный Рокк, спокойный в своей самоуверенности, ничуть не подозревающий в своей наивности, что дело, от которого он столько ждет, неумолимо ведет его к гибельной катастрофе, – вот два полюса в развитии сюжетных перипетий.
Стремительно развиваются события, и как различны люди, которые занимаются, в сущности, одним и тем же делом: готовятся испробовать «луч жизни» на яйцах. Персиков тщательно готовится к проведению опытов, наглухо закрыты двери, опробованы скафандры, проверено действие газа на обыкновенных жабах («Пустишь струйку – мгновенно умирают»). Доцент Иванов советует Персикову обратиться в ГПУ и попросить у них электрический револьвер, который «бьет бесшумно и наповал». Все готово, все предусмотрено, обо всем есть договоренность: ведь предстоит сложнейший опыт. Но вот досада: нет нужных яиц.
У Рокка тоже идет работа, установили камеры в оранжерее, получили яйца. Три ящика несколько удивили, но работа закипела. «Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружественный характер». В опыте принимал участие сам Рокк, его жена Маня, бывший садовник бывших Шереметевых, охранитель и уборщица Дуня. Сладостное благоговение испытывают все эти новоявленные экспериментаторы при виде яиц огромных размеров. Рокк радуется: «Заграница… Разве это наши мужицкие яйца… Все, вероятно, брамапутры». Только на мгновение задумался Рокк, не понимая, почему яйца оказались грязными. По телефону он сообщил профессору, что яйца «в грязюке какой-то», спрашивал, нужно ли их мыть. Мог ли профессор предполагать, что по ошибке Рокку попали не «курьи» яйца, а яйца земноводных и голых гадов, которые вот уже два месяца ждет он сам для своих опытов. И то, что Рокк принял за «грязюку», было естественной окраской их.
Только спустя несколько дней, когда события уже принимали трагический оборот, профессор получил «свой» заказ, но то опять были куриные яйца. «Они ваш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке», – разрешил загадку Иванов.
А в это время в районе Смоленска творилось «что-то чудовищное»: Рокк вывел змей вместо кур, а эти змеи дали такую же самую «феноменальную кладку, как лягушки». Змеи двинулись на Москву. Ничто не могло их остановить. Гибель грозила всему государству. Притихла Москва. Началась безумная паника. Людям нужно было понять все происходящее. Найти причину страшной катастрофы, которая стремительно и неумолимо надвигалась на Москву. Все кончилось тем, что яростная толпа растерзала профессора Персикова, «мирового злодея», посчитав его причиной всех своих бед и несчастий.
Столкновение невежества и гения закончилось в пользу ординарности, неспособной к открытиям. И когда уходят гении, начинается будничная, обыкновенная жизнь.
В критической литературе Персикову повезло… Прототипами его называют разных ученых, от всемирно известных Тимирязева и Павлова до мало кому известного профессора Тарновского, статистика-криминалиста, с которым Булгаков познакомился благодаря Любови Евгеньевне, она-то и называет его прототипом Персикова. Кроме того, называют известного патологоанатома Абрикосова, ученого Северцова, «московским биологом профессором А. Г. Гурвичем сделано изумительное открытие…».
А в марте 1925 года Булгаков закончил третью повесть, над которой давно работал, а записал ее в январе-марте… Вот что его беспокоит… Пожалуй, эта повесть была особенно дорога Булгакову, потому что ему не приходилось сдерживать фантазию, а успех первых двух только окрылял его вдохновение. Но успех ли? Вскоре появились отзывы в печати… Ничего хорошего критики не сулили Булгакову. Так и получилось на самом деле. Но бранчливые отзывы критиков только веселили Михаила Афанасьевича, довольного своей семейной жизнью.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































