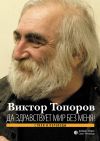Текст книги "О западной литературе"
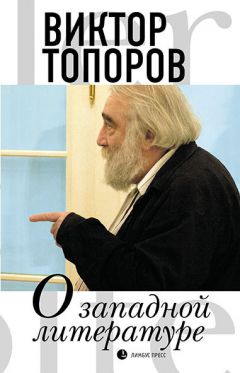
Автор книги: Виктор Топоров
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Но существует и другая, так же хорошо аргументированная точка зрения, согласно которой экспрессионизм, отойдя в двадцатые годы на второй план, не утратил ни актуальности, ни творческой новизны и развивался подспудно до середины тридцатых, когда он был нацистскими идеологами запрещен официально и книги экспрессионистов полетели в костер, а сами они, если и не подлежали уничтожению по расовому признаку, подверглись невиданному в мировой практике притеснений запрету – не на публикации, а на само творчество. Под такой запрет попали, например, Г. Бенн и знаменитый художник Эмиль Нольде, судьба которого отражена в известном у нас романе 3. Ленца «Урок немецкого».
Согласно этой теории, которой придерживаюсь и я, литература Австрии и Западной Германии началась в 1945 году с того места, на котором ее в 1933 году насильственно остановили нацисты, то есть с экспрессионизма. Косвенным подтверждением этому является и то обстоятельство, что многие писатели, обретшие подлинный голос лишь в эмиграции, проявили себя именно как экспрессионисты. В этом отношении знаменательна творческая судьба нобелевского лауреата поэтессы Нелли Закс, всеевропейского скитальца Пауля Целана и других. Продолжением творческих исканий немецких экспрессионистов стали не только произведения «магического реализма» в самой Германии, но и стихи поэтов-авангардистов, пишущих по-нидерландски, по-шведски. Аналогичные процессы можно проследить в живописи и ваянии – здесь достаточно назвать имя Осипа Цадкина.
И последнее. Для поэзии немецкого экспрессионизма характерен не столько разрыв с традиционной художественной формой (хотя и он имел место в творчестве А. Штрамма, Г. Арпа и некоторых других), сколько подрыв ее изнутри. В этом отношении экспрессионизм резко отличается от русского футуризма, с которым – через футуризм итальянский – генетически связан. Новое вино влито главным образом в старые мехи, но в искусстве так, вопреки распространенному убеждению, чаще всего и бывает.
«Сумерки человечества» – название, конечно, неоднозначное. Вечерние сумерки или утренние?
На этот вопрос человечество еще не нашло ответа.
На грани двойничества[2]2
Частный корреспондент. 29.03.2010.
[Закрыть]
В последние недели много думаю об Эльзе Ласкер-Шюлер (1869–1945), перечитываю стихи, разгадываю рисунки, вглядываюсь в фотоснимки маленькой, узкоплечей, короткостриженой брюнетки с неизменно горящим взором.
«Я родилась в Фивах Египетских, пусть и явилась в мир в Эльберфельде на Рейне. До одиннадцати лет я ходила в школу, провела пять лет на Востоке и с тех пор влачу растительное существование».
Таков полный текст автобиографии, предложенной уже пятидесятилетней, дважды разведенной женщиной, матерью взрослого сына, которому вскоре предстояло умереть (едва ли не все, кто был ей по-настоящему дорог, рано умирали, гибли или кончали с собой), для включения в знаменитую итоговую антологию поэзии немецкого экспрессионизма «Сумерки человечества», выпущенную в 1920 году Куртом Пинтусом.
В 1990 году я выпустил под тем же названием несколько пересоставленную антологию лирики немецких экспрессионистов в собственном переводе. Тираж в 50 000 экземпляров разошелся за несколько дней и бесследно сгинул в позднеперестроечном небытии.
Тот, кому все же попадется на глаза эта книга, не без удивления обнаружит, что принцип моноперевода в ней все же нарушен: и Готфрид Бенн, и Георг Тракль, и Георг Гейм, и Берт Брехт, и все остальные переведены мною, и только мною.
А вот единственная на всю антологию поэтесса, и это как раз Эльза Ласкер-Шюлер, – моим тогдашним коллегой, а ныне известным деятелем музыкальной культуры Алексеем Лариным.
Такое в поэтическом переводе не принято: авторские книги чужими переводами не разбавляют. Разве что в приложении к основному корпусу (и такой раздел в моей книге был тоже). Но я пошел на нарушение традиции по далеко не банальным творческим обстоятельствам.
Разумеется, антология поэзии экспрессионизма без стихов Эльзы Ласкер-Шюлер была немыслима. В ограниченном объеме их включили даже в «идейно выдержанные» сборники на языке оригинала, выпущенные в ГДР и у нас в издательстве «Радуга». Но перевести Эльзу Ласкер-Шюлер (и напечатать в собственном переводе) я, сделав несколько проб, счел неэтичным.
Дело в том, что в моем переводе (да и в оригинале, естественно, но в переводе это становилось особенно ясно) ее стихи во всем их разнообразии становились удивительно похожи на столь же многоликую Елену Шварц!
Рваный ритм; всякий раз неожиданная – то запредельно банальная, то парадоксально новаторская – рифмовка; густая сюрреалистическая образность.
Интимно, эротически интимно переживаемые религиозные мотивы (юдаика + католицизм).
Прихотливые восточные мотивы.
Неустанная карнавализация бытия и небытия.
Собственное явление миру (автопрезентация) под множеством масок.
Наконец, поразительная серьезность и глубина как бы заведомо игрового поэтического высказывания…
Причем сходны у двух поэтесс – русской и немецкой – не только ингредиенты, но и доли, в которых эти ингредиенты соотносятся друг с другом! С неизбежной поправкой на время и внешние обстоятельства – на грани двойничества!
Книгу я готовил за несколько лет до выхода, в середине 1980-х. Елену Шварц у нас еще не печатали, кроме трех стихотворений в альманахе «Круг».
Парин о ней, похоже, разве что слышал: есть, мол, такая в Питере; единственная, кого сравнивают с Иосифом Бродским…
Вот я и попросил его перевести Эльзу Ласкер-Шюлер втемную и включил эти переводы в свою книгу.
Что ж удивительного в том, что после недавней кончины Елены Андреевны Шварц я вновь и вновь мысленно обращаюсь к жизни и творчеству великой немецкой поэтессы еврейского происхождения, пусть и не генеалогическое, но генетическое родство, чуть ли не двойничество обеих мне кажется несомненным.
То самое «избирательное сродство», о котором написал повесть Гете.
Елена Андреевна знала немецкий, но вряд ли читала экспрессионистов в оригинале; во всяком случае, в ранней юности, когда она сложилась как поэт.
Поэтому о каком бы то ни было влиянии (и тем более подражании) говорить нельзя, только о совпадении, а вернее, о целом множестве жизненных и жизнетворческих совпадений.
Что ж, тем знаменательнее сами совпадения.
Эльза Ласкер-Шюлер по праву считается одной из двух величайших поэтесс Германии. В XIX веке была Аннетте Дросте, а в XX – Эльза Ласкер-Шюлер.
Мир смутно наслышан о нобелевской лауреатке Нелли Закс, вывезенной в Швецию и тем спасенной от неизбежной смерти в газовой камере. Ну и о гордой австрийке Ингеборг Бахман (подруге Макса Фриша и героине многих его произведений), уснувшей однажды с непогашенной сигаретой и сгоревшей заживо.
Другие имена – Ильзе Айхингер, Марии-Луизы Кашниц, Сары Кирш – не говорят международному читателю практически ничего.
Ну а где-то к 1960 году (и окончательно к 1980-му) Запад – за полвека до нас – окончательно позабыл о поэзии, превратив ее в ролевую игру для одних и в достояние доцента для других.
Эльза Ласкер-Шюлер как раз достояние доцента и в ареале немецкого языка, и отдельно в Израиле.
Последнее – в том числе и по жизненным обстоятельствам: в Палестину она часто ездила в 1930-е годы, в Палестине ее застала война, в Палестине она и умерла от воспаления легких в семидесятипятилетнем возрасте.
Мы не часто задумываемся над тем, что отечественная бинарная оппозиция – Ахматова или Цветаева – является в истории мировой литературы уникальной.
Причем не только и не столько даже само творчество бесспорно великого поэта Цветаевой и неоднозначно великого поэта Ахматовой, сколько альтернативная жизненная позиция, породившая бесчисленное множество подражаний.
«Машинисток я знал десятки, а возможно, их были сотни» (Евгений Евтушенко).
Любой, кто так или иначе причастен к литературе, наверняка сталкивался с десятками мини-Ахматовых и мини-Цветаевых; строго говоря, на мини-Ахматовых и мини-Цветаевых вся наша женская поэзия и распадается.
А поэтесс, пусть и обладающих определенными признаками величия, однако не вписывающихся ни в один из альтернативных шаблонов жизненного поведения – будь это хоть Зинаида Гиппиус, хоть Елена Гуро, – мы как-то не воспринимаем или как минимум воспринимаем не так, как должно.
– Ты, С., мать, а ты, Н., блядь, и никогда не путайте амплуа! – сказал однажды Георгий Товстоногов двум примам своего театра.
Вот и в женской поэзии у нас всего два амплуа: мини-Ахматова и мини-Цветаева. Хотя сами поэтессы, подобно товстоноговским актрисам в подразумеваемом эпизоде, эти роли то и дело путают.
И Елена Шварц, и ее предшественница Эльза Ласкер-Шюлер осознанно выбрали для себя третий путь, примеряя то условно ахматовскую, то условно цветаевскую маску попеременно (хотя, бывало, и одновременно).
Последовательно и прихотливо театрализуя и творчество, и бытие, и (объективно чуть ли не спартанский) быт, самозабвенно сливаясь со своими лирическими героями и героинями – с принцем Юсуфом и с монахиней Лавинией (если ограничиться одним двойным примером), ощущая себя то пифиями, то менадами, то вновь пифиями, и все это по-цветаевски (и по-мандельштамовски) на разрыв аорты и вместе с тем не без ахматовского взгляда в сдвоенное волшебное зеркало, в глаза очарованного собеседника, очарованного странника, очарованного незнакомца…
Эльза Шюлер родилась в семье крупных еврейских буржуа, в семье набожных иудеев, в которой исподволь зрела тяга к католицизму. Ее любимый брат умер в двадцать один год накануне уже назначенного крещения, и эта смерть, наряду со смертью матери, стала для Эльзы ее личным изгнанием из рая.
Выйдя замуж уже чуть ли не старой девой за столь же респектабельного соплеменника и единоверца доктора Ласкера (брата великого шахматиста Эмануэля Ласкера), она сразу же начала вести вызывающе богемный образ жизни.
И брак вскоре рухнул, хотя в 1899 году тридцатилетняя Эльза успела родить доктору Ласкеру сына. Для сравнения: второй чемпион мира по шахматам прожил со своей фрау Мартой более полувека.
Ее вторым мужем стал, сказали бы сегодня, поэтический куратор (а также искусствовед и композитор) Герварт Вальден, и это не литературный псевдоним, а имя и фамилия, которые поэтесса заставила взять своего избранника девятью годами младше ее самой Георга Левина. Сам же он трепетно именовал ее «фрау доктор». Именно Вальден издавал ключевой для немецкого экспрессионизма журнал «Штурм».
(Просто в порядке жизненной рифмы отмечу, что второй муж Елены Шварц был соиздателем лишь наполовину не состоявшегося «Штурма» отечественного соц-арта и постмодернизма – «Вестника новой литературы».)
В начале XX века Эльза Ласкер-Шюлер примкнула к экспрессионистам (все они были двадцатью примерно годами моложе ее) как равная, хотя формально и фактически вполне могла претендовать на статус предтечи.
Но ее манила роль не столько мэтра, сколько метрессы.
Всех своих новых друзей она, «вечно влюбленная» (это самоаттестация), тут же переименовывала: Готфрида Бенна – в Варвара Гизельгера, Георга Тракля – в Золотого Рыцаря, Франца Верфеля – в Принца Пражского и так далее. Всем – и прежде всего Варвару Гизельгеру и Сенне Хою, он же Саша, Князь Московский (Иоганн Гольцман), – посвятила высокие образцы любовной лирики.
Столь же особое положение занял в ее жизни Петер Хилле (архипоэт, архибуян, архижрец и архибражник), на смерть которого в 1904 году поэтесса откликнулась «Книгой Петера Хилле».
Дружила она также с прозаиками и прежде всего поэтами Эрнстом Толлером, Эрихом Мюзамом, братьями Гельмутом и Виландом Херцфельде, Альбертом Эренштейном, Паулем Цехом, Рихардом Демелем, Теодором Дойблером, с художниками Францем Марком, Георгом Гроссом и Оскаром Кокошкой, со знаменитым публицистом (по преимуществу) Карлом Краусом.
Первый же поэтический сборник Эльзы Ласкер-Шюлер «Стикс» (1902) принес ей славу, которую последующие книги и публикации на страницах «Штурма» только упрочили, а эксцентрическое и эпатажное поведение «принца Юсуфа» окрасило в несколько скандальные тона, а потом и просто в скандальные тона.
Масла в огонь подлили «Письма в Норвегию» – более чем откровенные очерки богемных нравов в берлинской литературной среде. Распался свободный брак с Вальденом.
Наконец началась, а потом и закончилась Первая мировая война, в пламени которой, наряду со многим прочим, сгорела и поэзия немецкого экспрессионизма.
Кое-кто из поэтов пал на фронте.
Георг Гейм утонул, катаясь на коньках на льду пруда (что предсказано в одном из его стихотворений).
Георг Тракль покончил с собой (или умер от передоза).
Готфрид Бенн – теневой (на тот момент) лидер экспрессионистов – от ненависти к торгашескому рационализму на время проникся фашизоидными настроениями и поначалу приветствовал приход Гитлера к власти.
Поздние экспрессионисты – Берт Брехт и Иоганнес Р. Бехер – перешли на протомарксистские позиции.
Поэзия и вообще-то отошла на второй, если не на третий план, а на авансцену вышли так называемые кабаретисты во главе с Эрихом Кестнером (название литературного направления, которого они придерживались, – Neue Sachlichkeit – можно, правда, не без натяжки, перевести как «новый реализм»).
Эльза Ласкер-Шюлер, уже пятидесятилетняя, попала в ситуацию, описанную строчкой БГ «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет».
(И точно таким же ходячим анахронизмом стала, самое позднее начиная с 2000 года, Елена Шварц. Литературные премии, которыми были удостоены и та и другая, подобное положение не столько затушевывали, сколько, наоборот, выпячивали.)
Предтеча и королева экспрессионизма Эльза Ласкер-Шюлер оставалась верна ему уже практически в одиночестве.
Ее буквально с первых шагов на поэтическом поприще зрелое творчество не шло в ногу со временем и даже не росло, как дерево, в вышину, но только раскидывало ветки и веточки вширь, то сплетая, то расплетая их, как женские косы.
И здесь опять-таки прямая аналогия с Еленой Шварц. К счастью или к несчастью, аналогия все же не полная.
Вслед за смертью единственного сына поэтессы умерла и ее сестра, и Эльза, отчасти поневоле, отчасти по личному выбору, взяла на себя заботу об осиротевших племянницах.
Сама она теперь бедствовала; бралась за любую работу; была благодарна за поденку, которую регулярно подбрасывал ей Карл Краус.
Пару раз съездила в Палестину, где ее приветствовали еврейские колонисты, но не как поэта, разумеется, а как соплеменницу, признанную в Германии знаменитостью, пусть и знаменитостью одиозной.
В 1933 году, через несколько дней после переворота, типичную старую жидовку, да еще нелепо разряженную, ударили на улице куском арматуры.
Экспрессионизм был объявлен дегенеративным искусством. Даже на Готфрида Бенна был наложен запрет – он не имел права не только печататься, но и писать. Ну а добрая половина экспрессионистов (как и сама Ласкер-Шюлер) была и вовсе еврейского происхождения.
Поэтесса эмигрировала в Швейцарию, о «любви» которой к еврейским эмигрантам из нацистской Германии уже упомянутый в этой колонке Макс Фриш позднее напишет аллегорическую пьесу «Андорра».
Начало войны застало Эльзу Ласкер-Шюлер в Палестине и заставило ее застрять там, как выяснилось, навсегда.
Впрочем, для нее это был не худший выход – здесь ее всё же хоть как-то чтили. Здесь – и только здесь – она оставалась знаменитостью.
Здесь, в Палестине, написала она свою последнюю книгу стихотворений, названную точно так же, как ключевое стихотворение этого сборника, – «Мой голубой рояль».
Голубой рояль как последнее прости-прощай художникам из группы «Голубой мост», тому же Францу Марку. Но и помимо этого…
Величайшие немецкие поэты всех времен – Гете и Рильке. Величайший немецкий поэт XX века – Готфрид Бенн. А вот величайшее немецкое стихотворение XX века – это или «Фуга смерти» Пауля Целана, или «Мой голубой рояль» Эльзы Ласкер-Шюлер. Одно из двух.
В шахматной публицистике (вспомним Эмануэля Ласкера) есть такой жанр «О шахматах без шахмат». Так – без шахматной нотации и диаграмм – пишут для широкой публики, ничего не смыслящей в древней игре; пишут, объясняя и расколдовывая не передвижения фигур и пешек, но сам дух борьбы.
Эта статья по аналогии написана в жанре «о поэзии без поэзии».
В основном по причине, названной выше, я не хочу сравнивать оригинальные стихи с переводными (в том числе и абстрагируясь от качества перевода) и не могу в заданном формате сравнивать русские стихи с немецкими.
Я сравниваю двух редкостных поэтесс XX века; сравниваю их прежде всего для самого себя и не устаю удивляться этому «избирательному сродству».
[Готфридбенн][3]3
В кн.: Бенн Г. Собрание стихотворений / Составление, предисловие, примечания и перевод с немецкого Виктора Топорова. СПб.: Издательская группа «Евразия», (Ultima Thule), 1997. С. 7–21.
[Закрыть]
Готфрид Бенн прославился не только стихами – ностальгически прекрасными и шокирующе откровенными, – но и высказываниями о стихах, носящими столь же глубокий и зачастую столь же провоцирующий характер. Самым оригинальным из них является, бесспорно, следующее: «Никто из даже величайших поэтов нашего столетия не оставил больше шести или максимум восьми воистину совершенных стихотворений, остальные могут представлять интерес в биографическом плане или как приметы творческой эволюции, однако самодостаточными, самосветящимися, обладающими стойким очарованием остаются лишь немногие, – итак ради этих шести стихотворений проходят от тридцати до пятидесяти лет аскетизма, страданий и борьбы». Такой подход справедлив, конечно, лишь в субъективном плане: шесть-восемь совершенных (сам Бенн называет их иногда «абсолютными») стихотворений находит у поэта читатель, но для каждого читателя они оказываются разными, список у каждого свой. Более того, состав списка (равно как и количество стихотворений) для одного и того же читателя с годами варьируется. «На вопрос о шести или восьми стихотворениях отвечать далеко не обязательно, – замечает немецкий поэт, издатель восьмитомного собрания сочинений Готфрида Бенна. – И науке неведом метод определения качества стихотворения, стихи не поддаются оценке и классификации. Стабильной общезначимой однозначной иерархии ценностей здесь не существует». Все так, но слова о шести или восьми стихотворениях характеризуют творческий максимализм Бенна: считая подлинной (и единственной) целью жизни искусство, он и в отношении искусства (и прежде всего собственного искусства) не позволял себе иллюзий и обольщений.
Впервые знакомясь с творчеством зарубежного поэта – через неизбежно неабсолютно прозрачное стекло поэтического перевода, – мы в первую очередь соотносим неизвестное с известным, мы сравниваем нашего нового знакомца с собратьями по поэтическому олимпу и – прежде чем «прописать» его там (не говоря уж о случаях, когда мы ему в «прописке» отказываем) – определяем для него место, которое должно быть и никем не занято, и в то же самое время не слишком отличаться от соседних. В случае с Готфридом Бенном этот процесс сопряжен с серьезными трудностями. Я вполне могу представить себе читателя, которого восхитит поздняя лирика Бенна (если он до нее дочитает) и оттолкнет (да что там оттолкнет – возмутит, вызовет глубокое отвращение) ранняя. Могу представить себе и другого читателя, которому ранние стихи Бенна из раздела «Морг» покажутся яркими и дерзновенными, а поздняя лирика, напротив, – несколько монотонной, вторичной, в лучшем случае напоминающей перепевы Блока, Ходасевича, Георгия Иванова. Значительно труднее представить читателя, сумевшего разглядеть, понять и оценить внутреннюю целостность поэтического творчества Бенна: преображение отвращения в страдание, а страдания – в красоту. Но именно такой читатель и представляется идеальным – ему предлагаемая книга раскроет свои глубины и бездны. И выси. И, конечно же, выси.
Проще всего было бы, наверное, списать эксцессы раннего Бенна на литературное направление, к которому он в молодости примкнул, на экспрессионизм. «Реальность кошмарных сновидений и кошмарные сновидения реальности», – написал я в предисловии к антологии «Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма» («Московский рабочий». 1990), в которой, наряду с прочими поэтами, впервые представил в значительном объеме и творчество Бенна. Более развернутая характеристика этого литературного направления представляется здесь неуместной по нескольким причинам. Во-первых, Бенн начал писать по-экспрессионистски задолго до знакомства с другими экспрессионистами и их творчеством: метод преодоления и устранения действительности переводом ее в план выразительных средств, как он сам сформулирует это позже, имел не столько литературные, сколько жизненные истоки: студент-медик и позднее начинающий врач-венеролог (единственный, кстати говоря, врач среди крупных поэтов столетия), он обрел в больничном морге и его окрестностях отвратительно-яркую метафору бытия. Бытия как такового – и ложного блеска мегаполисов, который и развенчивали остальные экспрессионисты. Во-вторых, даже в поэзии экспрессионизма с ее ужасами, гиньолем и «поэтикой безобразного» стихи раннего Бенна своим радикализмом превосходят все остальное; более того, сам радикализм этих стихов отбрасывает их на обочину общего литературного движения. И наконец, позиция аутсайдера (сегодня сказали бы: маргинала) – сознательное и последовательное кредо Бенна, аутсайдером он оставался и среди экспрессионистов. Четко и саркастически сформулирована эта позиция, в частности, в стихотворении 1920 года «Пролог ко всегерманскому поэтическому турниру». Поэтому разговор о Бенне и о его творчестве должен идти с учетом литературных постулатов и практики экспрессионизма, но в отрыве от них. Памятуя и о том, что Бенн, как показано ниже, презирал «коллективное творчество». Но памятуя и о другом: все наши построения, рассуждения и догадки как творческого, так и биографического плана остаются всего лишь догадками. О чем предостерег и сам Бенн в стихотворении «На пороге»:
На пороге встанешь осторожно,
Но порога не перешагнешь.
В этот дом проникнуть невозможно,
Если ты не здесь живешь.
Путнику, измученному жаждой,
Может быть, однажды отворят.
На мгновенье. – Нехотя, однажды,
На мгновенье. – И замки гремят.
* * *
Готфрид Бенн родился 2 мая 1886 года в Пруссии. Его отец, а также дед и прадед были протестантскими священниками – и такое происхождение, по словам самого Бенна, стало в его судьбе одним из определяющих факторов (хотя с отцом они никогда не были близки, а с годами это переросло в резкий антагонизм). Не меньшее значение придавал поэт и влиянию матери, которая была родом из франкоязычной части Швейцарии. Третьим важным обстоятельством стал широкий круг общения мальчика и подростка, водившего знакомство (что для ребенка из пасторской семьи естественно) как с детьми простых людей, главным образом рабочих, так и с отпрысками местной аристократии. Закончив гимназию с гуманитарным уклоном во Франкфурте-на-Одере, Бенн изучал богословие и филологию в университетах Марбурга и Берлина, а затем, начиная с 1905 года, – медицину в берлинской военно-медицинской академии. В 1912 году он закончил курс и получил диплом военного врача, уже в студенческие годы опубликовав ряд научных работ, одна из которых – «Этиология пубертатной эпилепсии» – была отмечена премией берлинского университета. Научными исследованиями он занимался и дальше, особенно широкую известность снискал трактат «Гете и естественные науки» (1932). Заканчивая учебу, Бенн выпустил первый поэтический сборник – «Морг и другие стихотворения» (1912), вызвавший интерес и противоречивые отклики. Уволившись по окончании академии в запас, он до начала Первой мировой занимался частной врачебной практикой в Берлине. В этот период он сблизился с берлинскими литераторами-экспрессионистами и особенно тесно сошелся с уже знаменитой поэтессой Эльзой Ласкер-Шюлер (1869–1945). «Это была величайшая поэтесса, какую когда-либо знала Германия, – написал он о ней в 1912 году. – С разнообразно иудейской тематикой, с восточной фантазией и с истинно немецким языком – роскошным, великолепным и нежным немецким, с языком зрелым и сладким, каждый побег которого произрастал из самой сердцевины творческого начала». Поэтесса посвятила ему ряд восторженных любовных стихотворений, в том числе цикл, носящий название «Доктор Бенн». Стихотворения Бенна появляются в это время в модных – по преимуществу экспрессионистических – журналах «Действие», «Пан», «Новый пафос», «Штурм» и «Белые листы». Эти публикации сопровождаются как хулой, так и хвалой. В Первую мировую Бенн в должности полкового врача служит на территории Бельгии. В этот период он публикует первые прозаические опыты. В конце 1917-го поселяется в Берлине и заводит частную практику врача-венеролога. Первый брак – с Эдит Остерло – заканчивается в 1922 году ее смертью. От этого брака у Бенна была дочь, так и оставшаяся его единственным ребенком. Его вторая жена Герта фон Ведемайер в конце Второй мировой по требованию самого Бенна покинула голодный Берлин и поселилась в восточно-германской деревушке, где и погибла при трагических обстоятельствах. В 1946 году Бенн женился на Ильзе Каул, враче по профессии, оставшейся с ним до конца его дней. С перерывами на участие в войнах Бенн прожил в Берлине всю сознательную жизнь, здесь же в 1948 году началась его общеевропейская слава. Его поэзия и эссеистика, в которых причудливо сочетаются трезвость, даже деловитость, провокационность, чувствительность, чувственность и сентиментальность, являются яркими образчиками культуры этого мегаполиса. В 1932 году Бенн стал действительным членом Прусской академии искусств. Ненадолго примкнув к нацизму, что нашло свое отражение в книге «Новое государство и интеллектуалы» (1933), в которой помещен, в частности, прискорбно-знаменитый «Ответ литературному эмигранту» (писателю Клаусу Манну, сыну Томаса Манна), Бенн уже в конце 1933 года поднял голос в защиту гонимых в качестве «антинатуралистов» поэтов-экспрессионистов, среди которых было много людей еврейского происхождения. Биологический антисемитизм был чужд Бенну, равно как и культ арийской расы (в этом отношении он резко расходился с Ницше, с которым во многом был идейно связан), бытовой антисемитизм – также, но некоторые элементы «эстетического антисемитизма» в его творчестве просматриваются. Так или иначе, само искусство представляло собой для него «отрицание биологической системы ценностей». Сомнения в идеях и практике национал-социализма уже на исходе 1933 года проступают в его творчестве и эпистоляристике все отчетливее и однозначнее. Он попадает во все большую изоляцию и подвергается нападкам в таких влиятельных газетах, как «Черный корпус» и «Народный наблюдатель» («Фелькишер Беобахтер»). Его исключают из Общегерманского союза врачей, а в 1938 году – и из Союза писателей, что сопровождается запретом на творчество. «Избранные стихотворения» (1936) стали его последней публикацией при нацизме. Бенн, по его собственному выражению, выбирает «аристократическую форму эмиграции», поступая в качестве санитарного врача на службу в вермахт. Весь период службы (а дослужился он до полковника медицинской службы) Бенн проводит во «внутреннем рейхе» – в Ганновере, в Берлине и в конце войны в Ландсберге-на-Варте. В 1945 году он возобновляет врачебную практику в разрушенном и голодающем Берлине. Усилиями друзей – сперва в Швейцарии, а затем в Германии – выходит в 1948 году его сборник «Статические стихотворения». К поздней славе Бенн относится скептически и небрежно. После продлившейся несколько недель мучительной болезни он умирает семидесяти лет от роду 7 июля 1956 года.
Творчеству Бенна присуща величавая монотонность; в его поле зрения попадает лишь немногое, тогда как постоянно сужающийся горизонт обладает непроницаемостью каменной стены. Бесконечные повторы и подчеркнутые автоцитаты пронизывают как поэзию, так и прозу. По самоопределению, «игнорируя любую опасность и без оглядки на окончательный результат», он стремится пройти путь «от содержания к выражению». Тематика становится с годами все уже, стилистические и экспрессивные средства – все изощреннее, что в равной мере относится и к поэзии, и к эссеистической прозе Бенна, между которыми трудно провести четкую границу, особенно – применительно к поздним верлибрам. Повсюду сквозит стремление проанализировать «основной вопрос человеческого существования» и «принципиально новыми методами изобразить современного человека». Путь «от содержания к выражению» означает прежде всего стилистическую переоценку наличествующего материала. Начав с отвращения к бытию и прежде всего к человеку в ранней лирике, оборачивающегося тоской по не– и недовоплощенному, по первозданному, экзотическому и космическому, равно как и стремлением «разбить и развеять мозг», Бенн с годами приходит к возвеличиванию духовного (вне– и контрприродного) начала и к пониманию природы истинного бытия как к формо– и стилеобразующему порыву.
Стихотворение становится изготовленной из слов прозрачной конструкцией, оплетающей «предмет» (то есть тему или мотив) сетью сопряжений и напряжений и тем самым как бы растворяющей его, благодаря чему стих приобретает нежную и чистую глубину, взывая не столько к чувствам как таковым, сколько к чувству прекрасного. «Статическое стихотворение» становится в этом плане и «стихотворением абсолютным»; как пишет (правда, применительно к собственной прозе) сам Бенн: «существуя вне времени и пространства в области воображаемого, сиюминутного и поверхностного – и противодействуя вышеназванному психологией и эволюцией». Поэзии Бенна с первых шагов присуще последовательное «устранение материала», замешанное на концентрированном самоуглублении. Параллельно с собственно творчеством протекает – в рамках творчества же – его теоретическое обоснование. Творчество как таковое и декларирование творческих намерений оказываются равнозначными. Исторический пессимизм Бенна граничит с эсхатологическими ожиданиями; близящийся конец тысячелетия (до которого он, впрочем, не дожил около полувека) воспринимается как «конец четвертичного периода», если не конец света, искусство в такой ситуации становится последним средством самовыражения гибнущей Экумены: «веру надо ваять», потому что она может зачать «лишь от прежних кумиров, их из ветоши вырыв», – зачать, чтобы не сохранить, а лишь еще ненадолго продлить блеск былого. Таким образом, вся поэзия Бенна тяготеет к двум полюсам: вокруг одного собираются «стихи о стихах» (и о творчестве в целом), тогда как к другому примыкает «чистая лирика», и темой, и формой которой становится «воплощенная печаль». В первом ряду находятся такие стихотворения, как «Жизнь – плебейская блажь», «Полотна», «Стихи», «Слова», «Словосочетание». Поздний Бенн именует это «статическими стихотворениями», «артистизмом» и «миром выразительных средств», воспринимая как «антинемецкое», как направленное своею упорядоченностью, сосредоточенностью и дистиллированностью против всего воздушного, расплывчатого, сумеречного, неопределенного, невоплощенного, автоматически произрастающего, что он считает имманентными свойствами «немецкости», равно как и против «изречений и прорицаний в полумраке», против «философии бегемотов», против Гераклита и Платона, которых он называет «первыми немцами». Его задача – превратить «немецкость» в латинскую четкость. (О «латинскости» как об одной из двух основных концепций поэтического творчества писала Марина Цветаева.) Своими предшественниками в этом плане он считал Ницше и Генриха Манна, что нашло выражение в двух приобретших широкую известность публичных речах (1931 и 1950 года соответственно). Основной творческой декларацией Бенна стал доклад «Проблемы лирической поэзии» (1951). В докладе констатируется «конец гарантированного содержания» – то есть устранение и растворение поэтического материала во всем диапазоне: устранение и растворение жизни, природы, истории и так называемой истины средствами поэтической формы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?