Текст книги "О западной литературе"
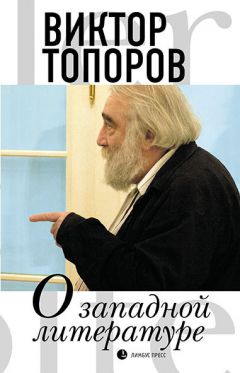
Автор книги: Виктор Топоров
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Путь души
(Жизнь и поэзия Одена)[6]6
В кн.: Оден У X. Собрание стихотворений. СПб.: Издательская группа «Евразия», 1997. С. 7–24.
[Закрыть]
В XX веке перо приравняли к штыку. Утилитарно: как эффективное оружие в идеологической (отдельно – в «холодной») войне. Онтологически: как два (равно ненадежные) средства уничтожения или приумножения Мирового Зла. Экзистенциально: как два типа противостояния равнодушно-сытой позиции большинства. Теологически: как две квазирелигии. Биологически: как две латентные, но органические потребности человека. Филологически: насилие над естественной речью (по Роману Якобсону) и насилие над естественной жизнью. В XX веке перо приравняли к штыку – и возненавидели первое едва ли не с тою же силой, как второй.
Противостояние Империи Зла и Империи Добра саморазоблачилось к концу столетия как противостояние двух Империй Лжи. Пространство Свободы съежилось, пути – как вперед, так и назад – оказались перекрыты, шаг в сторону принято стало считать побегом – и «свобода изнутри, в своем духовном мире» (Генри Дэвид Торо) превратилась в единственно достойный (и единственно возможный) способ творческого поведения на любом жизненном поприще. А на поприще поэтическом это означает не более чем свободу манипулировать словами и смыслами, аллюзиями и коннотациями с постоянным риском остаться непонятым, а следовательно, и неуслышанным – и это даже не риск, а непременное и поэтому добровольно принятое условие. Поэзия не коммуникативна, а инобытийна: она уводит и обольщает автора, а читателя только манит. И не всегда – в ту же сторону, в которую устремляется стихотворец. «Чтоб стихов постигнуть суть, / В мир поэта смей шагнуть» – так мог написать только Гете, да и то – в минуту филистерского благодушия. Следуя за поэтом (и – частный, но экстремальный случай – переводя его стихи), мы вступаем не в мир поэта, а в область собственных предположений, догадок и прозрений. Победителей здесь не бывает: иногда попадаются разве что непобежденные.
XX век вознес поэзию (и войну) на небывалую высоту – и в конце своем решительно, равнодушно и даже брезгливо низверг с пьедестала обеих. Нынешние локальные войны, призванные закрепить и увековечить Новый Порядок (не тот, фашистский, о котором писал Оден, но вполне, на современный западный взгляд, респектабельный), не могут ни скрыть, ни хотя бы замаскировать того факта, что к «воякам» нынче относятся как к нелюбимым и с рождения больным детям: им покупают все новые игрушки и сласти, их терпят в доме, тайком вздыхая: «За что нам такой крест», их жалеют. «Народ, не кормящий свою армию, рано или поздно начинает кормить оккупационную», – эти слова любил повторять маршал Ахромеев, – да и другие военачальники, хоть наши, хоть натовские, с удовольствием под этим подпишутся, – а народы и правительства не верят им, хотя и делают вид, будто верят. Если в доме больной ребенок, ему нужно покупать игрушки и сласти – так будет не дешевле, но гораздо спокойнее. И тот же самый «разумный эгоизм» лежит в основе современного отношения к поэтам (разве что требуя несопоставимо ничтожных бюджетных и общественных трат): больным детям нужно покупать игрушки и сласти. Помочь им нельзя, значит, от них нужно откупиться. Поэтому изобретены стипендии и гранты, поэтому придуманы должности «профессоров поэзии» во многих университетах, поэтому проводятся празднества и турниры, присуждаются премии и награды. Современный человек, читающий стихи (выйдя из отроческого возраста), столь же смешон и нелеп, как, на взгляд Льва Толстого, смешон и нелеп человек, стихи сочиняющий. Он пляшет за плугом. Поэтому в подходе к поэзии и к поэтам сквозят скорей благовоспитанность и самодовольство, чем истинная потребность: мы делаем вид, будто нам нужны стихи. Или хотя бы поэты. Мы их жалеем. Подразумевая, понятно, под этим «мы» западную цивилизацию, которой нынче так отчаянно и так неуклюже пытается подражать российская. Пути отечественной и западноевропейской (плюс американская) поэзий разошлись в 1917 году, чтобы сойтись сегодня на тупиковой тропке.
А целых семьдесят лет у нас было иначе. Существовала поэзия официальная, в меру своей бездарности и гениальности обслуживавшая тоталитарный режим, существовала поэзия подпольная, в меру своей бездарности и гениальности обслуживавшая самое себя, и существовала поэзия полуофициальная. И все они сгинули разом – и вдруг, превратив поэта (как в экспортном исполнении, так и в домашнем) в очевидного и вопиющего бездельника, имитирующего некую – не находящую какого бы то ни было спроса – активность. И сильно смахивающего в этом отношении на теперешнего российского воина – в условиях отсутствия военной доктрины и государственных границ. Поэзия стала занятием не только маргинальным, но и сугубо факультативным, превратилась в неуловимого Джо из ковбойского анекдота – неуловимого, потому что он никому не нужен.
Западная поэзия пришла к сегодняшнему тупику своей дорогой, которую соблазнительно было бы выдать за параллельную. Но это не так. Шестьдесят шесть лет, которые прожил Оден (двойной возраст Христа, – подчеркивает в своем эссе Иосиф Бродский), весьма в этом отношении показательны. Оден получил все, включая медные трубы, что дано было получить в нашем веке западному поэту, – и канул в воду забвения еще при жизни. Оден знаменитый поэт (и знаменитость в более широком идейно-культурном аспекте), и на его примере мы можем убедиться в том, что поэта не спасает даже собственная прижизненная знаменитость. И спасение – если оно все-таки существует – пролегает в какой-то принципиально иной плоскости.
Уистен Хью Оден родился в 1907 году в британском городе Йорке. Его отец, врач по профессии, был выходцем из Исландии. «Письмо из Исландии» – так называется книга, выпущенная тридцатилетним поэтом в соавторстве с другом и постоянным соседом едва ли не по всем антологиям Луисом Макнисом. Скандинавская тема никогда не звучала громко в творчестве Одена, разве что темперамент у него был, как сказал бы Юлиан Семенов, нордический, да еще – причудливая рифма самой судьбы – последней работой Одена стал перевод стихов нобелевского лауреата из Швеции Экелефа. И в детстве он любил читать скандинавские саги. А нобелевским лауреатом сам так и не стал.
Определяющим биографическим переживанием для молодого Одена стали годы обучения в Оксфордском университете – в рассаднике (как, впрочем, и Кембридж) литературных новаций, революционных идей, британских разведчиков и советских шпионов. Здесь сложилась «оксфордская школа» поэтов, которую он возглавил. Школа не то чтобы отпочковавшаяся от, но самым своим появлением обязанная творческому и жизненному феномену Томаса Стернза Элиота. «Потерянное поколение» (цвет которого полег на полях Первой мировой и в которое Оден не успел войти по возрасту) оказалось в поэтическом плане творчески маломощным. Растерянность – не лучшая напарница вдохновения. У Элиота же – в поэмах «Бесплодная земля» и «Полые люди», в «Песни любви Дж. Альфреда Пруфрока», в цикле стихов о Суини – впервые подал голос взбесившийся обыватель (или взбесившийся бюргер, по Льву Троцкому), еще не успевший осознать, насколько соблазнителен искус фашизма. Важней, однако, другое: произошло, согласно канону александрийской философии, «превращение единицы в двойку» – субъект поэтического высказывания отделился от объекта и противопоставил себя ему, мир души, описываемый и воссоздаваемый в поэзии, объективизировался и коррелировался.
Тем самым были созданы необходимые предпосылки для незазорного сочинительства. Поэзия (и в неменьшей мере эссеистика) Элиота подсказала поэтической молодежи, которую в Англии сразу же возглавил Оден, главное: стихи писать можно – и это ничуть не стыдно. И это достойно, – добавил, если не буквально, то всем своим творчеством Оден.
Были, конечно, и другие влияния. Трагический и велеречивый Йейтс. Превратившийся из популярного, но довольно заурядного прозаика в замечательного – и никем, кроме коллег по перу, не понятого – поэта Томас Гарди. Сухой и безжалостный, как Ходасевич, Хаусмен. В одиночку сражавшийся с собственным католицизмом Джерард Мэнли Хопкинс. Афористически четкий Эдвард Томас. Гениальный (но нереализовавшийся) поэт Руперт Брук. Однако пример Элиота с его (не ведающим еще религиозных сдержек и противовесов) нигилизмом, с его тотальной критикой цивилизации, общества, человека, эту цивилизацию создавшего и в этом обществе живущего, с его эсхатологичностью, заставляющей взглянуть на каждого как на «отверженного и в час Суда забытого» (перефразируя русского поэта-эмигранта Гронского), в наибольшей степени соответствовал юношескому максимализму (и юношеским комплексам; позднее Оден обратился к Фрейду), душевной смуте и драматическому (но субъективно воспринимаемому как трагическое) мироощущению поэта, опоздавшего принять участие в кровавом подведении предварительных итогов, каким стала для старших собратьев Одена Первая мировая война. Если Бога нет, значит, все дозволено, говорит один из персонажей у Достоевского. Бог умер, – гипнотически внушает Ницше. Если Первая мировая война с ее миллионами (впервые в человеческой истории) жертв могла состояться, значит, может произойти еще все что угодно – с такой мыслью жили европейские интеллектуалы в двадцатые годы. А вокруг – прожигали жизнь, делали деньги или занимались мировой революцией. И все три ипостаси общественного поведения оказались жизненно важны для молодого Одена – хотя бы по закону отрицательного эталона.
Но ничуть не менее важным слагаемым в творчестве молодого Одена была резкая, вызывающая витальность, помноженная на незаурядный лирический дар. Превосходя в этом смысле бесстрастного отрицателя Элиота, бунтарь и ниспровергатель Оден яростным эмоциональным напором заставил учителя потесниться на пьедестале. Радикально настроенная молодежь приветствовала как своего кумира и властителя умов именно его. Решительно отвергая весь образ жизни и систему ценностей буржуазного сословия, предчувствуя историческую неизбежность жестоких, трагических и необратимых перемен общественного климата, Оден смолоду связал в единый узел поэзию и политику – и понадобились долгие годы, прежде чем под этой вечно мутной рябью со всей определенностью проступил узор метафизической тайны бытия, составляющей (изначально, несмотря на все сиюминутные аберрации) главный предмет и главную – пусть и недостижимую – цель поэзии Одена.
Привлекала современников и широта палитры ставшего знаменитым поэта. Жанровая: от монументальных поэм и ораторий до пронзительных лирических фрагментов; баллады, оды, секстины, сонеты, античные строфы и свободный стих. Стилистическая и интонационная: от высокого трагизма до грубого гротеска, даже бурлеска. Тематическая: от религиозных и философских прозрений до жанровых сценок и баллад. Привлекала виртуозность во всем, за что он брался на поприще поэзии, дар Протея, – и в то же время удивительная внутренняя гармония, не покидающая поэта в самых эксцентрических эскападах. И если поэт на Западе в двадцатые – тридцатые годы еще мог быть поэтом, мог ощущать связь не только с традицией, но и с – пусть презираемым – обществом, то таким поэтом, наряду с Элиотом и (в меньшей степени) Эзрой Паундом, наряду с Йейтсом и Диланом Томасом, был для англоязычной (в первую очередь – британской) читающей публики именно Оден.
«Шутовским хороводом» назвал жизнь британского света и полусвета в двадцатые Олдос Хаксли. «Полыми людьми» окрестил участников хоровода Элиот. «Офицеры и джентльмены», – криво усмехался Ивлин Во. В бесполости упрекал современников Д. Г. Лоуренс. По-прежнему воспевал имперскую и рыцарскую доблесть вышедший из моды Киплинг. Технократические ужасы продолжал пророчить вышедший из моды Уэллс. Возвышение и гибель рода описывал Голсуорси. Отсюда, из британского далека, пожар, охвативший шестую часть суши, казался скорей живописным зрелищем, нежели угрозой бездомному и праздничному времяпрепровождению. А Веймарская Германия, преодолев в 1922 году инфляцию и разруху, стояла скалой. Апокалипсические настроения, владевшие молодыми английскими поэтами, и прежде всего Оденом, получили первое подтверждение в дни всемирного экономического кризиса. Почва дрогнула и начала уходить из-под ног.
О чем писал ранний Оден? О водоразделе, с высоты которого важно не только полюбоваться открывающейся красотой, но и помянуть павших в бессмысленной борьбе с природой. О диверсанте, гибнущем в глубоком вражеском тылу. О плоских «словах по берегам» современной цивилизации, которым надлежит внимать «тугим ухом» – то есть попросту не внимать. О «сатанинском мраке», затмевающем ясный (Божий) день. Слово «Божий» не зря заключено в предыдущей фразе в скобки – именно такой, исполненной сомнений и агностицизма, была религиозность Одена – и такою она, за исключением редких моментов просветления (епифании, как сказал бы Джойс), оставалась на протяжении всей жизни.
Самопознание – сократический ключ человеческой жизни. Самопознание, строго говоря, – единственный источник творческого вдохновения. «Задать тяжелый вопрос крайне просто, – заметил молодой Оден, – трудно найти на него достойный ответ». И десятилетие спустя осмеял в стихотворении «Лабиринт» примитивность научной логики, согласно которой правильно заданный вопрос обеспечивает достоверность или хотя бы приемлемость ответа. И все же вопросы, адресованные главным образом самому себе, наполняют и пронизывают его поэзию, и многие из этих вопросов впервые сформулированы самим Оденом.
Тема самопознания – это вместе с тем и тема пути. Точней, выбора пути. Выбора, осуществляемого в экстремальных условиях повседневного существования. Грань между творчеством и молчанием, между творческим поведением и обывательским столь же хрупка и зыбка, как между странствием и домоседством. Эта грань, эта трещина (по Гейне) проходит по сердцу поэта – как в хрестоматийном стихотворении «„Куда ты“, – наезднику молвил начетчик…», в котором парными (противоположными по смыслу, но сходными по звучанию) словами характеризуются не два антагониста (непоседа и домосед), но два настроения, две системы аргументации, две стороны одной и той же натуры. В секстине «Нравоучительный пейзаж» та же тема приобретает расширительное звучание и соотносится уже с судьбами человечества в целом.
Премногие ушли в смятенье в гору,
Карабкаясь, дабы увидеть остров,
Премногие влачат, дрожа, печали
И некуда им дальше грязных градов,
Премногие беспечно пали в воду,
Премногие гниют в глухой долине.
Печаль наша сие. Пройдет?.. Ах, в воду
Уйдут бесследно горы и долины.
Отстроим грады, позабудем остров.
Стихотворение это датировано маем 1933 года. Муссолини уже правил в Италии, Гитлер воровато, через разгон парламента и назначение новых, якобы свободных выборов, шел к власти в Германии, в Восточной Европе и на Балканах один за другим возникали президентские, близкие к фашистским, режимы. Запад – и Англию в особенности – охватила в эти дни поразительная слепота; Оден стал (или оставался) одним из немногих зрячих. Антифашистская тема надолго превратилась в его творчестве в определяющую, последовательный антифашизм стал осознанной жизненной позицией. Как все, к чему обращался в поэзии Оден, феномен фашизма оказался исследован им всесторонне: во всех аспектах деструктивного воздействия на личность и общество. Оден поехал в сражающуюся Испанию и написал ей торжественный реквием (поэма «Испания»). Но сначала, еще в ноябре 1934 года, было написано удивительное стихотворение «Невеста перед войной».
Фашизм, по Одену, уничтожает или до неузнаваемости извращает главное: самые святые человеческие чувства – Веру, Любовь, Надежду. Не то чтобы мир, обезображиваемый фашизмом, был изначально праведен и хорош (этот мир в свою очередь беспощадно осмеян и отвергнут в балладах «Мисс Джи» и «Виктор»), но Зло, идущее ему на смену, – зло качественно иного порядка, мрак куда кромешней… Вернувшись из Испании и не находя себе места в по-прежнему охваченной слепотой Европе, поэт предпринимает длительное путешествие на Дальний Восток, но и там думает все о том же. Тщетно было бы искать в его «Сонетах из Китая» (другое название и несколько другой вариант цикла – «В военное лихолетье», а дата создания – лето 1938 года) экзотические реалии: маскарад минимален, речь идет о неизбежности грядущей схватки со Злом. Понятие выбора пути, развилки, водораздела важно и здесь: деспот, по Одену, всегда – несостоявшийся святой, а святой – несостоявшийся деспот. И уж воистину пророчески звучит написанная в январе 1939 года «Эпитафия тирану».
Разумеется, противостояние поэта фашизму не было одномерным. Не чуждаясь резкой, порой даже грубой сатиры, роднящей его с Брехтом (которого Оден считал великим поэтом – мнение, которое оспаривает в посвященном Одену эссе «В угоду тени» Иосиф Бродский), Оден тяготел к иной (хотя также германской) традиции «трагического гуманизма», восходящей к великому Гете, а во второй трети нашего века связанной в первую очередь с именами Томаса Манна и Германа Гессе. Трагическое мироощущение соседствует в этой традиции с твердой опорой на гуманистическое наследие. Мир, в котором жило столько великих и прекрасных людей, мир, в котором создано столько прекрасного, по определению не может быть безнадежно плох.
Правда, в XX веке и эта концепция оказалась поставлена под сомнение. И не только ходом истории, но и наукой: фрейдизмом и социал-дарвинизмом со всеми отпочковавшимися от них теориями и дисциплинами. Отдав серьезную дань фрейдизму и посвятив памяти Фрейда возвышенное стихотворение, Оден сумел разглядеть в учении венского психиатра просветляющее и исцеляющее начало и вместе с тем удержался от шага в зияющую здесь бездну. Поэтому фрейдизм – в своей, так сказать, позитивной версии – предстает в его творчестве чем-то родственным, если не равнозначным искусству, а стихи на смерть Фрейда соседствуют с высоким гимном поэзии, каким предстал и навсегда остался триптих «Памяти Уильяма Батлера Йейтса», не только в силу близости двух скорбных дат. Целый ряд предвоенных (и первых военных) стихотворений Одена посвящен искусству и его творцам в их когда невольном, когда осознанном противостоянии Мировому Злу, воспринимаемому (скорей по Фрейду) не как органический изъян, но как болезнь:
Зло некрасиво и непременно человекообразно:
Спит с нами в постели и ест за нашим столом,
А к Добру каждый раз что есть силы тянут за руку…
На давно предугаданное им начало Второй мировой войны Оден откликнулся, возможно, самым знаменитым своим стихотворением «1 сентября 1939 года» с его сразу же ставшим хрестоматийным лейтмотивом: «Ближнего возлюби / Или погост и крест». Начало войны описывается здесь и как взрыв массового безумия, и как конец культуры, и как злоумышление «Похабных Отцов Страны», и как пагубная слабость демократии, в очередной раз пасующей перед тиранией. Внимательный читатель, несомненно, подметит в такой позиции внутреннюю противоречивость: ведь со Злом (с фашизмом), по Одену, нужно бороться – и вдруг сама эта борьба объявлена безумной и бессмысленной. Противоречие и кажущееся (предвидя бесчисленные жертвы войны, поэт заранее оплакивает их), и фактическое: в частности, негодование провозглашенным (на 1 сентября 1939 года) нейтралитетом США, на территории которых (в Нью-Йорке) Оден встретил эту дату и гражданином которых позднее стал, а также непонимание истинной (к моменту начала войны) роли СССР в ее развязывании лишили его необходимого хладнокровия. От чего стихотворение, конечно, только выиграло – но как шедевр поэзии, а не как гражданственное волеизъявление. «Ярость благородная» (так, по недоумию, назвали у нас сборник антифашистской лирики западных поэтов, выпущенный тридцать с лишним лет назад, – «ярость джентльменская», – криво усмехались переводчики) обрушивается в равной мере на всех участников (и неучастников) конфликта, различие не проводится, поэтически безупречные строфы (часть из них) становятся одномерными и плакатными:
Нейтральный небосвод,
В который на потребу
Цивилизации
Вонзились небоскребы,
Вобрал невпроворот
Взаимообвинений;
Но наше ремесло —
Не зеркало, а призма, —
И тычется в стекло
Нос империализма,
И миром правит зло.
С этим стихотворением на устах шли в бой и погибали – интеллигенты, по крайней мере. Но поэт разочаровывался в нем с каждым годом все сильнее: менял и опускал строфы; наконец, окончательно отказался от перепечатки его в послевоенных сборниках. И даже в полном собрании стихотворений Одена «1 сентября 1939 года» можно найти лишь в разделе «Стихи, исключенные автором из основного корпуса». Но мы, в стремлении представить читателю не просто поэта, но путь поэта, отходим от этой традиции. Читающим по-английски можно порекомендовать замечательный анализ стихотворения в одноименном эссе Иосифа Бродского.
«Советско-германский пакт 1939 года, начавшаяся неделю спустя Вторая мировая война потрясли Одена, осознавшего эти события и как крушение собственных высоких иллюзий, в которых будущее представало торжеством социальной справедливости, разума, свободы, – пишет отечественный исследователь А. М. Зверев. – Он уехал в США, сразу после войны приняв американское гражданство. ‹…› Страшная реальность того времени многое заставляла обдумать по-новому.
С рабочего стола Одена исчезают томики Маркса, уступив место сочинениям Серена Кьеркегора, датского мыслителя, еще в XIX веке обосновавшего идею восхождения личности к Богу через неизбежную и целительную стадию отчаяния, без которого невозможно осознать религиозное значение собственного жизненного опыта, – коренную идею христианского экзистенциализма. О своей обретенной вере Оден возвестил в стихах, помеченных 1941 годом. На самом деле тогда был только сделан решающий выбор. Истинное обретение придет к концу жизни, впрочем, так и не убедив ортодоксов в том, что оно свершилось».
Речь здесь идет о таких стихотворениях, как «Диаспора», «Восхождение», «Страшный суд» и о цикле сонетов «Героика». Любопытно, что в сходном направлении – хотя и куда более последовательно – эволюционировали в годы войны мировоззрение и творчество Элиота. Любопытно также, что христианский экзистенциализм, к которому через Кьеркегора пришел антифашист Оден, не избежал в лице своих ведущих представителей, и прежде всего Мартина Хайдеггера, сделки с дьяволом, то есть с фашизмом, тогда как атеистический экзистенциализм (Сартр, Камю) решительно ступил на тропу Сопротивления. Этим лишний раз подтверждается правота иронических строк Одена из стихотворения «Лабиринт».
В годы войны поэт создает крупномасштабные произведения: рождественскую ораторию «Для времяпрепровождения» и драматическую поэму «Море и Зеркало» (комментарий к шекспировской «Буре»). Это самые светлые, самые христолюбивые, самые благостные его творения. Впрочем, христианство Одена и здесь замешано на марксизме (или как минимум на гегельянстве): конечное торжество Добра предстает здесь синтезом вековечных тезы и антитезы. Да и сами по себе «Фауст» Гете и «Буря» Шекспира, избранные здесь предметом переосмысления и поэтического парафраза, – не лучшая подмога тому, кто вознамерился преодолеть собственные сомнения.
Так или иначе, обретенный было покой оказался весьма кратковременным. Окончание Второй мировой войны и немедленное начало «холодной» со всей неопровержимостью доказали Одену, что не христианская цивилизация взяла верх над хтонической нацистской ночью, а один тоталитарный режим в борьбе не на живот, а на смерть осилил другой, один кровожадный деспот уложил на лопатки другого. Послевоенный мир предстал поэтому едва ли не столь же омерзительным, как недавние армагеддон и холокост. Поучительно в этом отношении сопоставить два написанных подряд (но с интервалом в четыре года) тираноборческих стихотворения Одена – «Новый Порядок» и «Плач по Законодателю». Первое из них, датированное предположительно 1942 годом, представляет собой страстную антифашистскую инвективу – и не более того. Второе (предположительная датировка – 1946 год) выносит беспощадный приговор не только тирану, но и его подданным: народ заслуживает своих правителей – и шире: человечество обречено пребывать под пятой у тиранов:
Ибо он игнорировал ночные кошмары и умел определять их размеры,
Ибо для голодных химер у него нашлись холодные камеры,
Ибо он слушал сфинкса, пока тот не свихнулся,
Ибо он взял верх в сражении с разговорчиками,
Ибо он наступил на тупых, разрушил фортеции вертких,
Преодолел оборону осторожных и загнал загнанных
В подобающее им неподобное болото —
В топь топей,
В трясину отчаяния.
Перед таким – трагически осознанным – законом истории броня буржуазной демократии, буржуазной культуры оказывалась чересчур хрупкой. Демократия могла выстоять, только перестав быть демократией. Отсюда – маккартизм и многое другое. Сходных мыслей придерживался и современник Одена (и человек во многом аналогичной судьбы) Джордж Оруэлл. Было бы чудовищным упрощением воспринять его «1984» как сатиру антисоветскую. Обезличивание человека, совершаемое в рамках буржуазной демократии более изощренными, чем тупое насилие, но оттого ничуть не менее эффективными средствами, негативно вдохновило Оруэлла в той же мере, как и происходящее по нашу сторону железного занавеса. В 1953 году Оден описал буржуазную цивилизацию как безжизненную (то есть лишенную дыхания подлинной жизни) равнину (ср. стихотворение «Равнины»).
На первый взгляд и эти стихи пронизаны духом тираноборчества и антитоталитаризма – Кесарь, стражи… Но куда важней здесь мытарь (сборщик налогов). «Человеческое, слишком человеческое» (по Кьеркегору) подавляется Законом, Фортуна, даже повернувшись к тебе лицом, одаряет лишь жалкими пустяками.
Человек несчастлив изначально, несчастлив принципиально, в цивилизации, не им созданной, но ему навязанной, он ощущает себя пленником. Или – что страшнее всего, забывает и о том, что он пленник.
Искать спасения в любви земной и небесной? О небесной мы уже говорили: любовное приятие одухотворенного Верой бытия всегда давалось Одену с колоссальным чувственным усилием (и оставалось при этом все-таки умозрительным), как, например, в стихотворении «Пять Мерил», энергией ритма только маскирующем отсутствие истинного вдохновения (равнозначного здесь боговдохновенности). Не просто складывалось дело и с любовью земной. Гомосексуализм, не скрываемый, но и не афишируемый поэтом, придавал его любовной лирике определенную двусмысленность, накладывал печать изгойства, вел не в мир, но – прочь от него. Слава Одена в послевоенные годы упрочилась, но как бы окаменела, живой интерес к его поэзии (да и к поэзии вообще) постепенно сошел на нет, старость и респектабельное забвение пришли практически одновременно. Исчерпав гражданственный пафос своей поэзии (последнее и, возможно, наивысшее достижение – стихотворение «Щит Ахилла»), так и не придя к подлинной религиозности, поэт впал в то, что в XX веке (с легкой руки того же Элиота) принято называть поэтической метафизикой. (Термин, переводимый на русский язык лишь с легким оттенком презрения как умствование.) Теперь Оден принялся высвечивать (или просвечивать) предмет, понятие или факт, избранные темой стихотворения, на предмет поиска в них некоей загадочной – но истинной – метафизической глубины. Естественное для пожилого (а затем и старого) человека сужение непосредственных переживаний и впечатлений, подчеркнутое и усиленное добровольным изгнанием – Оден поселился в захолустной австрийской деревушке, лишь изредка выезжая оттуда в британские и американские университетские городки, – привело (впервые!) к разжевыванью, к мелкотемью, к болтливости. Истинный метафизический смысл поэзии Одена остался в прошлом (там, где он сочетался с гражданственностью и с интенсивными поисками Веры и как бы вырастал из них), не только фоном, но и определяющим жанром поэзии позднего Одена стали «стихи на случай». В значительной мере утратив контакт с читающей публикой, Оден все чаще принялся избирать для стихотворения конкретного адресата, посвящая стихи друзьям (или памяти друзей), приурочивая их к таким событиям, как высадка на Луну или ввод советских войск в Чехословакию, собственный отъезд из маленького итальянского городка или возвращение в него, не проводя – в своей новой возрастной субъективности – между всем этим аксиологической грани. Стихи оставались по-прежнему безупречны: по композиции, по форме, но – за редкими исключениями – не более того. Из них ушла обязательность поэтического высказывания – непременная примета лучших образцов поэзии Одена – и поэзии вообще. Здесь, впрочем, широкое поле для дискуссии – и такая дискуссия, начавшись еще при жизни Одена, не утихает и по сей день.
Одна – негативная – точка зрения изложена выше. Дополнительным аргументом в ее пользу могут служить неоднократные презрительные замечания самого Одена о необязательности поэтического высказывания как о решающем признаке дилетантизма. Согласно другой, позитивной, метафизические глубины и красоты поэзии позднего Одена более чем искупают ее вышеобозначенные недостатки. И здесь вновь ссылаются на самого поэта: стихи обязательно писать, но вовсе не обязательно читать. Обязательность высказывания никак не связана с обязательностью отклика: поэзия в новое время утратила когда-то присущую ей утилитарность.
Путь поэта всегда исполнен высокого трагизма. Поэты, умершие или погибшие молодыми, – вспомним отечественный мартиролог – избавлены, по крайней мере, от проклятия поэтической старости. Поэтовой, вернее, старости. «Если даже человек более полувека играет в шахматы, что такое мозги на восьмом десятке – не надо объяснять», – презрительно и страшно, но точно заметил Анатолий Карпов. А что такое душа? Здесь, конечно, возможны варианты, но все они безрадостны. К шестидесяти шести годам Оден сохранил остроту ума, но душа его не нашла прижизненного успокоения, ориентированная на метафизику мысль билась в кругу вопросов, не находя ответов. Вопросами, оставшимися без ответа, пестрит и последнее стихотворение Одена «Археология»; окончательный апофеоз «безвременного Добра» – последняя точка в творчестве поэта – не столько утверждение, сколько предположение или даже пожелание. Поэт так ничего и не понял (не познал, не постиг, не приобщился к благодати и т. д.) – и сумел, уже практически полузабытый, найти в себе мужество заявить об этом в полный голос; умер, как жил, преодолев обольщения и искушения, но сохранив достоинство трезвого ума и честного слова. И отсюда, от последних строк, путь души великого – повторим за Бродским – поэта Одена прочитывается ретроспективно как история нашего столетия, в котором семь тучных коров пасутся (по обе стороны) лишь на обочине, а семижды семь тощих мечутся в окруженном пламенем загоне. Это – история гуманизма, история гуманистического интеллекта во всей его безысходности. А все прочее, как сказал Верлен, писанина. Или религия – но это уже вопрос отдельный. И еще – язык, пиршество языка, каковым – и только каковым – при всей своей антиутилитарности является истинная поэзия:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































