Текст книги "О западной литературе"
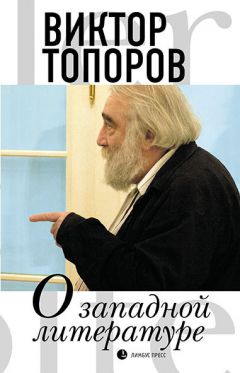
Автор книги: Виктор Топоров
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Решаясь все же на издание Додерера в таком объеме, составитель, очевидно, исходил из убеждения, что «Слуньские водопады» тематически, композиционно и стилистически представляют собой уменьшенную копию предыдущих романов Додерера (в масштабе 1:2 и 1:3), являясь одновременно, как более позднее произведение, новым шагом в творческой эволюции писателя. На той же точке зрения стоит и автор предисловия, и она, разумеется, совершенно правомерна.
Додерер, хотя об этом не просто догадаться читателю его художественных произведений, в становлении и развитии романа придавал решающее значение форме. Убежденный консерватор, поставивший себе целью хранить духовно-исторические ценности исчезнувшей Австро-Венгрии в незыблемом виде (и похожий в этом отношении на героя «Незримой коллекции» Ст. Цвейга – слепца, не ведающего о том, что все его бесценные гравюры похищены и подменены чистыми листами бумаги), он в области романной формы проявил себя дерзким и отчаянным новатором. Уникальна и стилистика Додерера: если отвлечься от ряда произведений и фрагментов, где он прибегает к намеренной архаизации, налицо осознанный и возведенный в принцип стилистический дальтонизм, нарочитое пренебрежение стилями в их разграничительной функции, одновременное обращение ко всем ресурсам родного языка поверх нормативных барьеров. В русской прозе ничего подобного нет и не было – и тем сложнее задача, встающая перед переводчиками Додерера.
О переводе (особенно о переводе прозы) у нас, увы, пишут обычно лишь в двух случаях: когда он замечательно хорош или когда он скандально плох. Чтобы не нарушать этой традиции, в данном случае следовало бы промолчать, отметив разве что мастерскую стилизацию «Окольного пути» (перевод С. Шлапоберской) и «Последнего приключения» (перевод А. Карельского), но ведь такая стилизация (архаизация) – локальный, хотя и важный аспект перевода прозы, и прозы Додерера в частности. В остальном перед нами добротные, со старанием и уважением к оригиналу выполненные переводы, но в «Деле Додерера» (если перефразировать название одного эссе австрийского писателя) этого мало. Открытие собственно додереровского стиля отложено на более поздние времена. Додереру – если иметь в виду последующие публикации, а о желательности таковых я уже говорил – необходим свой переводчик, человек с одинаково высоким художественным даром и уровнем филологической подготовки, человек, беззаветно любящий писателя и готовый отдать работе над ним долгие годы. Додереру необходим такой переводчик, каким стал С. Апт для Томаса Манна.
С выходом первой книги Додерера по-русски ликвидирована серьезная лакуна в нашем понимании всемирного литературного процесса, прежде всего в жанре романа. Сложная, противоречивая позиция человека и писателя Додерера привлекает читателя своим гуманизмом, если угодно, прикладным гуманизмом – желанием не только проповедовать добро, но и творить его. Не так уж много в XX веке писателей, исходящих из приятия мира и умеющих при этом писать о неприятном – и нелицеприятно. И здесь снова вспоминается Фолкнер, веривший в то, что человечество выстоит в любом случае. И даже в таком, добавил бы Додерер, когда «перед лицом всего этого длинный меч превратится в крохотное шило, годное разве лишь на то, чтобы судорожно стиснуть его в кулаке».
Тревожное кружево[14]14
Литературное обозрение. 1984. № 11. С. 67–70.
[Закрыть]
(Рец. на кн.: Хюберт ЛАМПО. – ПРИНЦ МАГОНСКИЙ. Сборник. Перевод с нидерландского. Составитель Ю. Сидорин. М.: «Радуга», 1982; Йос ВАНДЕЛОО. – СТЕНА. Роман, повести, рассказы и сценарии. Перевод с нидерландского. Составление Ю. Сидорина. М.: «Радуга», 1983.)
Тема минувшей войны, тема сведения счетов с нацизмом неизменно остается ведущей во фламандской, т. е. бельгийской литературе, созданной на нидерландском языке, и в родственной ей нидерландской литературе. Ситуация в современном мире, чреватая угрозой ядерной катастрофы, и статус заложников, в котором могут оказаться маленькие государства на берегу Северного моря, обманчивая надежность плодоносных польдерных почв, защищенных дамбами от разрушительного воздействия приливов и наводнений, кликушество неонацистов в соседней ФРГ и фактическая безнаказанность многих собственных коллаборационистов (особенно из среды крупного бельгийского капитала) – все это волнует умы и, естественно, находит отражение и в литературе. Возможно, именно поэтому поколение нынешних шестидесятилетних, переживших войну и оккупацию молодыми людьми, удерживает главные позиции в литературной борьбе, что не совсем типично для Запада в целом, где новые веяния или попросту мода то и дело выносят на гребень волны молодых писателей, отодвигая маститых на достаточно респектабельный, но все же граничащий порой и с забвением задний план. Из этого поколения советскому читателю до сих пор были известны лишь Пит ван Акен (автор антифашистского романа «Спящие собаки») и Хюго Клаус, причем последний только как поэт (перевод прозы Клауса еще предстоит, и чем скорее это произойдет, тем лучше). Теперь, с интервалом в год, предпринято издание однотомников прозы Хюберта Лампо и Йоса Ванделоо – писателей видных, значительных и (что не менее важно в «технотронную эру») достаточно широко по всей Европе читаемых.
Сборник Ванделоо озаглавлен «Стена» – по названию одного из рассказов. Выбор заглавия достаточно верен и символичен. Но если рассматривать рецензируемые однотомники как своего рода дилогию (а к тому есть серьезные основания), то слово «Опасность», вынесенное в заголовок другого произведения Ванделоо, представляется более точным.
В повести «Опасность», написанной еще в 1960 году, речь идет о мучительной смерти трех людей, заболевших лучевой болезнью в результате аварии на атомном реакторе. Писатель прибегает при этом к гиперболическому допущению (самый факт которого заметим на будущее: нам еще не раз доведется с подобными допущениями столкнуться) – больные лучевой болезнью могут заразить ею окружающих. Наиболее тяжело пострадавший случайно узнает о том, что все трое обречены, и сообщает об этом двум другим. Он умирает, а оставшиеся пока в живых решаются на отчаянное бегство из больницы, за ними снаряжают погоню: ведь они заразны, причем профессор из клиники, отдающий соответствующие распоряжения, чувствует себя царем Диомедом, скармливающим коням человеческое мясо (эпизод из мифов о Геракле). Беглецы, разумеется, вскоре гибнут, на чем повесть и заканчивается.
Стоило ли ее – такую – писать? И если да, то не точнее ли было бы ее назвать не «Опасностью», а, скажем, «Агонией»? Оказывается, нет; более того – лишь с осмыслением названия повесть раскрывается во всей глубине и становится понятна причина ее написания. «Опасность» трактуется здесь трояко – это опасность ядерного поражения, опасность заражения (которую представляют собой беглецы) и, наконец, опасность пренебрежения судьбами и интересами других людей, и эта опасность, пожалуй, главная.
Прежде чем решиться на побег из больницы, вдохновленные шекспировской фразой о том, что отчаянная болезнь требует для своего лечения отчаянных средств, пациенты-смертники Дюпон и Бентинг не раз и не два взвешивают возможные последствия своего поступка: ведь их попытка к спасению представляет опасность для жизни окружающих. Бентинг колеблется, Дюпон уговаривает его, и тезис последнего «по мне, пусть хоть все подохнут, все до единого» в конце концов берет верх над доводами морали. Опасность такого выбора, символически выделенная тем, что речь идет о смертниках, воистину страшнее всего. О ней-то и пишут оба фламандских мастера, прослеживая ее истоки и в глубине психики, и в глубинах Истории. Впрочем, история тут недолгая – оба писателя находят корни равнодушия и жестокости в войне и в нацизме.
В рецензируемых книгах напечатаны две повести, словно нарочно созданные для сопоставительного разбора. В обеих речь идет о войне, в обеих война увидена глазами подростка, причем подростка сельского, в обеих сюжет построен на истории солдата вермахта, отринувшего нацизм, в обеих такой солдат гибнет. Это повести Ванделоо «Враг» и Лампо «Принц Магонский». Сюжетное, да и идейное, сходство – при полном несовпадении творческих манер – громогласно заявлено уже в самих названиях повестей. Реализм критический и, еще раз забегая вперед, реализм магический.
Пятнадцатилетний подросток, герой и рассказчик повести Ванделоо, живет вместе со своими земляками и сородичами на «ничейной земле» – в местности, постоянно переходящей из рук в руки (дело происходит уже после высадки союзников в Нормандии, в последние месяцы войны). Американцы теснят немцев, немцы – американцев, а фламандские крестьяне отсиживаются в заблаговременно выстроенном бомбоубежище и ворчат при этом, жалуясь на известные неудобства. Американцы дружелюбнее: они угощают фламандского паренька шоколадом, досадуя при этом, что его двенадцатилетняя сестра для них еще чересчур зелена; немцы деловитее и угрюмее, но ведь и дела у них идут хуже – вот пока и вся разница. Слово «враг» остается понятием несколько абстрактным. Но вот во время очередного немецкого отступления в убежище, где терпеливо ждут промежуточной развязки местные жители, пытается спрятаться дезертир. Немцы смертельно ранят его, а крестьяне не умеют помочь «врагу» и не смеют его похоронить. Немецкие солдаты – уже другой отряд – возвращаются и, обнаружив труп земляка, приписывают его убийство крестьянам, а вслед за этим методично уничтожают всех деревенских мужчин, в том числе и отца рассказчика. Слово «враг» наполняется конкретным трагическим смыслом.
Гибнет, правда, уже в нацистском застенке, и отец рассказчика в повести Лампо «Принц Магонский». И дело тоже происходит в последние дни войны, и фон прописан с той же бытовой достоверностью. Только дружит Алекс (так зовут героя повести) не с американцами, как герой Ванделоо, а с хромым немецким солдатом, которого, несмотря на его увечье, не отправляют в запас, а, напротив, все время грозят послать на передовую. И солдат этот – человек незаурядный.
Начать с того, что не солдат он, а разжалованный майор. Разжалованный (и искалеченный) за отказ оставаться безучастным при виде расправы, чинимой эсэсовцами в варшавском гетто. И майором он в свое время стал лишь из-за какой-то оплошности, допущенной нацистскими кадровиками: ведь давным-давно, сразу же после прихода Гитлера к власти, он, историк по профессии, был уволен из университета, так как не пожелал вступить в нацистскую партию.
В сопоставительном разборе следовало бы отметить: всего этого нет у Ванделоо, но вполне могло бы и быть. Дальше, однако, начинается то, чему в его ясной, прозрачной, на грани беллетристики и журнализма прозе места уже не нашлось бы ни в коем случае. Начинается магический реализм.
Разжалованный майор именует себя Принцем Магонским. Нет, не в шутку. Он убежден в законности своих притязаний на магонский престол, он подкрепил их генеалогическими изысканиями. Правда, возражает ему Алекс, Магонии нет на карте, да и никогда не было. На карте не было, поправляет Принц, а на самом деле была: сказочная страна то ли добрых людей, то ли добрых духов, умевших летать по воздуху и безжалостно истребленных обыкновенными смертными еще при Карле Великом (при Карле Великом, т. е. в ключевой век для раннего Средневековья – это здесь значимо). Легенда, рассказанная хромым солдатом, который чинит по приказу начальства моторную лодку «для боевых операций» – и который чинит ее, уже по собственному выбору, с неторопливостью, переходящей в саботаж, легенда эта, как и само его появление, как и сама его дружба с фламандским юношей, оказывается не только уроком добра и гуманизма, но и ключом к иной, поэтически претворенной действительности. Переправившись через реку (на моторке, все же починенной Принцем), Алекс попадает в Край Чудес. Правда, это всего лишь крестьянская усадьба, но чудесны доброта, покой и любовь, царящие здесь и щедро даруемые пришельцу. Чудесно чувство, вспыхнувшее между ним и юной хозяйкой усадьбы. Чудесно, потому что необыкновенно. И в не меньшей мере чудесно то обстоятельство, что обитатели усадьбы живы и невредимы: ведь они евреи и судьба их в тех условиях, следовательно, предрешена.
Здесь важно отметить постоянное чередование и взаимодействие реалистического, можно даже сказать, бытового, и фантастического детерминизма, характерное для прозы Лампо. Очутившись там, за рекой, Алекс не только попал в Край Чудес, но и как бы привел за собой весь комплекс причинно-следственных связей, характерных для нашего мира; войдя в сказку, он ее тем самым разрушил. А вслед за ним пришли нацисты – и увели обитателей чудесной усадьбы туда, откуда не возвращаются. Вернувшись в реальность, герой повести, обогащенный этим трагическим опытом, возмужал, он испытывает теперь ненависть к немцам – ненависть, которую не могла в нем ранее разбудить и расправа над отцом; Принц Магонский вспоминается ему теперь чужаком, невесть зачем рассказывавшим юноше какие-то странные истории.
Но повесть на этом не кончается. Герою, пережившему вторжение реальности в сказочный мир, предстоит еще увидеть расправу над сказкой. На его глазах партизаны убивают Принца Магонского, убивают, когда тот идет сдаваться им, убивают, потому что он немец. И, оказывается, это повторное испытание помогает Алексу преодолеть слепую, неизбирательную ненависть и воспринять наконец урок, преподанный ему Принцем. Безжалостно попираемый гуманизм – и борьба за него, необходимость борьбы за него – тема этой яркой повести. И хотя нам непривычно читать об эльфах и троллях не в сказочной или шутливой форме, да еще в том же произведении, где речь идет о Варшавском восстании и Сталинградской битве, «Принц Магонский» расширяет наши представления о магическом реализме и его творческих возможностях. Но насколько велики были наши представления о сем предмете до сих пор?
Магический реализм, практиком и теоретиком которого выступает Хюберт Лампо (он автор двух пространных эссе об этом художественном методе), не следует путать с магическим реализмом латиноамериканским (Борхес, Кортасар, Маркес), хотя определенные параллели здесь налицо. Магический реализм Лампо и ряда других прозаиков, пишущих по-нидерландски, совершенно очевидно восходит к магическому реализму немецкому, т. е. к творчеству Казака, Носсака, Айхингер, частично и Борхерта – писателей, выдвинувшихся и волновавших умы в послевоенные годы. Магический реализм уже довольно широко проанализирован нашими литературоведами-германистами на конкретных примерах, сводной теоретической работы, однако, нет. На отсутствие отдельной главы о магическом реализме в энциклопедическом издании «Литературы ФРГ» как на досадное упущение указала Н. Литвинец в рецензии на эту монографию (ВЛ. 1982. № 11). Опираясь на опыт экспрессионизма и во многом родственное ему творчество Кафки, представители немецкого магического реализма пытались дать двойное – одновременно и реалистическое и параболическое – описание действительности и добились в этом отношении немалых художественно убедительных результатов: назовем известный у нас роман Носсака «Спираль», «Зеркальную новеллу» и «Связанного» Айхингер, а также пока не переведенное ключевое произведение магического реализма – роман Казака «Город за рекой». В произведениях магического реализма обычно присутствует налет мистицизма, но и сам мистицизм оказывается зачастую всего лишь функциональным художественным элементом и выступает в роли, родственной брехтовскому приему очуждения. Рассмотрим наиболее сильное или, во всяком случае, наиболее показательное из рецензируемых произведений – роман Лампо «Каспер в преисподней» – и проследим, как и почему на его страницах обычная реальность становится «магической» и «двойной».
Действие в романе построено по модели древнегреческого мифа: Орфей ищет Эвридику в царстве теней. Эта схема накладывается на не вполне заурядную, но в целом возможную житейскую ситуацию: знаменитый музыкант после драматического разрыва с возлюбленной (и покушения на ее жизнь) сходит с ума и оказывается в психиатрической лечебнице. Впрочем, сумасшествие его именно в том и заключается, что он считает себя убийцей своей возлюбленной, которую называет Эвридикой, и идентифицирует себя с Орфеем. Сбежав из лечебницы, он отправляется вызволить возлюбленную из загробного мира, т. е. из реального современного города, в котором легко угадываются черты Антверпена. Таким образом, «мифологическая упаковка» оказывается равнозначной маниакальному бреду героя. Правда, все эти реалистические и, если угодно, психиатрические разъяснения преподносятся лишь в конце романа, а до той поры мир и люди в нем даются сквозь восприятие больного музыканта без разъяснения природы этого восприятия, чем достигается эффект таинственности и мистичности. Второй этаж идейной конструкции романа связан с именем заглавного героя – Каспер. В этом имени бесспорная отсылка к истории Каспара Гаузера – таинственного найденыша, при загадочных обстоятельствах объявившегося в 1828 году на рыночной площади Нюрнберга и пять лет спустя столь же загадочно убитого. Тайне Каспара Гаузера посвящено огромное количество исследований (и художественных произведений, в том числе известный у нас роман Якоба Вассермана), но завеса над ней так и не поднята. В Каспаре усматривали возможного претендента на различные европейские престолы – даже на французский (некоторые считали его сыном Наполеона).
Однако для понимания романа Лампо важна не тайна Каспара Гаузера, а некоторые особенности его поведения. Объявившись на нюрнбергской площади шестнадцати-семнадцати лет от роду, он поражал крайней отсталостью и наивностью, не помнил своего прошлого, с трудом ориентировался во внешнем мире, едва умел говорить. Процесс узнавания мира и связанного с ним обретения языка придал судьбе Каспара Гаузера смысл философской метафоры в духе Мартина Хайдеггера (обозначение как первооткрытие; нахождение нужного слова как нахождение предмету нужного места в мире). Каспер Хюберта Лампо вследствие своей болезни также выпал из мира и вынужден узнавать и называть его заново; и то обстоятельство, что современный капиталистический город, в котором он очутился, Каспер принимает за преисподнюю, не искажает логики замысла, хотя и придает ей некоторую, вероятно, осознанную сатирическую остроту. Еще Вольтер послал своего Простодушного в Париж, чтобы высмеять не Простодушного, а Париж.
Потеря памяти главным героем как средство остранения действительности – прием не уникальный и не новый. Он применен уже в «Големе» Мейринка, встречается и в произведениях наших дней – от «Варварского берега» Нормана Мейлера до «Мертвой зоны» Стивена Кинга. Важно, что и зачем остраняется. Рискнем предположить, что именно остраненное видение (и показ) современного западного города и – шире – цивилизации составляет основу идейного замысла романа. Для того чтобы дать читателю возможность по-новому увидеть старое, надо само это старое прописать с максимальной отчетливостью и узнаваемостью – и Лампо прекрасно понимает это.
Действие открывается и в значительной мере происходит в гигантском современном порту (Каспер учится не бояться кранов и лебедок, не считать их мифологическими чудовищами) в преддверии и в течение забастовки портовых рабочих, организованной «красными профсоюзами». Демонстрация забастовщиков в финале романа жестоко подавляется (в результате чего гибнет Каспер), причем само это подавление гиперболизируется, заставляя увидеть в современных «стражах порядка» фашистских молодчиков. Тема фашизма, столь сильная в других произведениях Лампо, здесь заявлена не впрямую, но достаточно весомо. Вспомним, кстати говоря, фильм Жана Кокто «Орфей» (и служителей ада в узнаваемо эсэсовском обличье), показ которого в оккупированной Франции вылился во всенародную антифашистскую демонстрацию. Но продолжим последовательный рассказ о замысле Лампо. Из порта путь Каспера лежит в город – увиденный и показанный как некий Содом накануне серного ливня. Сластолюбие власть имущих (к которым когда-то как знаменитость принадлежал и герой романа) показано со многими отталкивающими подробностями; простодушный взгляд Каспера срывает одни покровы за другими – и вот прекрасная женщина на его глазах превращается в омерзительное животное (в буквальном смысле слова), шествие на кладбище оказывается шествием мертвецов, старухи-цветочницы становятся парками, прядущими нити человеческих судеб, бессмысленно подхихикивая, и только алхимики и книгочеи теплят свои лампады и колбы, понимая, однако, всю придуманность этого «идеального» занятия по сравнению с тупым механистическим разгулом, охватывающим все и вся.
Картина этого (неназванного) Антверпена во многом напоминает Амстердам, увиденный и показанный семьдесят лет назад Мейринком в романе «Зеленый лик», – совпадения здесь (как и в случае с Казаком) на грани заимствования, – но если Мейринк, рисуя свою апокалипсическую картину, предлагает лишь мистическую ее расшифровку, то Лампо, балансируя на весах магического реализма, тяготеет все же к реальности. Не случайно, думается, магический кристалл, искажающий зрение Каспера и заставляющий его видеть мертвецов во всех сытых, не срабатывает в окружении портовых рабочих, добродушного трактирщика Джонатана и его прелестной дочери: эти люди, столь же простодушные, как сам Простодушный, оказываются живыми – они вне преисподней, хотя и у входа в нее, они защищены, как бы заговорены от суетного городского небытия трудом и состраданием – тем, чего в этом городе днем с огнем не найдешь.
И все же далеко не все в романе поддается рационалистическому объяснению. Каспер действительно обладает способностью укрощать своим искусством диких зверей (как некогда Орфей), алхимики и чернокнижники действительно живут в современном городе, старухи-цветочницы действительно умеют заглянуть в будущее. Кажется, однако, что вопреки собственным теоретическим выкладкам Лампо не столько следует в данном отношении канону магического реализма, сколько вводит в ткань повествования некие поэтические по своей природе метафоры, образы и знаки, не поддающиеся одномерному прочтению, но тем не менее вполне соотносимые с реальностью. И вообще его манера письма отличается повышенной поэтичностью, что особенно очевидно в сравнении с «чистым беллетристом» Ванделоо.
Мастером притчи предстает в своих новеллах (самый сильный жанр в его творчестве) и Ванделоо, но параболичность эта совсем другого рода. Откровенно реальная, порой намеренно заниженная ситуация заостряется здесь до гротеска, а гротеск приобретает неожиданно фантастические черты. И все это сплавлено воедино ощущением опасности, предельной ненадежности человеческого существования: герои писателя – будь то трогательно влюбленные друг в друга юноша и немолодая женщина (роман «Уроки английского»), деловые люди, стремящиеся к преуспеянию и успеху (киносценарий «Мужчина пятидесяти лет»), или клерки, делающие первые шаги на чиновном поприще («Стена»), замужние дамы в критическом возрасте («Трава») или одинокие опустившиеся старухи («Залог за бутылки») – сходны друг с другом в одном отношении: один неверный шаг – и под ними разверзается бездна.
Здесь, как и в стилистической манере, между двумя фламандскими писателями заметно существенное различие: если Лампо как бы ставит под сомнение самое реальность или по меньшей мере нашу способность полноценно воспринимать ее (что особенно заметно в его новеллах «Дождь и газовый свет» и «Недермюнстерская мадонна», написанных в духе чистого магического реализма), то Ванделоо оспаривает всего лишь один, но едва ли не самый главный для мировоззрения современного западного обывателя аспект реальности – ее безопасность.
И вот парочка, спугнутая полицейскими, приходит к разрыву («Весенний вечер»); двое других возлюбленных, тщательно сохранявших в тайне свою связь, волею случая попадают на первую полосу газет («Посещение подворья бегинок»); искренний, но неуклюжий жест сочувствия влечет за собой смерть той, кому посочувствовали («Который час, менеер?»); неудачный розыгрыш приводит шутника на скамью подсудимых по обвинению в убийстве («Шутка»). Гротесковость этих на первый взгляд невозмутимо достоверных историй подготавливает читателя и к тому, что можно забраться на холм в отрогах Альп и быть затоптанным насмерть невинными овечками («Овцы»), пойти в цирк – и превратиться в обезьяну («Мужчина с гориллами»), получить в подарок цветок – и погибнуть в смертельном объятии этого цветка («Кротон»). Конечно, и здесь можно было бы усмотреть черты магического реализма, влияние Кафки (в особенности знаменитого «Превращения») и т. п., но, думается, фантастические гротески такого рода уже давно стали расхожей монетой для писателей самых различных направлений, и выстраивать генеалогию влияний и взаимовлияний здесь нет нужды. Традиционность прозы Ванделоо очевидна, а ценность ей придает наряду с остротой и меткостью видения и письма ее несомненный гуманистический пафос.
Насколько сложней обстоит дело с Лампо: тоска по эстетическому и метафизическому идеалу играет в его творчестве не меньшую роль, чем общественно-политические и гуманистические устремления писателя.
Различие творческих манер выявляет и подчеркивает общность тематики и особенно проблематики в творчестве двух видных фламандских писателей, что и позволяет отнестись к сборникам их произведений как к своего рода дилогии. Дилогии, которую в интересах читателя надо бы в ближайшие годы развернуть как минимум в тетралогию.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































