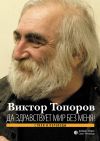Текст книги "О западной литературе"
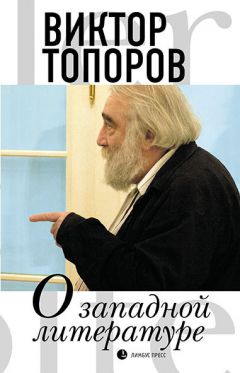
Автор книги: Виктор Топоров
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Сужденья образуют мирозданье,
В котором все послушно их азам.
Лгать может вестник, но не сообщенье.
У слов нет слов, нет верящих словам.
(«Слова», 1956)
«Лгать может вестник, но не сообщенье». Оден – из вестников, положивших жизнь на то, чтобы не лгать.
[Из современной датской поэзии][7]7
В кн.: Из современной датской поэзии: Сборник / Пер. с дат.; Составл. Б. Ерхова; Предисл. В. Топорова. – М.: Радуга, 1983. С. 5–22.
[Закрыть]
Дания не подарила миру великого поэта. Так уж вышло. В пантеон всемирной культуры попали датский сказочник, датский философ и датский физик, всю ее осенила загадочная фигура Принца Датского – но датского поэта там нет. Гремел когда-то Иоханнес Эвальд, далеко перешагнула границы маленькой северной страны известность Адама Готлоба Эленшлегера, но по сравнению со многими и многими поэтами других стран их ореол изрядно блекнет. И если уж говорить о серьезном вкладе в европейскую и всемирную культурную сокровищницу, то таковой внесен не индивидуальным поэтическим творчеством, а фольклором – датские народные баллады полны оригинальности и очарования, позднейшему датскому стихотворству не присущими.
И вот – сборник современной датской поэзии. Собственно говоря, не только современной – здесь представлены и стихи, созданные во вторую треть нашего близящегося к окончанию века. На материале творчества шести поэтов показано последовательное развитие датской поэзии за этот период. Причем, поскольку сюда входит тридцатилетие, вобравшее в себя Вторую мировую войну, во время которой Дания была оккупирована нацистской Германией, тема антифашистского Сопротивления занимает в книге заслуженно важное место.
Творчество поэта, прозаика, критика, эссеиста и переводчика ПОЛЯ ЛАКУРА (1902–1956) представлено в настоящей антологии главным образом поздними стихами. Причина тому и в известной эстетической неравноценности созданного Лакуром (зрелые произведения оригинальнее и весомее), и в суровой оценке ранних стихов, данной самим поэтом в размышлениях о своем творческом пути и отчасти в поздней лирике. Лакур как поэт родился, по его собственному утверждению, как бы дважды – и его второе, подлинное рождение было связано с испытаниями военной поры.
Вторая мировая война, национальное унижение, вызванное оккупацией Дании, начало – в ответ и вопреки ему – героического Сопротивления горстки подпольщиков – лишь связанный с осознанием всего этого трагический опыт позволил Лакуру обрести подлинный голос, пробиться к Слову, которое он в высокой Фаустовой традиции почитал равнозначным Делу. Метаморфоза в широком плане западноевропейской поэзии типичная и вместе с тем глубоко индивидуальная.
Виртуозная игра в поэзию – таково было довоенное творчество Лакура. Пожалуй, лишь в любовной и пейзажной (пантеистического толка) лирике ранних лет с ее выверенным, хотя на первый взгляд довольно неровным, слогом, точным и образным зрением и музыкально организованным стиховым потоком намечен был некий путь к позднейшим свершениям.
Далёко, уже у забора, столпились
снопы, выгибая тяжелые шеи.
Жнивье постепенно меняет окраску —
от ржавой до серой – светлее, светлее…
(Перевод Т. Бек)
Поэтическая летопись датского Сопротивления фашистским захватчикам – самая яркая, самая значительная страница в творческой биографии Лакура. Прямой публицистический пафос «строк по кругу, из уст в уста, рифм, зачитанных до дыр» приходит на смену былым туманным и велеречивым суждениям. В свое время у нас выходила антология западноевропейской антифашистской поэзии под названием «Ярость благородная». Ярость, о которой пишет и которую испытывает Лакур, несколько иного рода – это «ярость беззащитных», решивших тем не менее вступить в неравный бой:
Меч может притупиться,
натешиться и напиться,
ярость же беззащитных
длится, покуда длится.
И священная сила в груди,
и горючее воинство слез.
Мы горючие капли, наш бой впереди,
сточим камень, темницу, утес.
Однако победоносное завершение битвы против фашизма принесло многим прогрессивным художникам Запада не только радость. Надеждам, которые они и в личном, и в общественном плане связывали с первыми послевоенными годами, суждено было сбыться не полностью – и тем сильней ощущалась горечь разочарования. Судьбу этих художников разделил и Лакур.
В его лучших довоенных стихах – пейзажных и любовных – уже намечена тема отчуждения, ставшая позднее главной и едва ли не единственной. Еще все хорошо, все как бы взаправду в царстве поэтических грез, в своего рода благословенной Касталии (наподобие описанной Германом Гессе в романе «Игра в бисер»), разобщенность между людьми и народами еще преодолевается или, верней, игнорируется самими условиями поэтической игры, но малеванные задники поэтических подмостков живут своей жизнью – и не пускают в нее поэта. И если отчужденность в общественном плане будет на какое-то время преодолена в едином антифашистском порыве – и стихи Лакура сыграют в этом достойную роль, – то отчуждения более глубинного поэту так и не удастся преодолеть.
И тогда (в поздней лирике) выяснится, что природа не пускает поэта в свое тайное, главное, самодовлеющее бытие («Лес»), что дитя, которое вынашивает возлюбленная, навсегда разъединит любящих («Время ожидания»), что внезапная близость с незнакомыми людьми в чужом городе (из одноименного стихотворения) иллюзорна, ибо их образ жизни и сам их язык неизвестны и принципиально непознаваемы, и что лучшие, звездные часы всей жизни остались в прошлом («Врата»). Даже тема антифашистской борьбы приобретает трагически двойственное звучание («Победителям»), когда становится несомненным, «что полпобеды – победа еще не вся» и что сказочный Дракон, олицетворяющий земное зло, оказался, как в сказке, воистину девятиглавым. Образ «истинного победителя» также приобретает по окончании мировой и в канун «холодной войны» трагические черты. Победитель идет
в поход до скончанья мира
и первоначала дней,
сквозь гиблую топь бесчестья
и цепь роковых огней.
Заглавный образ сборника «Живая вода» (1946), включившего как военные, так и послевоенные стихи поэта, реализуется через мучительные и, увы, безуспешные поиски «живой воды» – средства воссоединения с живой действительностью, – и лишь интенсивность этих поисков вносит, как всякое страстное чувство, оптимистическое начало в книгу горьких и безысходных раздумий.
Позднее поэт поддается влиянию новейшей французской лирики – Франция, страна его юношеских скитаний, становится теперь воспитательницей души. Меняется тон и стиль стихотворений: суховатый, немногословный верлибр приходит на смену правильным или почти правильным традиционным размерам, и, главное, резко изменяется сам характер поэтического высказывания – на смену размышлениям-поискам приходят размышления-констатации. Рациональность мышления становится панацеей, призванной если не излечить, то затушевать основной недуг – иррациональность выводов. Патриотизм, столь ярко заявленный в антифашистской лирике Лакура, оборачивается желанием очутиться «дома, чтобы умереть, дома». Путь поэта завершается в точке, где «примирились во тьме немота и песня», и оказывается во многом блужданиями по кругу.
Но и в этих головных попытках преодолеть отчуждение, как и в отчаянных метаниях послевоенных лет (не говоря уж о мужественной поэзии подпольной борьбы), Лакур остается самим собой: поэтом серьезным и честным. Поэтом, опыт которого – и позитивный и негативный – в равной степени актуален.
До послевоенных разочарований, отягчивших душу и музу Лакура, не суждено было дожить другому участнику датского Сопротивления – МОРТЕНУ НИЛЬСЕНУ (1922–1944). Даты его жизни отзываются в наших сердцах знакомой щемящей болью. Да, все правильно. Ровесник студентов ИФЛИ, ушедших со студенческой скамьи на фронт, Нильсен юношей вступил на путь подпольной борьбы и пал сраженный шальной пулей незадолго до освобождения. Тоненький сборник «Воины без оружия» (1943) и несколько стихотворений сорок четвертого – вот все его поэтическое наследие.
Нильсену было не суждено реализовать свое несомненное поэтическое дарование полностью. Он просто не успел этого сделать. Юношеские стихи, в которых возлюбленная сравнивается с испанской герцогиней, во всей их условности и олитературенности стали для молодого датского читателя чем-то вроде когановской «Бригантины». Предчувствия грядущих испытаний обернулись грозной явью:
Мне снится: нависла рука надо мной,
чтоб дух разлучить
с оболочкой земной.
Блеск лезвия. Алая льется струя.
И падай во мрак,
в вечный сон забытья.
…
И шепчет мне страх: если нынче умрешь,
ты в самом начале
свой путь оборвешь.
(Перевод А. Ревича)
В поэзии Нильсена, как и в антифашистской лирике Лакура, главный упор сделан на выражение «ярости беззащитных». Не сражение, до которого дело могло и не дойти, но постоянное ожидание, постоянная готовность к нему – готовность, в которой сознание собственной слабости не отменяет смелости:
Мы ждать, видит бог, научились,
пускай с грехом пополам,
сжимая приклад и гранату
в глубинах окопов и ям,
хотя часы ожиданья
сковали нас по рукам.
(Перевод А. Ревича)
Поэзия Нильсена во многом родственна стихам уже известного советскому читателю польского поэта-антифашиста Бачиньского: и у того и у другого предчувствие скорой гибели и постоянная готовность к ней становятся оселком, на котором проверяется подлинность прочих чувств. «В дни, когда мы ощущаем за спиною смерть… учимся… любить больше, чем когда-то», – пишет Нильсен. Восторг перед зимним пейзажем немыслим без напоминания: «Представь, что последний на свете кружит снегопад над тобой». Все видится в ином, подлинном свете вчерашнему юноше в часы, «когда прожекторов метлы ночную метут темноту». И призыв к борьбе, «к действию» раздается уже из уст взрослого, зрелого человека, способного думать не только о себе и о своих сверстниках, но и «о внуках, чья мысль воплотится в звук, в камень, в слово и цвет».
Правда, зрелый человек не стал зрелым поэтом. Стихи Нильсена дышат несколько наивным юношеским романтизмом, от которого поэт в дальнейшем, вне всякого сомнения, отошел бы. Своя интонация, свой творческий почерк – все это брезжит в творчестве Нильсена, сквозит в прерывистых, приглушенных строках, в нарочитой безóбразности, в попытках преодолеть риторику во имя истинной поэзии, и всему этому, повторяю, было не суждено реализоваться в полной мере. Небольшое собрание стихотворений Нильсена остается, в полном смысле слова, недопетой песней – а таким песням мы всегда внимаем с особенным благоговением.
С самого начала был опален войной и творческий путь ХАЛЬФДАНА РАСМУССЕНА (род. в 1915 г.). Его ранние сборники – «Солдат или человек» (1941) и «Скрытый лик» (1943) – трактуют тему существования в условиях фашистской оккупации. Не обращаясь впрямую к героике Сопротивления, поэт, однако, осуждает пассивную покорность злу, называя ее прямым соучастием в нем («Я был соучастником зла»). Чистые руки, руки, не замаранные никаким преступлением, оказываются в его стихах руками труса:
Чисты были руки, но страх
сковал их, и руки робели,
тогда как твои огрубели
от шрамов, нажитых в боях.
(Перевод В. Вебера)
Видения (из одноименного стихотворения) становятся некой анатомией страха, который человеку необходимо преодолеть, чтобы обрести подлинное я; «время ожидания», о котором писали Лакур и Нильсен, превращается в «край ожиданий», а этим краем оказываются небеса:
Жмемся слепыми кротами к земле
под пламенеющим небом,
глухи, как эти прибрежные камни,
выброшенные волной,
чада Адамовы, молча лежим,
губы немые сжимая,
в край ожиданий подчас устремляем
наш обезумевший вой.
(Перевод А. Ревича)
И все же военная тема не стала в творчестве Расмуссена главной. Скорее можно сказать, что вынесенная из военных испытаний тема человеческого достоинства, попранного и попираемого, зазвучала лейтмотивом в его поэзии, объединяя далеко отошедшие друг от друга в формальном и содержательном плане стихи. Мотивы «преодоленной тоски» и «веры в людей», восходящие все к той же теме, слышатся и в стихах Расмуссена о современности, и в его значительном по объему цикле стихов на античные сюжеты (отчасти написанном античными размерами): «Фрагмент III», «Сапфо», «Дионис у моря». Звучит в них, разумеется, и тема искусства – искусства, стремящегося вернуться, вырваться из «ослепления красоты» (вспомним «слепых кротов» из «Видения») «домой, к серым будням».
Но это возвращение из книжного мира, полного классических реминисценций и литературных аллюзий, было вовсе не простым делом. Умение изображать и отображать действительность неопосредованно так и не пришло к поэту. Счастливым выходом из намечавшегося тупика стали «Шутки» – сборники иронических, гротескных и парадоксальных стихотворений, широко захватывающих пласты реального мира и подающих его в обрамлении юмора и сарказма. «Шутки» (первый сборник вышел в 1951 году, за ним последовали и другие), равно как и стихи для детей, в настоящей книге не представленные, принесли поэту широкую популярность.
«Шутки» Расмуссена построены на определенном условном допущении, позволяющем увидеть привычное в новом свете (прием остранения). Кого удивили бы, например, сатирические нападки на отставного чиновника с его убого удобными мещанскими представлениями и странноватым кругом пенсионного чтения – фантастическим как по подбору и сочетанию, так и главным образом по извлекаемой из книг морали? Но Расмуссен пишет о начитанной лошади, первой из трудящихся четвероногих Севера удалившейся на заслуженный отдых и воистину лошадиными дозами изрекающей прописные истины. Причем в мозгу у лошади – та же мешанина, что у современного, одуренного обилием информации обывателя:
Все объяснит – поэтично, понятно, уютно,
даже научно, цитируя благоговейно
где-то Кропоткина, где-то Альберта Эйнштейна,
все, что живет на земле, одобряя попутно.
(Перевод Е. Витковского)
«Шутки» Расмуссена возникли, понятное дело, не на пустом месте. Здесь следует вспомнить и стихи немецкого поэта начала века Кристиана Моргенштерна, и иронические баллады англо-американского поэта Уистена Хью Одена, и, возможно, раннее творчество Н. Заболоцкого. Однако эти стихотворения удачно наложились на датскую действительность и в свою очередь вызвали многочисленные подражания. В целом Расмуссен предстает поэтом значительным и разнообразным, хотя и не без налета некой излишней мастеровитости, умело маскирующей порой отсутствие оригинального вдохновения. Подобная многоликость поэтического творчества – случай нечастый и почти всегда чреватый некоторыми издержками.
В неопосредованном отображении действительности никак нельзя отказать TOBE ДИТЛЕВСЕН (1918–1976). Правда, угол зрения поэтессы достаточно узок – мир женской души, женская судьба, женская доля или, как вынесла она сама в заглавие поэтического сборника, «Женский нрав» (1955). Творчество Дитлевсен подчеркнуто автобиографично – это относится и к лирике, и к многочисленным прозаическим произведениям (романы «Обидел ребенка» (1941), «У нас есть только мы с тобой» (1954) и др.). Поэтесса писала и традиционным стихом, и свободным, причем, как представляется, верлибр был для нее более органичен. Может быть, правда, это связано с тем, что к свободному стиху поэтесса обратилась позже, преодолев уже период неизбежного ученичества у многочисленных предшественниц. Из ранних рифмованных стихов следует выделить небольшую поэму или, вернее, лирическую композицию «Улица детства», в которой на фоне элегических и ностальгических воспоминаний развернута широкая и психологически достоверная панорама жизни города. Точность бытовой и психологической характеристики, так сказать, поэтического портрета вообще была присуща Дитлевсен (например, стихотворение «Белый кельнер»), и можно только пожалеть, что поэтесса обращалась к жанровой лирике сравнительно редко, сосредоточив главное внимание на собственных интимных переживаниях.
Любовная лирика Дитлевсен не складывается в привычный лирический дневник (самый, пожалуй, распространенный вид «женской поэзии» и на Западе, и у нас); скорее можно говорить об испытании любовью, которому поэтесса подвергает свою лирическую героиню не столько в различных житейских ситуациях, сколько в том или ином душевном состоянии, чуждаясь последовательного повествования «о времени и о себе». Здесь и поиски «определения любви» (по слову Бориса Пастернака и англичанина Эндрю Марвелла), причем чаще всего – от противного:
Я паданцы
ловлю
в саду
висячем
сердца,
смягчаю удара тяжесть
и не желаю, чтобы так меня любили.
(Перевод Нат. Булгаковой)
Здесь и мучительный отказ от прошлого, как в поразительном стихотворении «Другие», героиня которого требует – у властей, у полиции, у слесарей, умеющих изготовлять надежные замки, – защиты от посягательств на нее со стороны тех, кто, увы, имеет на это право, ибо оказывался когда-то предметом ее чувств. Здесь и прямо противоположные этому попытки дозвониться «по номеру, что вычеркнут вчера из книжки записной, а новые под ним уже теснятся, кичливо отрицая все связи с прошлым». Здесь и попытки подняться до платонического идеала любви («Прекрасный сон»). Любовная лирика в позднем творчестве Дитлевсен естественно перерастает в лирику философских раздумий. «Старая дама», какою оказывается теперь лирическая героиня, помнит себя и ребенком, и юной девушкой, но уже не в силах сложить из этих воспоминаний цельный образ, «будто кадры на пленке наезжают один на другой». Теперь, «когда все слишком поздно», наступает некое безрадостное успокоение, и внешний мир возвращается в стихи Дитлевсен (сборник «Взрослые», 1969), но это возвращение окрашено в тона глубокой печали.
Дитлевсен была также известной детской писательницей и поэтессой. Но и, говоря о ее «взрослой» лирике, нельзя не упомянуть ее стихи о детях и о счастье материнства – самые светлые и, возможно, самые проникновенные страницы ее творчества:
Были они ожиданьем,
радостью невыразимой,
сродни облакам и звездам,
с миром нерасторжимы.
…
Потом разогнули спину,
тесно им в доме стало,
следы на песчаной дорожке
быстро дождем сровняло.
…
Слезы со щек огрубелых
дождик смыл незаметно,
взрослые голоса их
умчались куда-то с ветром.
(Перевод И. Бочкаревой)
Ровесник века ВИЛЛИАМ ХАЙНЕСЕН – фарерский поэт и писатель, пишущий по-датски. Если всю Данию – в смысле ее литературной жизни – можно несколько условно назвать европейской глубинкой, то Фарерские острова, расположенные между Великобританией и Исландией, принадлежащие Дании, но сохраняющие некоторую автономию, с их малочисленным населением, скудной почвой и суровым климатом – глубинка датская. Хайнесен, однако, писатель отнюдь не провинциальный, наоборот, в современной датской литературе он фигура первого плана с заслуженной европейской известностью.
Проза Хайнесена, занимающая в его творчестве, пожалуй, главное место, сопоставима во многих отношениях с романами его знаменитого северного соседа – исландца Халлдора Лакснесса. Для обоих писателей местная экзотика служит фоном, на котором разворачивается действие эпических, широкомасштабных полотен с психологически точными и символически обобщенными центральными персонажами и во всех смыслах убедительно решенными фигурами второго ряда. Таковы романы Хайнесена «Черный котел» (1949), «Пропащие музыканты» (1950) – эти два романа были изданы в 1974 году в русском переводе издательством «Прогресс» в серии «Мастера современной прозы», – «Мать семи звезд» (1952). Главная тема романа «Добрая надежда» (1964) – взаимоотношения между Данией и Фарерами, рассмотренные в историческом и современном аспектах.
В поэтическом творчестве, сопутствующем Хайнесену на протяжении всей жизни, писатель разрабатывает те же мотивы и темы, что и в прозе, но, пожалуй, с еще большим вниманием к злобе дня. Певец символически преображенного северного пейзажа («Зима зажигает факелы…», «Самый крайний остров» и др.), он в то же время самый последовательный сторонник гражданственной поэзии из авторов, представленных в этой книге. Проблемы войны и мира, свободы и порабощения, культуры и псевдокультуры не оставляют Хайнесена равнодушным; его позиция – активный гуманизм и антимилитаризм, хотя порой и отягощенные сомнениями в способности человечества предотвратить самое худшее:
Ничего, ничего не останется, может быть, ничего
в этом мире вскипающей злобы звериной
и набравшего скорость военно-технического прогресса.
(Перевод Е. Витковского)
В формальном отношении Хайнесен иногда бывает склонен к сложному, игровому верлибру; порой для него характерно перенасыщение поэтического текста символами и именами (в своей общеизвестности также ставшими символами) из европейской культурной традиции, не исключено, что в этом сказывается преувеличенная реакция на возможное подозрение в провинциализме.
Есть у Хайнесена и стихи откровенно программные, в число которых, безусловно, входит цикл «Воспоминания о паломничестве», написанный под впечатлением поездки в СССР на Горьковский симпозиум (1968) и опубликованный в сборнике «Пейзаж с радугой» (1972).
«Большой художник и истинный гуманист, активный общественный деятель, борец за мир и демократию, давний друг Советского Союза, Виллиам Хайнесен по праву занимает место в ряду крупнейших мастеров современной прогрессивной литературы», – пишет о нем советский исследователь И. П. Куприянова в предисловии к однотомнику прозы. По праву занимают место и его стихи в нашем сборнике.
Читая настоящую антологию, замечаешь, как меняются не только формы и средства отображения действительности, но и сама отображаемая действительность. От во многом традиционного и сосредоточившегося на осмыслении опыта военных лет Лакура и не успевшего стать по-настоящему оригинальным Нильсена, минуя ушедшего в иронически-гротескный или стилизованно-классический комментарий к реальности Расмуссена и во всей своей неподдельной искренности специфически женскую поэзию Дитлевсен, сделав крюк через Фарерские острова, чтобы с их расстояния и с высоты птичьего полета поразмышлять над проблемами современности вместе с Хайнесеном, попадаешь в сегодняшний день датской поэзии, обращенной в сегодняшний день Дании. Таково творчество Бенни Андерсена.
БЕННИ АНДЕРСЕН (род. в 1929 г.) – возможно, крупнейший датский поэт XX века. Пристальный наблюдатель действительности, гуманист без патетики, патриот без риторики, критик западной цивилизации без назойливого морализаторства, поэт, средствами современного стиха запечатлевший всю сложность и противоречивость нынешнего времени и нынешнего сознания, Андерсен подвел черту под сказанным предшественниками (отчасти и теми, кто представлен в антологии) и наметил дорогу последователям, с которыми нам еще предстоит когда-нибудь познакомиться.
Названия сборников Андерсена – «Музыкальный угорь» (1960), «Фотоаппарат с выходом на кухню» (1962), «Из шляпы джентльмена» (1964) и «Здесь, в заповеднике» (1971) – могут навести на мысль о том, что перед нами сатирик. Но это не так. Скорее, здесь декларируется самоирония, неизбежная спутница умного человека, со всей серьезностью подходящего к своему делу. А именно так Андерсен и относится к творчеству.
Поэзия, по мысли Андерсена, рождается из удивления – чувства, посещающего современного человека не так уж часто («Один раз лет в десять я удивляюсь тому, что живу на белом свете»). Удивлению мешают не только стандартная обезличенность бытия, но и неотступные мысли о том, что все уже сказано («Уже написан Вертер» – Пастернак) и что к открытому Кафкой и Достоевским, которые «исковеркали юность мою», добавить как будто нечего. Достоевский помянут здесь как знаток человеческой психологии, а Кафка – как создатель модели отчуждения человека от государства и религии. «Сумма цивилизации» (по аналогии с «Суммой технологии» Ст. Лема) приравнивается поэтом к строительству Вавилонской башни, в котором и он сам – вопреки сомнениям и не веря в торжество дела – вознамеривается принять участие. Ради чего?
Ради пути я иду
ради ходьбы я иду
не ради конечной цели —
я в целом не верю в цели.
(Перевод В. Тихомирова)
Не стоит воспринимать это кредо чересчур буквально. У Андерсена, как и у многих современных поэтов, нигилизм или релятивизм выводов – только «кажимость», призванная спровоцировать читателя на ответную реакцию с противоположным знаком:
Полезны волосы в парикмахерской,
зубы – в кабинете дантиста,
ноги – чтобы ходить по ногам.
(Перевод В. Тихомирова)
Показательный и в известной мере программный пример «провокаций» такого рода – стихотворение «Диета»:
сыр отбивает обоняние
хрен отбивает вкус
печенье отбивает слух
редиска сужает кругозор
…
пища опасна для желудка
жить вредно
чав-чав
чав-чав
чав-чав.
(Перевод Т. Бек)
Несомненна и антибуржуазная направленность подобных поэтических «провокаций».
Однако не следует называть эти выпады обличениями. Поэт остро чувствует свою сопричастность (или, если угодно, совиновность) обществу потребления, может быть, здесь и нужно искать истоки самоиронии:
Потому что во мне тот же ужас.
Потому что я сам о себе
говорю уже в третьем лице,
чтобы опередить потомков:
«О, сегодня, как никогда, я преисполнен сил!» —
воскричал он, стуча в крышку гроба.
(Перевод В. Тихомирова)
Противовес иронии и самоиронии в творчестве Андерсена – ноты сострадания и доброты, негромкие, но оттого особенно берущие за душу. Впрочем, и здесь речь идет главным образом о том, что помочь никому и ни в чем нельзя, о том, что «подставить жилетку чужому плачу», равно как и «быть хорошим все время», трудно – «так же трудно, как задержать надолго дыханье», но гуманистическая направленность такого рода стихов («Доброта», «Дружба», «Точка зренья на жалобные песни») очевидна.
Удельный вес любовной лирики в творчестве Андерсена невелик; она естественно входит в круг стихотворений, посвященных человеческим чувствам, и окрашена состраданием:
Там глубоко за твоими глазами
вижу бездонный страх отвесный
окруженный твоим взором
голосом живым
протянутыми руками
и мною.
Нельзя не столкнуться с твоей бездной.
(Перевод Т. Бек)
И напротив, гневом и отвращением дышат стихи, адресованные «сильному человеку» – торжествующему обывателю, потенциальному убийце. У Андерсена нет стихов о войне, но ростки фашизма он с поразительной остротою видит в человеке, чья «поступь не похожа на походку других, напоминающую ряд прерванных падений», в человеке, который «так же не мог быть ребенком, как и Эйфелева башня», в человеке, напыщенно изрекающем: «Мы есть множественное число от Я. НАМ – это МНЕ во множественном числе. И Я желаю НАМ быть в центре». Сила «сильного человека» – в слабости и разобщенности противостоящих ему – об этом писал еще Маяковский. Пишет об этом и Андерсен, объявляя, что «сильный человек» – вечный противник поэта и его друзей интеллигентов, но не забывая и о том, что
Мои друзья слабые и вялые…
Они страдают хронической деликатностью…
Они составлены исключительно из больных
вопросов…
Они улыбаются, когда им выбивают зубы,
и плачут, когда улыбаются президенты.
(Перевод М. Тюриной)
Конечно, при таком взгляде (в нем проявилась буржуазная ограниченность Андерсена) не то что о победе, но и о борьбе думать нечего:
Пускай другие борются с тобой сами.
Моя задача – осознать и отделить
свою опасную слабость перед тобой.
(Перевод М. Тюриной)
Но и это воспринимать буквально не надо: ведь говорил же поэт об отсутствии цели в творчестве, а здесь проговаривается, что задача все-таки перед ним стоит. И цель, и задачу объединяет, применительно к поэзии, высокое слово «назначение», поэзии без назначения просто не существует, и Андерсен, разумеется, прекрасно понимает это.
В плане гражданственном, равно как и в плане творческом, такое понимание оборачивается порывом к «настоящим людям» – патриотизм и социальный оптимизм, оказывается, идут рука об руку:
на севере пьют молоко
на севере о здоровье заботятся
на севере все в дым здоровые
на севере есть права
и никто ни на вершок не уступит.
(Перевод Т. Бек)
Истина, добываемая в этом путешествии к истокам, проста, как всегда просты бывают такие истины, что ничуть не лишает их общечеловеческой значимости:
Думается о жизни глубже
когда читаешь про дальние страны
Лучше понимаешь свою страну
возвращаясь и ощущая как весть
вот она какая на деле есть
внизу лежат поля.
(Перевод Т. Бек)
Этими словами, адресованными, разумеется, датскому читателю, но как бы и нашему, хочется закончить разговор об Андерсене и о современной датской поэзии в целом – закончить, чтобы на смену словам о стихах пришли сами стихи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?