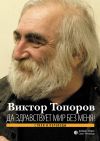Текст книги "О западной литературе"
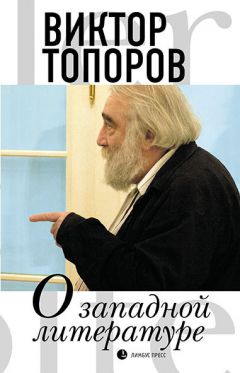
Автор книги: Виктор Топоров
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Виктор Леонидович Топоров
О западной литературе
Статьи, очерки
* * *
© В. Топоров, наследница, 2018
© В. Левенталь, состав., 2019
© ООО «Издательство К. Тублина», 2019
© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2019
© А. Веселов, оформление, 2019
Предисловие составителя
Идея этой книги пришла мне в голову около года назад – Виктора Леонидовича уже не было в живых, так что ответственность за появление сборника, за его составление и за все сопутствующие творческие и технические решения целиком лежит на мне.
Поначалу мне казалось, что все будет очень просто, – надо всего лишь собрать все предисловия и послесловия, написанные Топоровым и разбросанные по разным изданиям, и сборник будет готов.
Но «чем дальше в лес, тем толще партизаны» – гласит школьная пословица, и любой исследователь вам это подтвердит: стоит заняться чем-то вплотную, и конца-краю работе будет не видно.
Оказалось, что, кроме предисловий и послесловий, есть еще большой корпус статей, публиковавшихся в советских «толстяках» с конца семидесятых годов, в московских и питерских газетах и журналах в девяностые и нулевые и в различных интернет-изданиях в нулевые и десятые.
Текстов оказалось много, и среди них пришлось выбирать – чтобы сборник не разросся до двухтомника.
Именно поэтому в этот сборник не вошли статьи об искусстве перевода, статьи о книгоиздании (в том числе об издании зарубежной литературы), некоторые обзорные статьи, а также многочисленные статьи о литературе, трактующие вопросы общетеоретического характера, – когда-нибудь из них, уверен, составится отдельный очень интересный сборник. В частности, я не стал включать в книгу статьи «В поисках утраченного смысла. Зарубежная литература в отечественной периодике» («Литературное обозрение». 1989. № 1) и «И времена, и нравы. Зарубежная проза – 90» («Литературное обозрение». 1991. № 2) – вопросы, рассматриваемые в этих статьях, имеют отношение к практике перевода и русского (позднесоветского) книгоиздания более, нежели к истории собственно зарубежной литературы.
Таким образом, в книгу попали только статьи, рассказывающие о конкретных западных писателях и поэтах и их творчестве. Я также включил вышедшую в 1990 году в «Литературном обозрении» статью «Набоков наоборот» – как потому, что в ней идет речь именно об американском периоде творчества писателя, так и потому, что Набоков встраивается в ней в широкий контекст истории западной литературы. Есть в сборнике и статья о Юкио Мисиме – как часть сквозного для многих других статей рассуждения о фашизме.
Я не стал включать в книгу большое число заметок и рецензий о сравнительно малозначительных писателях и книгах, которые Виктор Леонидович публиковал в различных интернет-изданиях с конца нулевых и до самой смерти. На то, кроме малозначительности книг и писателей и соображений объема сборника, есть еще одна причина: все они легко доступны в Интернете; в книгу же хотелось включить прежде всего тексты, которых в Сети нет, – чтобы спасти их от забвения. Известно: сегодня, чего нет онлайн, того нет вообще, а пользоваться библиотечным каталогом умеет далеко не всякий даже студент-филолог.
После некоторых сомнений я все-таки оставил в книге две ранние статьи Виктора Леонидовича: «Спрашивают двадцатилетние. Заметки о молодой поэзии ГДР» («Литературное обозрение». 1979. № 9) и предисловие к сборнику «Из современной датской поэзии» 1983 года. (Первая из них, насколько я могу судить, вообще дебютная публицистическая публикация Топорова.) Обе статьи взрослый Виктор Леонидович и сам, вероятнее всего, назвал бы юношескими, наивными и беззубыми. Но мне показалось, что они важны в двух отношениях. Во-первых, в них высказано несколько принципиально важных для Топорова мыслей о поэзии; как видно, сложившись не позже конца семидесятых, его взгляды на сущность поэтического творчества и поэтического перевода в дальнейшем не столько менялись, сколько уточнялись. Во-вторых, в контексте этого конкретного сборника они дадут читателю более широкий спектр истории западного стихосложения в XX веке.
Подытоживая сказанное: я тешу себя надеждой, что мне удалось собрать в этой книге значительное большинство статей Топорова, посвященных крупным явлениям западной литературы, но не исключаю, что я мог что-то пропустить, не найти. И я, разумеется, буду благодарен читателям, которые укажут мне на пробелы в составе этого сборника.
Вторая проблема: расположение статей внутри сборника. Какой принцип соблюсти? Хронологический, по году выхода статьей? Алфавитный? Исторический, по дате рождения героев? У каждого наверняка есть свои достоинства, но я остановил выбор на принципе тематическом, разделив книгу на три части.
Первый блок открывается статьями о немецких поэтах-экспрессионистах, Готфриде Бенне и Эльзе Ласкер-Шюлер, которые сами собой складываются в цикл, продолжается статьями о трех великих англоязычных поэтах XX века, чтобы затем вернуться в Европу – к датской поэзии и поэзии ГДР, – но на существенно новом историческом витке.
Во втором блоке логика рассуждения от европейской прозы первой половины века через опыт фашизма и Второй мировой войны обращается к проблемам, волновавшим писателей середины века, к авторам, осмысляющим судьбу человечества в XX веке в целом, потом ненадолго задерживается на вопросах, связанных с восприятием западной «литературы запретного плода» позднесоветским читателем, и наконец переходит к рассказу о жанрах шпионского романа и детектива, включающему три развернутые статьи о жизни и творчестве Грэма Грина.
В этом втором блоке объемные «толстожурнальные» статьи перестроечной эпохи перемешаны с поздними интернет-заметками. Я осознаю, что одни монтируются с другими не лучшим образом: отчасти претерпела некоторые изменения творческая манера Виктора Леонидовича, отчасти перемены манеры по очевидным причинам требовало как время, так и смена формата. Однако идеального решения тут нет, и после долгих размышлений я предпочел тематическую стройность стилистической, понимая все недостатки такой склейки.
Наконец, третий блок состоит исключительно из поздних интернет-заметок и разделяется на две примерно равные части: в первой собраны комментарии к нобелевским вручениям – вместе они становятся как бы постскриптумом к истории литературы и литературного вкуса (потому что эта книга во многом и история вкуса), а во второй дана серия из четырех статей, опубликованных на сайте fontanka.ru в декабре 2011 – январе 2012 года и посвященных самым обсуждаемым переводным новинкам сезона; мне кажется, что эта серия как нельзя лучше подытоживает всю книгу, она представляет литературный вкус Топорова и его критический метод в миниатюре.
Многие статьи в этом сборнике изначально были опубликованы как предисловия или послесловия к конкретным изданиям, некоторые – как рецензии на конкретные книги. Ничего удивительного, что во многих статьях встречаются отсылки типа: «на страницах этой книги…», «в настоящем издании…», «на такой-то странице…». Там, где такие отсылки можно было безболезненно и незаметно убрать, я их убрал; во многих случаях такое вмешательство было бы слишком серьезным – пришлось бы переписывать Топорова, а этого я делать совсем не хочу. Поэтому я прошу прощения у читателя и предлагаю ему все же не выкидывать из головы повод и обстоятельства публикации той или иной статьи – чаще всего они очевидны, исходя из выходных данных первопубликации.
Также я не мог взять на себя смелость придумывать названия для тех статей, которые в оригинале названия не имели, а были просто предисловием или послесловием. В этих случаях вместо названия и перед статьей, и в содержании я позволил себе в квадратных скобках дать имя поэта или писателя, о котором в статье идет речь. В тех же случаях, когда название есть, но из него прямо не очевидно, о ком в статье пойдет речь, я позволил себе добавить имя героя статьи в квадратных скобках – исключительно для удобства ориентирования в книге.
Два слова о названии сборника. Виктор Леонидович однажды написал, что любой сборник, им составленный, начинался для него с названия: «Каждое из них не просто осмысляется и обыгрывается в соответствующем сборнике, но становится каркасом или, если угодно, сюжетом книги». Отсюда понятно, что любое название, которое я мог бы дать настоящему сборнику, за автора выдумывало бы его каркас, или сюжет. Такой смелости я на себя взять не мог. Вот почему книга носит название техническое – столь же техническое, как и это необходимое, но ничего к книге не добавляющее предисловие.
Наконец, от всей души благодарю Аглаю Топорову, Анастасию Козакевич и Анастасию Сопикову, помогавших при работе над составлением этой книги.
Вадим Левенталь
О поэзии
Поэзия эпохи перемен[1]1
В кн.: Сумерки человечества: Лирика немецкого экспрессионизма. М.: Московский рабочий, 1990. С. 5–16.
[Закрыть]
На поэтической карте мира есть еще множество белых пятен и для любителя стихов, и для переводчика, и даже для специалиста-филолога. Иные острова, и архипелаги, и целые материки очерчены условно или неверно; иные вершины и горные хребты только обозначены; до иных рек мы еще не добрались; иные леса представляются нам бесплодными пустынями, а иные пустыни привыкли мы воображать цветущими садами. Но есть и местности, во всех отношениях загадочные и неизведанные, подлинные белые пятна, которые еще только предстоит и отметить, и хотя бы с некоторыми неизбежными неточностями заштриховать. Такова и поэзия немецкого экспрессионизма.
Или, пожалуй, сравним ее с незнакомым городом, в котором нам предстоит блуждать и в котором так просто заблудиться. Город кажется вымершим, покинутым прежними обитателями или они всего-навсего крепко спят? Дорожные указатели, таблички с названиями улиц ничего не говорят нам: всё на чужом, неведомом, а возможно, и не существующем уже языке. Этот язык – язык новой для нас поэтической системы – предстоит освоить тому, кто захочет ориентироваться в дебрях и закоулках воздвигнутого и воспетого поэтами-экспрессионистами ночного города.
Да, но что же такое поэзия экспрессионизма? Чем она хороша? Почему ее нужно знать? Читатель поэрудированней, наморщив лоб, вспомнит, что были какие-то экспрессионисты и в России, но их давным-давно и, кажется, заслуженно позабыли. Кому говорит что-нибудь имя, например, Ипполита Соколова? А он был их признанным лидером. Несерьезные они какие-то поэты, второ-, а то и третьестепенные. То ли дело символисты! Или акмеисты! Или, наконец, футуристы!
Поздний символизм и, казалось бы, давным-давно исчерпанный натурализм, акмеизм, эго– и кубофутуризм, имажинизм, дадаизм, сюрреализм – все эти течения (а точней, их немецкие аналоги) вобрал в себя экспрессионизм, став единым и единственно мощным литературно-художественным движением первой трети века и достигнув апогея своего влияния в так называемое «экспрессионистическое десятилетие» (1911–1921), завладев умами писателей и вкусами читателей, создав новый тип художественного мышления и мироощущения и найдя для него – особенно в поэзии, в драматургии и в живописи – адекватную форму. Экспрессионизм был по преимуществу выражением творческого сознания и воплощением творческих поисков молодежи, но влияния его не избежал, в той или иной степени, ни один крупный немецкий художник слова: в самом начале пути, как случилось с совсем еще юными И. Бехером и Б. Брехтом; в середине его, как маститые уже на рубеже веков братья Генрих и Томас Манны; или в конце, как гениальный Р. М. Рильке, решительно отошедший начиная с 1914 года от прежних, «парнасских» (ориентированных на французскую школу чеканного письма) канонов творчества и сделавший широкий шаг по направлению к экспрессионизму. Теперь, в исторической перспективе, понятно, что даже такие, никогда не декларировавшие своего тяготения к экспрессионизму писатели, как Франц Кафка или, скажем, Густав Мейринк, творили безоговорочно в его русле.
Немецкий экспрессионизм – в своей всеохватности – явление в истории мировой литературы XX века уникальное. Сопоставить его можно разве что с русским символизмом, но последний существовал и развивался в постоянной полемической соотнесенности с реализмом с одной стороны, с опошленной литературой декаданса – с другой и с новейшими авангардистскими течениями – с третьей. Экспрессионизм победил, едва возникнув, решительно и безусловно и не знал, пока не сошел на нет, достойных соперников. Каждый поэт, каждый писатель «экспрессионистического десятилетия» был, просто не мог не быть, если не в теории, то на практике, приверженцем этого направления. Даже полемически заостренные против экспрессионизма и экспрессионистов вещи, как, например, сатиры Карла Крауса, несли на себе отпечаток все той же творческой манеры!
Различия, противоречия, зачастую и антагонизм в политических и философских убеждениях между, например, леволиберальными, тяготевшими к идеям немецкой социал-демократии поэтами-«активистами» (по названию журнала «Акцион» – «Действие», – вокруг которого они группировались) и анархически отрицавшими современное им общество вкупе с его культурой и традициями поэтами-«визионерами» и иррационалистами лишь подчеркивали эстетическую, да и онтологическую общность их духовных поисков, равно высокую интенсивность переживания мига, вечности и «сумерек человечества», чреватых вселенскою катастрофой. И если поэзия символизма (в немецкой традиции – неоромантизма) была выражением завершенности определенной эпохи – сравнительно благополучного XIX столетия, то поэзия экспрессионизма и его искусство в целом предугадывали, свидетельствовали и оплакивали время ломки, сдвига, взрыва, время роковых, кровавых и необратимых перемен.
Апокалипсис, Страшный суд и его неумолимое наступление – ключевой образ поэзии экспрессионизма. Человечество, сбившееся с дороги в ночных закоулках исполинского города, одичавшее и «всей оравой, гурьбой и гуртом» (О. Мандельштам) бредущее на убой. Город – как место действия, как место преступления и в то же самое время как исполнитель преступления и его жертва. Город, в котором правят демоны насилия и наживы. Город – и опустевшие небеса над ним: бог то ли умер, как изрек Ницше, то ли ослеп, оглох и утратил малейший интерес к происходящему на земле; то ли карает за грехи, то ли – еще ужасней – карает без вины, карает по изначальной злобности своей природы. Война – бойня – способ совершения преступления, бессмысленное и братоубийственное взаимоистребление миллионов. Так писали экспрессионисты до Первой мировой войны и тем более во время нее. Многие из них погибли на полях сражений, покончили с собой или сошли с ума, собственной жизнью обеспечив трагическое подтверждение своим беспощадным пророчествам.
XIX век сулил, казалось бы, скорое торжество разума, науки, цивилизации, культуры. Голоса одиночек (Ницше, Кьеркегора, Дарвина), предрекавших человечеству неслыханные потрясения – и не столько на социальной, классовой, сколько на иррациональной, а то и биологической основе, – расслышаны были весьма немногими. Стихийное, массовое, стадное – обесчеловеченные – начала дремали в душах, лишь изредка оборачиваясь кровавыми, но локальными катаклизмами. Человек не был «по природе своей добр», как мечталось французскому Просветителю, но стремился стать добрее. XX век оставался непредсказуемым и невозможным. «Сумерки человечества» отошли, казалось бы, в безвозвратное прошлое.
Размеренности и устойчивости жизни человечества, не лишенного, впрочем, определенных изъянов, но явно вставшего на путь исправления, соответствовала гармоническая уравновешенность художественной формы, соответствовал метод реализма. (Критического реализма, как пишут обычно у нас, подчеркивая принцип целесообразности, заложенный в его основе.) Но совсем иные художественные средства потребовались, чтобы воплотить реальность кошмарных сновидений и кошмарные сновидения реальности. Изображение и отображение жизни в свойственных ей формах здесь не срабатывало, потому что сами формы были несвойственны, были противны той жизни, которая наступала – и наступила. Реальность деформировалась настолько, что понадобился деформирующий ее художественный метод. Понадобился экспрессионизм.
Называя экспрессионизм методом, я, разумеется, несколько упрощаю картину. Методом, призванным выразить и воссоздать кризис всемирной цивилизации в XX веке, стал модернизм, а экспрессионизм был его немецкой версией.
Здесь необходимо подчеркнуть, что получивший широкое распространение в немецкой литературе уже после Второй мировой войны «магический реализм» не только связан с экспрессионизмом генетически, но и представляет собой во многом его возвращение и возрождение. Таков, например, «Город за рекой» – ключевое произведение «магического реализма», принадлежащее перу Германа Казака, начинавшего когда-то как поэт-экспрессионист.
Существует множество определений экспрессионизма – как художественного направления, как творческого метода, как глобального мировидения. Правда, почти каждое из них сопровождается оговоркой о том, что на самом деле дать единое определение экспрессионизма невозможно.
Определения предельно противоречивы, что и понятно, особенно если учесть, что часть из них принадлежит восторженным сторонникам течения, а другая часть – его яростным хулителям, вплоть до нацистских идеологов, объявивших экспрессионизм мерзостью и свидетельством духовного вырождения. Почти такого же мнения об экспрессионизме придерживались, кстати говоря, и марксисты тридцатых годов, причем далеко не всегда «вульгарные». Особенно веско звучал в хоре упреков «слева» голос Георга (Дьёрдя) Лукача, да и Брехт – в теоретическом и политическом плане – отрекся от экспрессионистских идеалов своей юности.
Следует также учесть, что суждения и оценки современников во многом не совпадают с той картиной, которая складывается в исторической перспективе. Последнее соображение относится как к абсолютной – аксиологической – ценности того или иного произведения, так и к вытекающей (или не вытекающей) из того или иного сочинения плодотворной литературной традиции. В разговоре об экспрессионизме, как мы увидим ниже, об этом полезно помнить.
На мой взгляд, наиболее удачны те определения, в которых содержание термина «экспрессионизм» раскрывается через сопоставление и (чаще) противопоставление его реализму (что отражено выше), импрессионизму (импрессионист стремится передать впечатление, а экспрессионист – выразить внутреннюю суть предмета, послужившего ему темой), символизму (искавшему идеальную сущность вещей, тогда как экспрессионизм ищет истинную), школе психологического письма. Только сумма негативных признаков, сумма несходств позволяет вычленить экспрессионизм из мирового литературного и художественного процесса как нечто цельное и единое. При этом надо не упускать из виду, что многие писатели и поэты не были экспрессионистами на протяжении всего творческого пути: они входили в экспрессионистический период и выходили из него навстречу новым исканиям. Так, Т. Дойблер начинал как символист, что не могло не отразиться и в его стихах позднейшей поры. А Б. Брехт, став реалистом и осудив, как уже сказано, экспрессионизм, сохранил в своем творческом арсенале многое из того, чему научился в бурные молодые годы.
И еще одно. Как почти во всех художественных течениях, направлениях, школах и т. п., имевших концептуальный характер, так и здесь с декларациями, программами и обоснованиями творческого метода выступали главным образом второстепенные представители экспрессионизма. То есть тогда, современникам, они, разумеется, не казались второстепенными: имена, допустим, Курта Пинтуса, Курта Хиллера, Роберта Мюллера широко гремели. Но время расставило все по своим местам, и оказалось, что художественно наиболее значимое и актуальное творческое наследие оставили в первую очередь «молчуны» – те, кто не мог, или не хотел, или же просто не успел высказаться по основным теоретическим вопросам, – Г. Гейм, Г. Тракль, Э. Ласкер-Шюлер. Единственное исключение здесь – Г. Бенн, но и он начал высказываться о сущности экспрессионизма, лишь когда пик успеха этого направления остался далеко позади.
Да еще в этом контексте можно упомянуть Ф. Верфеля, разнородное в жанровом отношении творческое наследие которого (стихи, проза, драматургия) представляет собой бесспорную ценность. Верфель высказывался много, хотя и весьма непоследовательно.
Был ли экспрессионизм попыткой революции социальной или всего лишь революции эстетической? Таким нарочито снижающим высоту проблемы вопросом задаются критики и противники экспрессионизма уже в наши дни. Как будто самой по себе эстетической революции не достаточно, для того чтобы воздать должное литературно-художественному направлению хотя бы в чисто историческом плане.
Но вопрос этот возник не на пустом месте. Совершая эстетическую революцию, экспрессионисты претендовали на нечто большее и более универсальное: как, возможно, никто другой до них, они заговорили об ангажированности литературы (не пользуясь, правда, этим вошедшим в употребление много позже термином), о Поэте и Революции. Едины они были, однако, лишь в интересе к данной проблеме, а отнюдь не в ее трактовке. Способна ли поэзия изменить мир? Или же ей достаточно выражать нерушимую и постоянно крепнущую «волю к переменам»? И, разумеется, к действию. Хватит теоретизировать – действуйте! Этот призыв красной нитью проходит сквозь журнальную полемику «экспрессионистического десятилетия», и адресован он в первую очередь самим ее участникам. Задачу стать чернорабочим «в сооружении всечеловеческого монумента объединенных народов Европы» так или иначе формулируют для себя И. Бехер, В. Газенклевер и многие другие. Но наряду с этим – и зачастую из тех же самых уст – звучат слова о священной миссии поэта, Пророка, посредника между людьми и Богом, и о том, что святость этой миссии не оставляет места для интереса к практической общественной деятельности. «Не следует ли списать со счета как пустую риторику политически окрашенные утопические видения, равно как и страстные жалобы на ужасы мировой войны», – иронически (и, если вспомнить его собственное творчество, саморазоблачительно) вопрошал Ф. Верфель. «Быть человеком из стада – это свинство», – провозглашал Л. Рубинер.
Религия экспрессионистов (если отвлечься от идеи «злого и мстительного бога», частью из них отождествляемого с сатаной) носит по преимуществу пантеистический характер. Во многом – и руссоистский. Здесь ключевыми становятся понятия «общность» и «общество». Общество, и вовсе не только буржуазное, капиталистическое, империалистическое, построенное на эксплуатации человека человеком, но любое, тем или иным способом организованное общество разрушает изначальную общность людей, и в восстановлении или в возникновении последней экспрессионисты видят путь к реализации своей социальной утопии. Путь довольно туманный. Ведь, с одной стороны, надо изжить «эгоизм индивидуума» и подавить в себе индивидуальность, а с другой – возвыситься над толпой и противопоставить себя ей в ницшеанском духе. Этого противоречия не снимали и уроки марксизма, полученные прежде всего «активистами», – шел неустанный и, скорей, безуспешный поиск онтологических и религиозных дефиниций.
Так экспрессионисты пришли к пониманию творчества как своего рода эрзац-религии: творец стал Творцом. Творцом и, как сказано выше, отчасти и сатаною: князь тьмы и его царство олицетворяли для экспрессионистов не столько устрашение и наказание, сколько бессмысленное и бесконечное земное страдание. Страдание, являющееся неотъемлемой частью и основным источником всякого творчества.
Сравнительно широкое распространение получила в экспрессионистских кругах идея «логократии» – мироустройства, в котором знание стало бы властью, искусство – религией, а союз просвещенных индивидуумов – искомой и желанной общностью. Нужно ли уточнять, что такие мечты были способны лишь увести в сторону от реальности?
Чрезвычайно интересна трактовка экспрессионистами главного в европоцентрической мифологии образа – Распятого Бога. Божественность Христа не отрицалась ими, но воспринималась как второстепенный признак. Сын Божий выступал в их сочинениях или как идеал человека, или как идеал страстотерпца. Не причаститься Христу, но стать Христом на крестном пути страданий стремились они, игнорируя кощунственность подобных устремлений. Отсюда, например, «толпа христов» у Г. Гейма. «Живое христианство» (перевожу по аналогии с «живой церковью») включало в себя и мысль о том, что Христос – творение человеческое, и только человеческое. «Темный бог» (по определению Г. Бенна) пребывал как бы в ином измерении.
Десакрализация бога влекла за собой обостренный интерес к проблематике вождя и толпы. Вождь превращает толпу в народ, изгоняя из нее бесов «муравьиности» и «насекомости», и ведет к указанной им самим цели. Подобные настроения причудливо переплетались с социал-демократическими и марксистскими идеями; так, например, К. Хиллер противопоставлял пролетария плебею, утверждая, что из пролетариев, как из глины, можно слепить народ, а из плебеев нельзя. Народ, «слепленный из плебеев», удалось создать и повести за собой Адольфу Гитлеру.
Экспрессионисты встретили Первую мировую войну со смешанными чувствами. Пацифистские настроения, преобладавшие в их среде, стремление к всечеловеческому братству, ощущение себя жителями «земшара» – все это заставляло их резко протестовать против всемирной бойни. И уж подавно не найдешь у них шовинистических и милитаристских стихотворений, какие писывал у англичан Киплинг, у нас, увы, – молодой Маяковский (и многие другие), а у немцев – далекий от каких бы то ни было литературных группировок Бёррис фон Мюнхгаузен. Но не могли они и не увидеть в ужасах войны исполнения самых страшных своих пророчеств – самых страшных и в то же время самых главных, – потому что тяга к разрушению мира явлений, ставшего, на взгляд экспрессионистов, всего лишь собственной маской, была органически присуща их философии и творчеству.
Показательна в этом смысле гибель Георга Тракля – одного из наиболее блестящих представителей раннего экспрессионизма. Поэт распада и разрушения, поэт, вослед за Бодлером и Рембо и наравне с Георгом Геймом и Готфридом Бенном открывший для себя и для читателя эстетику безобрáзного, Тракль был на войне санитаром и в таком качестве сопровождал обоз раненых, став свидетелем мучительной смерти всех, кого вез. Это было сродни кошмарам, пронизывающим его творчество, – и это было сильнее их. Потрясенный поэт то ли нечаянно, то ли сознательно принял смертельную дозу наркотика.
Но не менее показательна и нелепая смерть Г. Гейма, утонувшего во время катания на коньках в озере, что, кстати, было предсказано им в одном из стихотворений. Как показательно и случившееся много лет спустя, в 1945 году, самоубийство жены Г. Бенна, ставшее в самые последние годы чуть ли не решающим доводом в пользу модной ныне теории «Орфея и Эвридики»: поэт приносит в жертву свою возлюбленную и она становится медиумом в общении с иными мирами… Здесь важно подчеркнуть единство предчувствия трагедии и ее наступления. И мировая война отразилась в творчестве экспрессионистов в первую очередь именно так.
Антибуржуазный же пафос, изначально присущий творчеству экспрессионистов, получил в годы войны новый могучий импульс. Империалистическая война за передел мира, принесшая страдания и гибель миллионам, обогащала финансовых и промышленных воротил. «Убийцы в опере» В. Газенклевера, «Варьете» Я. ван Годдиса, многие стихи Берта Брехта (в экспрессионистический период творчества он называл себя так), И. Голля, Л. Рубинера, П. Цеха проникнуты ненавистью к сильным мира сего. И здесь вновь – и уже с другим знаком – напрашивается параллель с ранним Маяковским. Сатирически обличительную окраску имеют и антивоенные, пацифистские стихи И. Бехера, несколько абстрактные в силу своей формальной усложненности «депеши» поэта-телеграфиста А. Штрамма и т. д.
Двумя точками притяжения для экспрессионистов, а в определенном смысле и двумя полюсами, были журналы «Штурм» («Буря») и «Акцион», издававшиеся соответственно в 1910 и 1911 годах. Политическая и эстетическая программа журнала «Акцион» была уже, целенаправленней, радикальней; художественные достижения круга журнала «Штурм» – значительней. Вокруг «Штурма» группировались поэты-визионеры, вокруг «Акциона» – социал-демократы, либералы и пацифисты. Итоги «экспрессионистического десятилетия» были подведены в 1919 году, когда вышли две полемически направленные друг против друга антологии – «Сумерки человечества» (круг журнала «Штурм», подготовлена К. Пинтусом) и «Товарищи человечества» (круг «Акциона», подготовлена Л. Рубинером). Судьбы этих антологий сложились по-разному: «Сумерки человечества» по праву признаны главным вкладом экспрессионистов в немецкую и европейскую сокровищницу поэзии. «Товарищи человечества» остаются памятником былым иллюзиям.
Связано это с тем, что истинные достижения немецкого экспрессионизма в поэзии принадлежат в первую очередь поэтам-визионерам. Это их творчество отозвалось в поколениях, определив – после насильственного перерыва в годы нацизма – судьбы австрийской и западногерманской поэзий. Творческое наследие Г. Гейма, Г. Тракля, Э. Ласкер-Шюлер, творческий пример Г. Бенна, ставшего после Второй мировой войны подлинным властителем дум для вчерашних солдат, взявшихся за перо, чтобы выразить безраздельное отчаяние и горечь, уроки молодого Брехта, яростные стихи юного Бехера, несколько хрестоматийно знаменитых стихотворений ван Годдиса оказались не только жизнеспособны, но и жизнетворны. А творчество «активистов» осталось историко-литературным фоном.
Как, когда и почему завершился экспрессионистический период в немецкой литературе? На эти вопросы тоже нет однозначных ответов. Поражение немецкой революции, поражение Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне, кризис, разруха, инфляция, «пивной путч» и зыбкая, двусмысленная демократия Веймарской республики, изначально обреченная на перерастание в тоталитарный режим (хотя и необязательно нацистского типа), – все это ознаменовалось в литературе и искусстве произведениями сатирического и главным образом иронического свойства, облегченностью, эстрадностью, не оставлявшей места для пророческой серьезности экспрессионистов. Ведущим направлением в поэзии стала так называемая «новая вещность» – Эрих Кестнер, Теодор Крамер (последний в Австрии) и многие другие, заведомо заземлявшие и тематику своих произведений, и методы ее подачи. На этом фоне поэзия экспрессионистов выглядела несколько схематичной, ходульной и не пользовалась былым успехом. Нельзя забывать и о том, что к началу двадцатых большинство ведущих экспрессионистов завершили творческий путь, а часть из них (Иван Голль, Ганс Арп) попала под влияние новейшей французской поэзии, в которой господствовала техника «автоматического письма». Экспрессионизм умер как единое направление – так, во всяком случае, рассуждают многие.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?